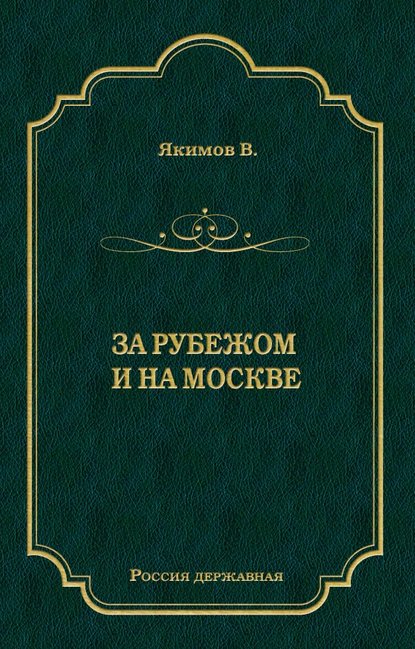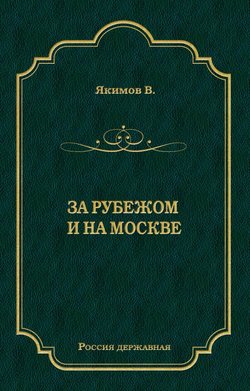
000
ОтложитьЧитал
III
«Эх, кабы доктор Вирениус здесь был, – думал про себя Баптист, сидя у постели Яглина, – он скоро вылечил бы его!»
Впрочем, он напрасно так думал. Здоровая натура Яглина скоро взяла верх над болезнью. Роман пришел в себя, но был так слаб, что должен был еще лежать в постели.
Баптист крайне обрадовался, когда Яглин открыл глаза. Этот славный малый очень привязался к молодому московиту и полюбил его, как родного брата.
– Баптист, – тихо позвал солдата Яглин. – Ты говоришь, что она исчезла?
– Тссс… господин. Не надо об этом говорить, – сказал Баптист. – Поверьте, она скоро найдется. Вы только выздоравливайте поскорее, а потом мы с вами обыщем всю Францию и найдем ее, чего бы нам это ни стоило.
Яглин быстро перевел на него свой взгляд:
– Ты мне поможешь в этом?
– Разве об этом нужно спрашивать? – вместо ответа задал вопрос Баптист.
Потянулись для Яглина томительные дни. Силы прибывали слабо, и он все еще не мог покинуть постель. Попробовал он было раз сделать это, но тотчас же покачнулся и упал бы на пол, если бы его не подхватил в ту минуту Баптист.
Все члены посольства ежедневно бывали у него, Прокофьич даже по целым часам не уходил, и Баптисту приходилось без церемонии брать его за плечи и выталкивать вон, когда он видел, что Яглин утомлялся и хотел отдохнуть от болтовни Прокофьича.
– Эх, Романушка!.. Жаль, что мы теперь с тобою не в Москве!.. – болтал Прокофьич. – Там бы ты живо поправился. Есть у меня там одна знакомая Божия старушка… Знатно она всякие болезни заговаривает.
– Что же, колдунья она какая? – с улыбкой спросил Яглин, который во время своего пребывания на чужбине в достаточной мере отрешился от многих суеверных понятий московских людей того времени.
– Ну, колдунья не колдунья, а так, знающий человек, ведомая старушка. Она тебе что хочешь сделает: и обморочит, кого хочешь, и узорочанье[21] может напустить, на кого пожелаешь…
– Охота тебе, Прокофьич, верить во всю эту чертовщину! Обманывают эти люди вас, темных людей, и ничего они сделать не могут, ни порчи напустить, ни от нее избавить.
– Не молви этого, Романушка. Об этом и в старых записях говорится.
Спор затянулся бы надолго, если бы Баптист не заметил, что Яглин ослабел, и не выпроводил подьячего.
Роман скоро справился бы со своим недомоганием, если бы его не грызла тайная мысль о том, где Элеонора, что с нею? Мысли, одна другой страшнее, приходили ему в голову, и он не знал, на которой остановиться и – главное – что делать. Порой он хотел вернуться назад в Байону и разузнать обо всем на месте. Но едва ли это привело бы к чему-либо. Баптист говорил же, что и лекарь Вирениус также исчез оттуда. Быть может, он отправился на поиски дочери. Порой же у Яглина мелькала мысль бросить посольство и искать Элеонору по всей Франции. Но тут его останавливала мысль об отце, о невыполненной мести. И он не знал, на что решиться.
Наконец он решил попросить совета у подьячего и, чуть не плача, рассказал Прокофьичу об исчезновении Элеоноры.
– Да, вон оно какое дело! – задумчиво произнес подьячий. – Дело зело темное. Тут как мозгами ни раскидывай, ничего не выдумаешь! – И он в бессилии развел руками. Наконец, еще подумав несколько времени, он сказал: – Одно только остается: ехать в их стольный город Париз. Там ведь скорее узнаешь, что во всех концах королевства ихнего делается. А назад за каким лядом ты поедешь? Все равно ничего не узнаешь и никакого толка не добьешься.
Яглин решил, что, пожалуй, это будет самое лучшее.
IV
Тринадцатого августа, в восемь часов вечера, царское посольство покинуло Бордо и село на судно, которое направилось по Гаронне в Блей. В последний прибыли ночью, там, по московской привычке не спешить, отдыхали целый день, после чего поехали дальше.
Власти встречных городов уже были извещены о проезде царского посольства, и повсюду городские старшины являлись к посольству с поклонами. При этом они задавали вопросы второстепенным членам посольства:
– Какие подарки более всего сделают удовольствие посланникам?
Так как хозяйственной частью посольства ведал подьячий, то он всегда отвечал: «Вино и водка», – и им дарили и то и другое.
Так как вина и водки в распоряжении Прокофьича было много, то он все время был пьян или полупьян. Потемкин, не знавший про это обилие вина, недоумевал, каким образом подьячий ухитряется напиваться. Но в Блуа это разъяснилось – и Прокофьичу сильно досталось от посланника.
За обедом, данным в честь посольства городским советом, один из членов последнего обратился к Потемкину с вопросом, почему посольство возит с собою так много бочонков с вином, тогда как последнего всегда можно достать в любом французском городе сколько угодно. Потемкин сначала не понял было, про какое вино его спрашивают, и лишь тогда, когда советник сказал ему, что и они, со своей стороны, чтобы сделать приятное посольству, подарили ему несколько бочонков вина, догадался, в чем дело.
– Прокофьич, – строго сказал он подьячему, – это ты вина в подарок требуешь?
– Не изволь гневаться, государь, – ответил перепуганный подьячий, – в этой проклятой стороне ничего больше хорошего и нет, кроме вина. Ну и просишь у них всегда его.
– Оттого ты постоянно и пьян ходишь? Добро же.
И дальше Потемкин поступил чисто по-московски: он попросил присутствующих оставить их одних и, когда все вышли, собственноручно нанес подьячему несколько ударов палкой.
Но к вечеру этого же дня подьячий все-таки опять напился пьяным.
На другой день он отправился шататься по городу и вернулся домой с каким-то монахом-доминиканцем.
– Земляка, Романушка, нашел! – еще издали крикнул он Яглину. – Из наших краев… Оно не то чтобы совсем земляк, ну а все-таки…
Когда они подошли ближе к изумленному Яглину, монах поклонился и произнес:
– Битам панув[22].
– Поляк он, Романушка, поляк, – сказал подьячий. – Ушел он с Литвы да и постригся здесь в монахи. Хоть и не совсем он земляк нам будет, а все же соседи…
Новые знакомые разговорились.
Поляка звали Урбановским; оказалось, что он знает Потемкина, так как во время последней войны с Польшей находился в Люблине во время знаменитой осады этого города, которую вел Потемкин. Вскоре после заключения мира между Москвой и Польшей Урбановский уехал из последней в чужие края искать счастья, попал во Францию, где соблазнился привольной жизнью, которую вели там монахи, и поступил в доминиканский монастырь.
– Своди его, Прокофьич, к посланнику, – сказал Яглин, – все же как будто свой человек.
Урбановского повели к Потемкину.
– Привел к тебе, государь, человека одного, – начал объяснять Прокофьич. – Из Ляшской он земли, а живет здесь. Ушел со своей родины на чужбину в монахи.
– Поляк? – спросил Потемкин монаха.
– Поляк, – подтвердил тот.
– Чего же ты ко мне-то привел его? – спросил посланник подьячего.
– Все же, государь, как будто свой человек, к тому же недавно из своей земли. Может, что и поспрошаешь его о том, что в их краях да на Москве делается.
– А ведь и впрямь! – спохватился Потемкин. – Как же я раньше не догадался об этом? Поди-ка распорядись, Прокофьич, чтобы нам подали вина. Ты ведь пьешь, отче? – обратился он к Урбановскому. – Вы ведь, ляхи, пить-то куда зело горазды.
– Ну и вы, московиты, от нас в этом не отстаете, – улыбаясь, ответил Урбановский.
Вино было подано – и посланник с Урбановским сели за стол.
Урбановский довольно хорошо объяснялся по-русски, и посланнику легко было говорить с ним.
– Ну, рассказывай, отче, что делается у нас, в Москве? – спросил он, наливая в кубки вино. – Все ли спокойно в нашем царстве у его царского величества Тишайшего царя?
– Не все спокойно, – ответил доминиканец, принимаясь за вино. – Слышно у нас было, что ваши монахи в Соловецком монастыре возмутились против царя. Говорят, что не хотят новую веру принимать.
– Какую новую веру? Ах, да: Никоновы новшества. Вишь ведь до чего довел этот Никон: даже молитвенные люди и те поднялись! Ох, наделал этот патриарх смуты Руси на долгие годы! Не кончится это одним возмущением Соловков: много еще людей на защиту старой веры поднимется, много раздора-спора будет…
Втайне Потемкин все еще держался старой веры и «никоновской ереси» не признавал, хотя внешне во всем подчинялся и признавал новшества. Поэтому теперь он даже обрадовался в душе, услыхав о возмущении в Соловках. К сожалению, Урбановский не мог дальше удовлетворить любопытства посланника, так как не знал, чем окончилось это возмущение.
Сообщил ему Урбановский еще о том, что у черкасов[23] в Гадяче была рада, собранная Брюховецким, на которой было положено отойти от царя и отдаться под покровительство турецкого султана.
Про Польшу Урбановский рассказал, что там воцарился Михаил Вишневецкий, избранный сеймом после несчастливо царившего сына Сигизмунда, Яна Казимира. Этот последний король Польши из дома Вазов сложил с себя корону и удалился во Францию. В его свите покинул родину и Урбановский, поступивший в доминиканский монастырь, подобно своему бывшему королю, тоже сменившему порфиру на рясу и сделавшемуся аббатом бенедиктинского монастыря.
Несмотря на скудость новостей, закинутому на чужбине русскому все же было приятно их слышать.
– Ну а турки как? Не слыхал, отец, ничего? – осторожно задал он монаху вопрос, так как вопрос о турках и представлял собою предмет царского посольства к французскому королю.
Но оказалось, что Урбановский ничего об этом предмете не знает.
Затем Потемкин послал за Румянцевым, чтобы и тот послушал рассказы Урбановского. В заключение разговора Румянцев отвел в сторону Потемкина и сказал ему:
– А знаешь что, Петр Иванович, я тебе скажу? Взять бы нам этого ляха к себе в посольство.
– Это вместо Романа? – спросил Потемкин.
– Вместо Романа. Роман-то бог его знает когда оправится, а толмач-то нам нужен. Ведь другого такого, как этот лях, не скоро найдешь. А Гозен-то только один латинский язык и знает.
Мысль советника посольства показалась Потемкину целесообразной, и он сделал тут же это предложение Урбановскому. Через несколько дней, выговоренных на размышление, монах пришел опять к Потемкину и сказал, что согласен на его предложение.
V
Яглин оправлялся медленно. Иногда болезнь снова обострялась – и он опять принужден был ложиться в постель, так как им овладевала страшная слабость.
Это случалось в те дни, когда у него снова являлось отчаяние, что он более никогда не увидит Элеоноры.
Баптист все время ухаживал за ним, как преданный слуга, и все сокрушался, что нет Вирениуса.
– Тот скоро вылечил бы вас, – говорил он, хотя в душе сам хорошо сознавал, какое лекарство более всего помогло бы молодому московиту.
Между тем посольство понемногу подвигалось вперед и прибыло в Орлеан. В это время был Успенский пост, и русские строго соблюдали его. Французов крайне удивляла их набожность. Так в Поне, по случаю праздника Преображения, они четыре часа молились на коленях. В Орлеане же наступило окончание поста – и постные кушанья теперь подавались только по средам и пятницам.
Но, несмотря на это, кормить русских представляло немало затруднений.
Дело продовольствия находилось в руках подьячего, и городским поставщикам провизии приходилось иметь дело с ним, при посредстве, конечно, Урбановского. Очень часто происходили такие сцены. Поставщики предлагают ему зайцев и кроликов.
– Что вы? – возражает Прокофьич. – Разве станет православный человек есть такую пакость кошачьей породы?
Предлагают голубей.
– Уж истинно нехристи! – возмущается подьячий. – Голубя, невинную птицу… «И Дух в виде голубине…» Тьфу, басурманская сторона!
От телят, если им было менее года, он тоже отказывался, объясняя:
– Теля до года – еще нечистая скотина.
Вследствие этого для русских приходилось поставлять уток, гусей, разную другую птицу и поросят.
Через пятнадцать дней посольство прибыло в Бург-ла-Рен.
– Ну, брат Семен, – сказал Потемкин своему советнику, – скоро конец нашим мытарствам. Давай дела в порядок приводить.
И посланники несколько суток подряд, работая даже ночью, просидели, приводя все в порядок. Они по многу раз прочитывали данные им в Посольском приказе «наказы», заучивали наизусть слова речей, которые им придется говорить, обдумывали каждое слово в них, чтобы после не дать повода к нареканиям на себя, чтобы не положить порухи на царское имя, которое надлежало им держать «строго и грозно». Пересматривались верительные грамоты и другие бумаги. Затем дошла очередь до проверки подарков.
– Сабля турецкая, – читал один из младших подьячих, – ножны ала бархата. А рукоять литой работы, позлащена. А по бархату три камня больших: буруза[24] персидска, синь-камень, да лазоревый камень, да зеленый камень поменьше – измарагд[25]. Да еще осыпаны ножны мелкими жемчугами веницейскими[26]. А рукоять сабли – единорог-зверь, а изо лба у него рог торчит и идет тот рог к клинку.
Потемкин взял саблю в руки и с любовью провел рукою по клинку, блестящему огнем от луча солнца.
– Мой подарок, – не без гордости сказал он. – С этой саблей я воевал с Польшей, с нею осаждал Люблин. А теперь пусть она также послужит во славу и честь царя нашего, как служила ему и на войне, – и, нежно погладив ее еще раз, он отложил ее в сторону.
– Нож кривой с золотым узорочным письмом. А что писано, про то неизвестно: надпись по-турецки. А ножны мягкие, синей кожи, – продолжал перечислять подьячий. – А рукоять вся серебряна, орлиной птицей литая, и вместо глаз два бурузовых камня вставлены.
Нож был отложен в сторону. За ним следовало еще несколько таких же ножей, турецкой, черкесской и персидской работы.
– Парчи золотой с цветами и птицами, золотом тканными, десять кусков. Соболей сибирских больших два десятка, мелких тридесять шкурок. А на каждой из них свинцовая печать.
Столь ценимые в западных государствах русские соболя перетряхивались, шерсть слегка приглаживалась рукой, чтобы она несколько отливала блеском, и откладывались в сторону, рядом с парчой.
За этими подарками следовали другие, в виде серебряных подков, наборной сбруи с серебряными и позолоченными бляхами, серебряные стремена, уздечки и так далее. Все это тщательно проверялось по записям, чистилось, приглаживалось и с бережностью укладывалось назад в мешки, ящички, короба и сундуки.
Когда работа была окончена, был уже вечер. Из комнаты, где она производилась, ушли все, за исключением посланников и подьячего, которые принялись за просмотр и проверку различного рода бумаг, грамот и верительных писем.
В допетровской Руси Посольский приказ щепетильно относился к тому, чтобы не было сделано «порухи» чести и достоинству Русского государства, которое соединялось с личностью его царя, так что оскорбить чем-либо царя – значило оскорбить и все Московское царство. Поэтому понятны строгие наказы Посольского приказа посланникам, чтобы они «имя царево строго и грозно держали». Проступиться против этого – значило навлечь на себя немилость царскую, гнев и опалу, а то и поплатиться головою. Неудивительно, что русские посланники строго придерживались всех мелочей этикета, а также и буквы данных им предписаний и обнаруживали порою мелочную придирчивость в исполнении их.
Потемкин и Румянцев внимательно перечитали посольский наказ, вникая в каждую букву его, очень часто споря друг с другом из-за какого-нибудь слова, так как смысл официальных бумаг того времени вообще не отличался удобопонятностью. Расстались они поздно и разошлись по своим комнатам.
Потемкин не тотчас же лег, а сел у открытого окна и задумался, глядя на темное, усеянное звездами небо.
Несколько лет тому назад он отправился со своим отрядом пеших и конных людей на войну с Польшей. Там он отличился при осаде Люблина и по возвращении в Москву был удостоен милостивого царского слова и шубы с царского плеча.
– Пойдет теперь Петрушка Потемкин в ход, – шушукали про него разные незамеченные, но чающие движения бояре и дворяне. – Шутка ли, шуба с царского плеча!.. Чего доброго – и на Верх попадет. В милости будет. То-то тогда нос задерет!.. Не подступайте близко…
В то же время каждый из них про себя думал: «А на всякий случай не мешает забежать вперед. Авось пригодится. А от поклона голова-то не отвалится», – и все старались рассыпаться в любезностях перед Потемкиным, под разными предлогами зазывая его к себе в гости, чтобы угостить его там на славу и добиться его расположения.
Петр Иванович хорошо понимал, что значат все эти заискивания и какая им цена. Разнесись малейший слух про то, что он не только не в чести у царя, а просто последний забыл о нем, как вся эта свора сейчас же бесцеремонно отвернется от него. Но все же все эти льстивые заискивания приятно щекотали его самолюбие, и иногда даже он думал, что, чем судьба не шутит, быть может, и он когда-нибудь займет в сердце царевом такое же место, какое сейчас занимает Артамошка Матвеев.
Царь, однако, не забыл его, и когда было задумано посольство к французскому королю, то он же первый и вспомнил про него.
– Он там, в Польше, насмотрелся немало. Знает толк, как вести дело с западными государями. Когда мир с поляками заключили в Андрусове, он как старался, чтобы Смоленск нашему государству достался, – сказал Тишайший, и о назначении Потемкина было решено.
Это, конечно, еще больше возвысило Потемкина.
Но теперь предстояло с честью выполнить главную задачу: успешно исполнить то поручение, которое было возложено на посольство, от чего зависело все дальнейшее в жизни и судьбе Потемкина. А исполнить это было нелегко. Еще Бог его знает, каким окажется двор французского короля и пойдет ли он на те предложения, которые сделает ему царское посольство?
VI
На другой день к посланнику пришел де Катё и сказал им, что приехал представитель короля, Берлиз, чтобы приветствовать посольство от его имени. Это известие взволновало Потемкина.
«Вот оно… начинается!..» – подумал он и приказал устроить встречу королевскому посланнику как можно более пышную и торжественную.
Когда оба посланника, разодетые в свои блестящие парчовые одежды, сидели, окруженные всею посольской свитой, вошел королевский посланный. Сняв шляпу и сделав поклон, он произнес:
– Мой государь прислал меня сюда, приказав приветствовать посольство, явившееся к нам из далекой Московской земли.
Это вступление пришлось посланникам не совсем по сердцу: Берлиз почему-то избегал в своих словах упоминаний о московском царе. Но так как придраться в словах посланного было не к чему, то они промолчали.
– Мы тронуты вниманием короля, – перевел французу слова Потемкина Урбановский, – и благодарим его от имени нашего великого государя.
– Как здоровье посланников и благополучно ли они доехали? – был следующий вопрос Берлиза.
Этот вопрос доставил удовольствие Потемкину, и он благодарил Берлиза от лица всего посольства. Но следующие слова королевского представителя поставили Потемкина в некоторое затруднение.
– Королевские министры, – сказал Берлиз, – просят посланников вручить им через меня свои верительные грамоты.
– Верительных грамот у нас нет, – ответил Потемкин, – а есть только письмо великого государя московского. А что в нем писано, про то мне неведомо.
В это время Прокофьич вынул из мешка какие-то бумаги и из-за голов свиты показал их Потемкину.
Последний догадался, в чем дело, приказал подать себе эти бумаги и, показывая их Берлизу, произнес:
– Вот моя подорожная[27], а в ней прописано, что я, стольник Петр Потемкин, и дьяк Семен Румянцев являемся на самом деле посланниками великого государя московского.
Берлиз посмотрел на поданную ему подорожную, возвратил ее, после чего сказал:
– Если у вас имеется письмо к нашему светлейшему королю, то наши министры просят вас вручить его им, и они передадут его королю.
– Письмо царское дать мы не можем, так как нам приказано вручить его королю вашему в собственные его королевские руки, – ответил Потемкин. – Поэтому нам надобно видеть короля, а если этого нельзя, то мы уедем сейчас же обратно.
Берлиз, не имея никаких инструкций относительно дальнейшего по этому вопросу, больше не настаивал, но пожелал видеть список лиц, составляющих посольство.
– Зачем это нужно? – возмутился Потемкин.
– Прошу извинения, – сказал Берлиз, заметив это, – но если бы наш светлейший король был официально предварительно уведомлен о вашем прибытии, то этого не случилось бы.
– Сделать это раньше было невозможно, – ответил Потемкин, – так как от нашего царства до земли вашей зело изрядно.
Берлиз больше не настаивал и, откланявшись, уехал.
Проводив его, Потемкин обратился к советнику:
– Ну, брат Семен, дело началось. Как-то окончим его? Дай-то Бог окончить его хорошенько во славу нашего великого государя!
«Больно-то она тебе нужна, эта государева слава, – подумал про себя Румянцев. – Знаем, на что колотишь: из стольников в воеводы захотелось пробраться. Смотри только, не сорвись!»