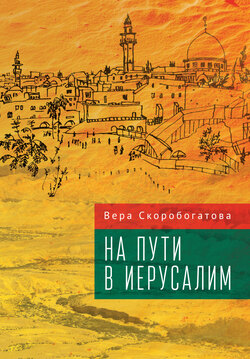Дочь антиквара Голубятникова
В юности мать Аннушки, – миловидная и задорная карелка Катя Ватанен, – работала медсестрой в районной поликлинике, где познакомилась с ее отцом – продавцом антиквариата Кириллом. Девушка выросла в глухой карельской деревне, на мысу Ахти, где бурливая речка впадает в глубокое озеро, скрывающее острые скалы. Катины предки, былинные рунопевцы, пришли на мыс Ахти в смутные времена, в поисках мирного будущего. С виду богатыри, они обладали добродушным нравом и не желали участвовать в войнах. Укрываясь в глуши, строили деревни, засевали поля и рыбачили, продолжая складывать свои песни.
Когда на свет появилась Катя, на мысу Ахти, кроме ее бабушки-знахарки, никто не пел и не помнил рун. Однако его обитатели существовали в единении с природой, как во времена былинного Вяйнемёйнена*. Деревня не ведала электричества, и жители, находясь во власти стихии, воспринимали как нечто целое – себя, подводный мир, космос, солнце и качавшиеся на ветру деревца. С малых лет Катя разговаривала с водяными течениями, звездами и валунами. «Я чувствую, как лесные духи играют со мной», – признавалась она.
Ее отец рыбачил, мать работала в поле, но после рождения Кати бесшабашные родители начали пить. Бабушка забрала девочку к себе. Она обожала внучку, красиво заплетала ее светлые, прямые, как солома, волосы. Детство Кати нельзя было назвать печальным. Ее закрытый мирок всегда был чист и уютен, наполнен пирогами с морошкой и расцвечен интересными книгами – о приключениях отважных героев и о любви. Травничеству Катя учиться не захотела. Бабуля не настаивала:
– Знахарями становятся по зову крови. Значит, тебе этот дар не передался, как и твоей матери, – с грустью признала она. – Им будет обладать твоя дочка… Жаль! Ведь я уже не сумею поведать ей нужные тайны! Неумеха может причинить много вреда – и себе, и другим. В ней заклокочет никому не понятная сила, но девочка не узнает, как с ней управиться. Она даже не поймет, в чем дело… Эта сила уничтожит ее врагов, а ее саму будет сводить с ума.
– Кто же ее враги? – Катерина изумленно раскрыла рот, а бабушка устало вздохнула:
– В Библии написано: самые опасные твои враги – те люди, с кем ты живешь.
– Милая, родная, зачем ты выдумываешь такие страшные сказки? – ужаснулась школьница. – Неужто и ты – мой враг?
– Поживешь – увидишь, – в голосе бабули сквозила печаль. – Запомни накрепко: есть только одно средство от разрушения – любовь. Люби свою дочку, какой бы она ни была! Даже уродливую, больную, глупую, ленивую, злую – люби без памяти! Обнимай, хвали, говори ей ласковые слова. Только тогда разрушительное течение потихонечку повернет вспять.
Будущее еще казалось Катеньке выдумкой, и упрямица забыла слова старушки.
– Что еще за дочка? – пожала она плечами. – Я родилась девочкой, и всегда ей буду. Я не хочу вырастать, и еще кого-то рожать. Ты что!
– Время не спросит твоего разрешения, – усмехнулась бабушка, вглядываясь в пустоту. словно в собственное девическое лицо.
В скромном бревенчатом рае не случалось происшествий. Лишь изредка его омрачала зависть к чужим модным обновкам, но бабушка учила Катю бороться с неприятными чувствами:
– Вещи временны, – говорила она. – А ты береги здоровье и красоту, они открывают огромные возможности. Ты вырастешь и всем утрешь нос. У тебя будет всё, что захочешь».
Катя верила. Но, едва она закончила школу, бабушка умерла. Вскоре за ней последовали родители. Девушка осталась одна и ей не с кем было советоваться. Собираясь разбогатеть и найти красивого мужа, она отправилась в Питер, поступила в медучилище и поселилась в общежитии.
Петербург представился ей невероятно большим и диковинным. Он превосходил Петрозаводск, когда-то казавшийся Кате пределом мечтаний. Но жизнь текла здесь совсем иначе, от суеты рябило в глазах, в беспрерывном гуле тонули голоса звезд и духов. Ощущение себя, как важной части вселенной, смазалось и временами совсем пропадало. Потоки несущихся куда-то людей и непрестанно сигналящих машин пугали Катю, она отчаивалась найти дорогу. Чтобы успокоиться, она воображала себя сидящей на кочке в родном лесу и шептала, подражая бабушке:
«Вот облаков отраженье. в темной пучине. Кротко, тихо несет теченье… просмоленную лодку – сквозь запах пробившихся листьев и свист разомлевших птиц. Миг – и рай превратится в грохот и смену лиц! Силы мне дайте, духи! Жизнь на куски не рвите! Как вписать прежнюю сущность в новую жизнь, скажите! Как пройти испытанье – словно тайгу, напролом? – Мы, – отвечают, – не знаем. Лес и вода – наш дом.»
Питер не принимал Катю, словно выплевывал ее. Она побледнела и исхудала. Ей хотелось вернуться к родному карельскому озеру с его заливами и скалистыми островами. К родной бурлящей речке с острыми порогами. На милый сердцу мыс Ахти, вокруг которого, как центра мироздания вращались солнце и пышные облака. В бревенчатый дом, повернутый окнами на закат, где зимними вечерами при свете лучин они с бабушкой пели руны.
«Но что мне там делать? – увещевала она себя. – Останусь старой девой, и буду, зевая, до самой смерти коптить на берегу щук. Нет, лучше уж мне потерпеть».
Постепенно Катя освоилась в чуждом городе, устроилась работать медсестрой, и лет в девятнадцать встретила Кирилла Голубятникова. Он был коренным петербуржцем, знал толк в старинных вещах, но коммерческих способностей не имел. Юной Кате он виделся значительным и загадочным, словно хранил, так же, как и она, древние тайны. Только совсем иные, принадлежавшие царям и высоким вельможам.
– Катя! Ты только глянь на эти костяные скульптурки, шкатулки, столик, – с горящими глазами вымолвил он, увлекая девушку вглубь магазина, с благоговением проводя пальцами по резным ободкам старинных предметов. – Ты слышишь, как они шепчут о своих мастерах и величавых владельцах, ушедших в мир иной?
Кроме костяных предметов, которым поклонялся Кирилл, на полках стояли другие, единственные в своем роде вещи огромной стоимости. Катя блаженно слушала бархатный голос молодого антиквара, однако ждала от него не од ушедшим векам, а любовной ласки, и мечтала, чтобы его изящные руки касались не магазинного старья, а ее золотистых прядей. Она с кокетством шепнула, – для того, чтобы угодить ему:
– Косторезы были уважаемыми людьми.
– О, ты не представляешь, насколько! – азартно подхватил он и затараторил. – Даже Петр Первый увлекся резьбой и изваял табакерку из кости мамонта! Гляди, гляди, я покажу тебе – вот она! Чудно, правда? Эту грубую штуку создали руки знаменитого царя! Только вообрази, как сложно мне было ее достать!
Кирилл ожидал, что девушка ахнет от восторга, но Катеньку антикварные вещицы не трогали. От них пахло ветхостью и тянуло чихать. Не замечая этого, Кирилл продолжал теребить рукав ее простого платьица:
– А вот еще, посмотри, приклад ружья! И костяная золоченая поварешка! О, милая Катя! Я жажду иметь эти штуки дома! – Вид у него был заговорщицкий, словно у мальчишки, открывшего важный секрет.
Кате показалась глупой его склонность тащить домой старые вещи с тошнотворным запахом.
«Дом – не музей!» – мысленно воскликнула она. – «Даже бабушка хранила старье и травы на чердаке!»
Катя вообразила его четырехкомнатную квартиру на улице Савушкина своим семейным гнездышком, модно обставленным, с новой, пусть и не позолоченной, кухонной утварью. С абстракциями на стенах и ярко-оранжевыми оконными рамами.
Ее прагматические мечты не совпали с реалиями Кирилла. Но нелюдимый антиквар, с роду не имевший друзей, открыл ей душу, и женская интуиция подсказала Кате: откровенность избранника стоит хотя бы притворно ценить, чтобы закрепить симпатию к себе. Девушка постаралась изобразить на лице пылкий интерес к истории, и была вознаграждена за терпение. Кирилл вытащил из пыльной картонной коробки странное приспособление для волос: внутрь большого круглого украшения нужно было пропустить толстую прядь, и закрепить ее снизу острой шпажкой.
– А пока… Пока я подарю тебе эту заколку из мамонтовой кости! – торжественно произнес он так, словно вручал кольцо. – Возьми! Пожалуйста, носи ее, а я буду тобой любоваться!
Катя не понимала, зачем ей эта костяная штуковина, и что в ней красивого, но радовалась теплому отношению молодого человека и тому, что воодушевляет его своим присутствием. Большая, кремового цвета, заколка была неудобна. Вся ее поверхность оказалась испещрена изображениями резвящихся рыб. Тонкие светлые волосы девушки запутывались в узорах и рвались под тяжестью украшения. Но парень восхищенно захлопал в ладоши:
– Не снимай, носи всегда! Ты ведь выросла в лесу, Катя? Ты ловила рыбу? Тебе очень идет этот мамонт! Ты такая миниатюрная, ладненькая, круглолицая! Ты как настоящая якутская девушка, только беленькая!
– Я – карелка! – с вызовом напомнила ему Катя.
– Все равно! – он, довольный, перебил ее. – Мамонт – якутский!
Катя без памяти влюбилась в его глубокие темные глаза, кудрявые светлые волосы, неулыбчивое лицо и высокую худую фигуру. Несколько месяцев Катина душа пела во весь голос, точно в ней воскресли предки-рунопевцы:
«Разве могу я Тебе рассказать, как ожидала звонков, замирая? Как я порой, своё тело лаская, руки любила Твои представлять… Как отмечала на карте зеленой Наши проспекты, кафе и мосты… Как я хранила потрепанный зонтик, что надо мною распахивал Ты. Как подбирала слова молчаливо, письма писала дрожащей рукой. Как я считала сказочным дивом всё то, что связано было с Тобой!»
Кирилл не был ни внимательным, ни нежным, но счастливой Кате хватало в ту пору его присутствия и вечерних посиделок в сокровищнице его магазина. Она внимала лишь своим фантазиям и заоблачным чувствам, в то время как он жил иными, не понятными ей иллюзиями. Это была юношеская страсть, когда двое, не интересуясь внутренним миром друг друга, бросаются в пучину новизны, физического влечения и собственных вымыслов.
Едва узнав, что жена беременна, Кирилл начал фанатично ждать сына, заранее называя его Павликом. Нежно целуя Катин живот, он расплывался в блаженных улыбках, и тихо шептал: «Павлуша, сынок!»
Катя просила сделать ремонт, но муж уговорил отложить дела на потом – чтобы еще не родившийся ребенок не дышал пылью. Кирилл дарил Катюше цветы, непрестанно ласкал ее и готовил ей вкусности. Она была счастлива всю беременность. Но то, что вместо Павла Кирилловича она родила двух девочек, возмутило мужа до бешенства. Обожаемая жена вмиг стала чужой, словно совершила предательство. Между супругами пролегла глубокая пропасть. Разочарованно глядя на дочек, родитель будто спрашивал: «А это еще откуда?» Он не брал их на руки, и отказался придумывать имена. Измученная родами, сбитая с толку и напуганная поведением мужа, Катя подолгу рыдала, укрывшись в большом шкафу, и никого не хотела видеть.
«О, где вы, мои всемогущие покровители? – отчаянно вопрошала она, сидя на куче мятой одежды. – Почему вы покинули меня в этой нелепой беде? Болотный анчутка* забрал мое счастье! Он сочинил смертельную шутку, и вместо сына дворянского подсунул мне своих кучерявых бесенят! У него их, словно гороха, на всех хватит… Не жалко. Коварный анчутка явился, хоть я не поминала его, и отнял у меня любовь! Что теперь будет?!»
Брошенные в кроватке малышки истошно кричали. Катя глядела сквозь щелку шкафа на их спутанные золотистые кудряшки, будто на клубок ниток, прикатившийся от соседей… и с горечью вспоминала мшистые карельские болота.
Девочкой летним утром бегала она за ягодами. Под горой, над болотом плыл серый туман, шевелился и подрагивал, как липкий кисель хватал за ноги влажными лапами. «Глупый туманище, я тебя не боюсь! – нарочито хохотала Катюшка, размахивая плетеной корзинкой. – Скоро высоко взойдет солнце, загонит тебя в нору, и не выпустит до самого вечера!» На самом деле, она страшилась утонуть в вязкой топи, и, прыгая с кочки на кочку, спешила к суше, где в высокой траве начиналась тропинка. Изношенные тапочки намокли и соскальзывали с зеленого сочного мха к темной водяной бездне. Потревоженные лягушки лениво плюхались в болотную жижу и потешно дрыгали лапками, но Кате в каждом шорохе мерещились зловредные анчутки, норовившие схватить ее. Бабушка рассказывала, что их дом, построенный из гнилушек и старых веток, находится в центре трясины:
– Пол там выстлан удивительно ровным и мягким мхом, и хозяева с удовольствием зазывают к себе гостей, путая и сбивая с пути.
Девочка вздрагивала, теребя приколотую к ситцевому платью булавку: водяные анчутки подарков не принимали, и заговор против них не действовал, зато, как любая нечисть, они боялись железа.
– Анчутки почуют его за пять саженей, и уйдут прочь, – объяснила бабушка, но Кате все равно было страшно.
Наконец, Катюшка вылезала на берег, к земляничной поляне. Оглядываясь назад, она видела, что у песчаной мели, между торчащими из воды травинками, беспечно плавают бурые головастики и мечутся водомерки. Над ними висит комариная стая, и легкий ветерок гонит ее вглубь болота, а потом возвращает к суше.
Покинув Карелию, она скучала по лесам и болотам, даже по страху, что одолевал ее в глухомани.
«Неужели с тех самых пор анчутки следят за мной? – внезапно пришло в голову взрослой Катерине. – Не сумели утянуть в болотную пропасть, так решили погубить меня другим способом! Ведь я уже давно не прикалываю к одежде обережных булавок. Я забыла об этом.» И вся обида на Кирилла, всё безумство родовой боли, всё разочарование в семейной жизни выплеснулись в эту крамольную мысль, став криком души: «Вы все здесь, в этом гниющем Питере – вероломные анчутки! Ан. Антиквар, его зловредная мать и его агрессивно орущее отродье!»
На другой день Катя записала имена новорожденных как производные от «анчуток» – «Анисья» и «Анна».
По-своему Катя любила девочек, но считала их своей бедой, и ощущала себя виноватой перед Кириллом за их рождение. Эти давящие чувства передались дочкам. Даже много лет спустя Анисья и Аня старались вести себя тихо и не попадаться отцу на глаза.
Катерина не испытала от материнства счастья, словно провалилась после родов в черную пропасть. Кормление грудью стало тяжкой повинностью. Молока не хватало, добывать его приходилось со слезами и, казалось, под средневековыми пытками. Она злилась, когда голодные дети плакали, вынуждая ее к новым страданиям. Казалось, она навеки обречена на истязания. Юная мать не желала подходить к дочкам, но всё же делала это через силу. «Я должна любить этих анчуток, потому что так положено, – упорно внушала она себе. Но раздражение брало верх. – Ах вы, ненасытные болотные пиявки!»
Катя старалась быть хорошей матерью и следовать советам врачей, но все чаще ей в голову лезли мысли о том, чтобы выпрыгнуть из окна, или сбросить дочек с балкона. С их рождением супружеская жизнь необратимо изменилась. Теперь у Кати оставалось лишь одно желание: уснуть и никогда не пробуждаться. По утрам она надевала якутскую заколку из мамонтовой кости, но даже это больше не привлекало к ней мужа. Глядя пустыми глазами в потолок, она вспоминала руны своей бабушки:
«Снизойди, творец, на помощь, милосердный, будь защитой в этом очень трудном деле, в этот час, такой тяжелый! Чтоб от боли мне не сгинуть, от мучений не скончаться…»
Кирилл критиковал Катерину, ругал ее за слёзы, но ухаживать за детьми не помогал. А она продолжала любить его, и начала думать, что сама виновата в плохом к себе отношении: «Ведь я измучена и безразлична к супружеским утехам. Я плачу, вместо того, чтобы развлекать и ублажать мужа…»
После рождения детей Катя на работу не вышла. Хлопоты по дому давались ей тяжело. Она и думать забыла о модной мебели и новой посуде. Интерьер сумбурно дополнялся дорогими, удушливыми антикварными вещицами на усмотрение мужа. Апатия и отчужденность укоренились в Кате на долгие годы. Она редко бывала в хорошем настроении. При разговоре с ней дочкам казалось, будто мать кричит или отчитывает их. Теперь и Кириллу, и Катерине всё на свете виделось скверным. Ничем невозможно было их порадовать. «Куда исчезли красота жизни и пылкость нашей любви? Как я угодила в эту мерзкую западню? – сокрушалась Катя. – Лесные и озёрные духи позабыли меня, и звезды молчат, став далекими и едва заметными». Казалось, одни анчутки окружают прекрасную карелку, и дожидаются ее смерти. А Кирилл, бредя во сне, повторял странное слово: «Айталына!»
Катя не знала о прошлом своего антиквара – о том, что долгое время до их знакомства муж провел в якутской тундре, под другим именем, с другой женщиной. Она пугалась, словно слышала чужое колдовское заклятие, и, дрожа, шептала в ответ заговор своей бабушки:
«Приди, вождь непобедимый, на помощь! Славен ты, как заступник! Приведи наши души ко счастию горнему!»
Тем временем, сёстры Голубятниковы подрастали, и Анисья в недоумении спрашивала Аню:
– Почему мама с папой всегда печальны и недовольны?
Та горестно вздыхала:
– Мы не нужны им.
Катерина как будто забыла ласковые слова. Аня никогда не слышала от нее «я люблю тебя, доченька» или «ты у нас хорошая». Мать называла детей анчутками, Анькой и Ниськой. Ругала, если те сутулились или пачкались и никогда не ласкала. Лишь изредка вечерами, сидя около их кроваток, шептала, целуя светлые растрепанные макушки:
– Почему он такой? Любой мужчина был бы рад стать отцом этих послушных красавиц. И тихо, вполголоса напевала карельские песни бабушки, те, что ей помнились с детства:
«О, ты, дева водопада! Ты в реке живешь, девица. Ты скрути покрепче нитку из вечернего тумана. Протяни ее сквозь воду, сквозь потоки голубые… Чтоб по ней мой челн стремился, чтоб неопытные даже отыскать могли дорогу.»
– Ма, давай уедем от Кирюшки в твою деревню – дерзко сказала однажды Анисья. – Героини кино всегда уезжают из дома, если плохо живётся.
– Но я люблю его, – прошептала дрожащими губами мама. – И не хочу никуда уезжать. Кирилл – ваш отец, и вы тоже должны любить его.
– Почему? – не поняла Аня. – Как его любить, если он не любит нас?
– Он любит, – всхлипнула Катерина. – Просто у каждого любовь бывает своя.
Чтобы отвлечь девочек, она отдала их в музыкальную школу. Сначала хотела устроить в художественную, чтобы занятия проходили тихо, но у сестер не обнаружилось способностей к рисованию.
Учиться музыке было трудно. Занятия сольфеджио обессиливали даже усидчивую Аню, а егоза Анисья все время порывалась бросить дополнительную школу. Она с радостью прекратила бы ходить и в общеобразовательную, но понимала, что ее все равно заставят окончить девять классов, и покорно тащила эту обузу. Занятия давали сестрам право каждый день запираться в своей комнате, уходя в детский мирок. Домашние упражнения на пианино, сбивчивые, без конца повторявшиеся обрывки мелодий злили угрюмого Кирилла. И все-таки обучение продолжалось.
Антиквар испытывал к дочерям глубокую неприязнь, но, сознавая, что сам разрушает семейную жизнь, пытался обеспечить девочкам благополучное будущее.
Зовущая в тундру
Заслышав ненавистные музыкальные повторения, хозяин дома удалялся в кабинет. Там стояла шкатулка из кости мамонта и висела на стене старая медвежья шкура. С люстры свисали на нитках пожелтевшие медвежьи когти, широкие, плоские и загнутые, будто серпы. Пахло сушеными травами и грибами. Под письменным столом в пыли стояли банки необычных солений, сквозь стекла проглядывали шляпки поганок. Кирилл набирал в стакан одному ему известных снадобий, немного разбавляя их водой, и включал старый этнографический фильм «Зовущая в тундру». Это была документальная лента о кочевнице, ставшей его настоящей, тайной любовью и родившей ему дочь-метиску. Дочь, в которой он души не чаял, которую навсегда потерял! Оттого новые дочки показались ему не настоящими, муляжами первой. Они рассчитывали заменить ее, и сердце антиквара ныло от оскорбительных посягательств. Не настоящей была и жена Катерина, носившая костяную заколку покинутой им якутки. Жена – лишь та, которую во сне он называл Айталыной!
Кирилл спрашивал себя: «Почему я тоскую по Айталыне? Неужели так сильна моя к ней любовь? Но тогда почему не вернуться?» И отвечал: «К чему этот самообман? Ни начальство, ни мать не позволят уехать. И Айталына меня не примет. Уверен, она давно заменила меня другим приезжим блондином. А я… Был свободным в Якутии и чувствовал, что живу. Восприятие обострилось, словно я дикий зверь или полубог. Я любил, рисковал, пускался в сумасшедшие экспедиции. Я был по-настоящему счастлив. Но люди и обстоятельства вынудили вернуться. Быстрокрылая юность исчезла, бросив меня на острые камни реальности. Нет уже ослепления бескрайними горизонтами, нет веры в необыкновенное, яркое будущее. А что человек без слепой, вдохновенной веры? Бессильная букашка. Бороться с реальностью бесполезно. Теперь я даже не человек, а так, бессмысленная тень своего короткого якутского прошлого. Я ничего не могу исправить. Мне не стать свободным и не вернуться. Не вымолить прощения. Не избавиться от новой, неестественной, не понятно, как получившейся семьи, которую я не ощущаю своей. Она должна была помочь мне обогатиться, но стала несносной обузой. О, да, покидая Якутию, я все еще видел впереди свет, надеясь разбогатеть и стать хозяином самому себе! Я хотел подарить Айталыне сокровища, и показать нашей маленькой крошке огромный мир. Лишь они моя семья, другим отчего-то не хватает места в сердце. Только большие деньги могут дать мне теперь свободу. Я думал, что уезжаю на время, и вернусь в Якутск победителем. Но – увы! Почему я ничего не смог изменить? Судьба издевается надо мной, дает одних дочерей. Роди Катька парня, я получил бы наследство немецкого прадеда. Я отдал бы ей часть этих средств: как-никак, она старалась стать хорошей женой, пусть ничего и не вышло. А сам… Я ушел бы туда, куда зовет сердце. Но теперь – тупик. Есть ли смысл оплодотворять других женщин, если в завещании указан лишь законнорожденный сын? Я умру с любимым именем на губах!»
Автор сюжета не получил ни призов, ни наград, и кинолента ушла в архив. Однако Кирилл сумел отыскать ее как единственную память о лучших днях своей жизни.
У склона лесистой сопки стояла высокая яранга, и жарко горел костер. Стелющиеся клюквенные плети, усыпанные неспелыми ягодами, плотно обвивали оголенные корни деревьев. Обнаженная девушка с длинными, ниже бедер, распущенными черными волосами, готовила на огне пищу и шептала якутские заговоры. Мшистые камни защищали ее от ветра. С краев старого закопченного котла, шипя и искрясь, капал тюлений жир.
Роман Айталыны и режиссера-неудачника случился до приезда Кирилла в Саха, и в кадре она была чуть моложе, чем он запомнил ее. Антиквар ревновал, и всякий раз мысленно сворачивал шею прыткому москвичу, одновременно благодаря его за возможность лицезреть теперь Айталыну, и переживать вместе с ним близость любимой якутки. Голубятников слушал мелодию низкого гортанного голоса, не сводя глаз с оголенной налитой груди смуглой дикарки, с манящего бархатистого паха, едва прикрытого кусочком оленьей шкуры. И плакал, вспоминая жгучую страсть объятий. За этим занятием его не раз заставала Катя, но, так и не смекнув, что на экране соперница, пожимала плечами и уходила. Лишь с неприязнью подмечала про себя: «Опять сосет свои мухоморы!» Однако трогать его мерклые банки не решалась и ничего не говорила о пугавших ее мутных жидкостях, видела, что Кирилл провожает ее раздраженным взглядом. А глаза его красны и безумны.
Ради Айталыны он, неразумный молодой человек, увлекся шаманством, надеясь стать значительной персоной на ее родине.
– Нельзя просто так, беспардонно врываться в жизнь другого человека, – строго произнесла прекрасная якутка, от взгляда которой у Кирилла колотилось сердце. – Нужно принести с собой сокровенный дар – судьбоносный смысл. Нужно осчастливить своим поступком кого-нибудь, кроме себя! Так обнаружь, будь любезен, это благословение свыше! Или ступай, откуда пришел!
По едва приметной таежной тропе сбитый с толку юноша взобрался на перевал, откуда открылся темно-синий, позолоченный лунным светом простор. Широкая долина с горными грядами уходила за горизонт. По ней змеилась река. У Кирилла захватило дух от невиданных раздолий! Лунный шар, зависший над темными облачками, тайга внизу, взгорья, вся якутская земля показалась парню родной, вызывала сладкие мысли о будущем счастье, и ничто не предвещало его погибели.
После долгого созерцания суровой природы и высокого звездного неба Голубятников вышел к шаманской тропе. Хвойный лес то сгущался, то расступался перед путником, не ведающим опасностей, пока тот не ступил на берег быстрого полноводного ручья.
Кирилл разложил костер. Глядя на потрескивавшие в пламени сучья, он размышлял, о чем бы замысловатом и задушевном наврать диковинной пташке, чтобы запутать и обаять ее. Что величественное и многозначительное может он отыскать в глухой тайге? Что может сойти в глазах Айталыны за сокровенный дар и судьбоносное благословение? «Смешные эти девушки, право! В какие только бредни они ни верят! Особенно – моя!» Но всё чаще эти мысли сбивались раздумьями об истинном смысле его приезда в Якутию и о молодой жизни в целом. Внезапно из-за высоких камней появился длинноволосый с проседью человек в накидке бурого меха с пришитыми гигантскими, похожими на крючья, зубами и костяными бусинами. У колен на длинном ремне болталась полотняная сумка для трав. Шаман, щурясь, смотрел на белобрысого чужака, словно ощупывал его изнутри, обернулся в темноту леса, подступавшего к ручью, затем по-хозяйски подошел к костру:
– Что ты делаешь здесь, дуралей? Твоя невеста заждалась тебя на белом ложе, в теплой городской хижине.
Он оперся о тотемный посох, который венчала вырезанная из кости медвежья голова. Его взгляд пронзил оцепеневшего Кирилла.
– Ищешь ответы, которых нет? Твои духи носят тебя над тайгой, кружат по лесу, когда люди спят? И ты ни разу не заблудился?
Шаман говорил неторопливо, нараспев, низким и властным голосом.
– А если я тоже хочу стать шаманом? – вдруг пролепетал юноша. – Я хочу дарить Айталыне и другим людям важные вещи – такие, как здоровье и вечная молодость. Я смотрю на звезды и чувствую: у меня хватит на это сил!
Незнакомец усмехнулся:
– Учти: этот выбор – на всю жизнь. Тут тебе не кулинарный техникум!
– Я вижу! – упрямился Голубятников. – Не отвергай меня!
– Как медведь, ты будешь бродить по горам, глотать кедровые орехи и ягоды, переворачивать камни в поисках насекомых. Во влажных луговицах станешь выкапывать съедобные корневища. Ты научишься быстро и бесшумно передвигаться по склонам обрывов, вдоль извилистых рек, по узким уступам скал. В дороге я покажу тебе, как другим ученикам, истоки человеческих болезней! Ты научишься выбирать нужные для исцеления грибы и травы, варить зелья и летать на сухих корневищах лиственниц!
Шаман пронзил Кирилла насмешливым взглядом.
– Да, я буду! – не задумываясь, поклялся юноша, воспринимая происходящее как игру.
– Но не каждый, кто идет за мной, станет шаманом. В конце пути тебя ждет испытание на зрелость. Ты либо пройдешь его, либо злой дух расщелин овладеет тобой, закружит голову и разрушит твою жизнь.
Резко развернувшись, человек-медведь шагнул вглубь леса.
Поправив взъерошенный чуб, Кирилл беззаботно устремился за шаманом. В сказки он не верил, и о подвохах человеческой психики пока не знал.
Антиквар откинулся в кожаном кресле и тяжко вздохнул, вновь и вновь прокручивая кадры, где обнаженная Айталына готовила в котле оленину. В душе саднили незаживающие раны. «Вот и скрутил меня дух расщелин, – подумал он. – Хотя не дух это вовсе! А сложные потрясения, с которыми не справляется разум. Мне не сладить с тем, что запечатлели ум, душа и тело! Всё, что пережил, осталось внутри навечно! Я умею варить мухоморы и обращаться медведем, и летать на плетне. Я могу вызвать образ любимой женщины и наяву коснуться ее тела. Но я всегда не в ладах с собой! Негде взять сил. Я уже не хочу жить дальше».