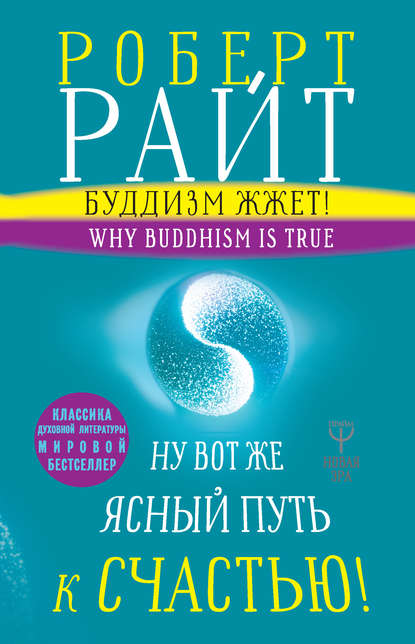Буддизм жжет! Ну вот же ясный путь к счастью! Нейропсихология медитации и просветления
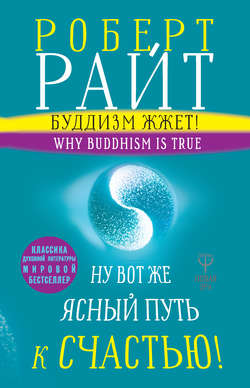
000
ОтложитьЧитал
Медитация внутреннего озарения
Строго говоря, увидеть эти камни мне помогла не просто медитация осознанности. Практика, которой я занимался, относится к конкретной школе, известной под названием «випассана». Это древнее слово обозначает ясное видение, обычно его переводят как «прозрение». Поэтому организацию, где я проходил ретрит в 2003 году, можно было бы назвать не «Общество медитации прозрения» (Insight Meditation Society), а «Общество медитации випассаны».
Учение випассана уделяет так много внимания осознанности, что некоторые люди, говоря «випассана», подразумевают осознанность, и наоборот. Однако разница между этими понятиями есть – едва уловимая, но очень важная. Медитацию осознанности можно использовать в разных целях, например, чтобы снизить уровень стресса. Но в традиционном понимании випассаны главная ее цель куда более грандиозна и заключается в достижении внутреннего озарения. И не в смысле понимания чего-то нового для себя. Цель в том, чтобы увидеть истинную природу реальности, и буддистские тексты, которым уже более тысячи лет, четко описывают, что имеется в виду. Согласно этим текстам, випассана – это понимание «трех признаков существования».
Два из них, в принципе, достаточно просты для понимания. Первый – невечность. Ничто не вечно – и с этим трудно спорить. Второй признак существования – это дуккха, страдание или неудовлетворенность. И кто же из нас не страдал и не чувствовал себя неудовлетворенным? Цель медитации випассаны – не понять эти два принципа, а переосмыслить их, увидеть в настолько «высоком разрешении», чтобы глубоко принять то, как они пронизывают все сущее.
А вот третий признак, безличность, или, как его еще называют, «бессамость», «не-я» – совсем другое дело. Понять его далеко не просто[5]. Однако, согласно догматам буддизма, осмысление безличности – важнейший шаг к тому, чтобы увидеть мир в истинном свете, с такой ясностью, которая вымостит вам дорогу к просветлению. Свои первые шаги к осмыслению безличности я сделал на том самом ретрите. Теперь-то я понимаю – это началось примерно тогда, когда я пожаловался наставнику, что мой разум никак не может успокоиться и не дает мне сосредоточиться на дыхании.
Казалось бы, невеликое озарение – заметить, что вы постоянно отвлекаетесь на внутренний монолог и ничего не можете с этим поделать. На самом деле даже и не озарение вовсе, хотя мой наставник тогда готов был мне зааплодировать. Но это все равно по-своему важный ша г. По сути дела, я сказал наставнику, что я, то есть моя «личность», которая, как мне казалось, отвечает за все происходящее со мной, на самом деле не в состоянии управлять фундаментальной основой моего сознания – моими мыслями.
Как мы увидим в следующей главе, это отсутствие контроля – важная составляющая того, о чем говорил Будда, уделяя так много внимания принятию безличности. А позднее мы поймем, что, как ни парадоксально, осознание собственной безличности помогает научиться лично – насколько вообще бывает что-то личное – управлять своей жизнью.
Глава 5
Ваша предполагаемая безличность
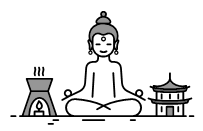
Аджан Чаа, тайский монах, сделавший очень многое в XX веке для популяризации медитации випассаны на Западе, много говорил о сложности восприятия буддистской идеи анатмана, или «не-я», «безличности». Основной смысл этого понятия состоит в том, что личность – мое или ваше «я» – в определенном смысле не существует. «Чтобы понять безличность, следует медитировать, – говорил он. – Если вы попытаетесь осознать эту доктрину одним только разумом, то почувствуете, что ваша голова вот-вот взорвется»[16].
Рад сообщить, что моя голова все еще цела. Так что вы тоже можете попробовать вникнуть в безличность, не прибегая к медитации и не опасаясь, что ваша черепная коробка взорвется. Правда, не факт, что у вас получится. Я постараюсь помочь вам приблизиться к успеху, но, если к концу этой главы вы почувствуете, что все еще далеки от кристально ясного понимания идеи в целом, не волнуйтесь – вы не одиноки.
В любом случае своим высказыванием Аджан Чаа хотел не только выразить сложность осознания доктрины безличности. Его слова подчеркивали, что в буддизме важно осмысливать идеи опытным путем, через медитацию. Одно дело – абстрактно принять идею безличности, и совсем другое – реально ощутить ее на собственной шкуре. Особенно, если вы хотите не просто принять эту концепцию, а стать с ее помощью счастливее и совершеннее, вывести связи с окружающим миром на новый уровень и почувствовать большее великодушие к нему. Ведь, согласно буддизму, глубокое, истинное осознание, что «я», личности, не существует, делает человека более бескорыстным и самоотверженным.
Только посмотрите, в каких ярких красках описывает это буддистский монах Рахула Валпола в своем важнейшем труде «Чему учил Будда», впервые увидевшем свет в 1959 году: «Согласно учению Будды, идея себя – это придуманная, ложная вера, которой не соответствует никакая действительность, она порождает вредные мысли о „мне“ и „моем“, эгоистичное желание, похоть, привязанность, ненависть, злобу, самомнение, гордыню, эгоизм и другие омрачения, загрязнения и трудности. Это источник всех забот в мире – от личных ссор до войн между народами. Вкратце, все зло в мире может быть прослежено до этого ложного взгляда[17]».
Тут уж волей-неволей начнешь мечтать, чтобы как можно больше людей осознали, что у них нет «я»! Однако опыт полного и зрелого принятия безличности есть в основном у тех, кто очень долго и упорно практикует медитацию. Уж точно намного дольше, чем я. Если спасение мира зависит от того, как много представителей рода человеческого переживут этот опыт, боюсь, ждать придется очень долго.
Но нужно же с чего-то начать! И тут у меня для вас есть хорошая новость – осознание безличности не такая штука, которая либо есть, либо нет. Иными словами, не стоит думать, что вы либо перешагнете невидимую черту, за которой испытаете трансформацию сознания, либо так навсегда и останетесь во тьме неведения. Как бы странно это ни звучало, практикуясь в медитации ежедневно, вы можете потихоньку начать испытывать безличность. А потом, со временем, испытывать ее все больше и больше. И, кто знает, может быть, в полной мере ощутите, что у вас нет никакого «я». И даже недолгие частичные озарения все равно будут приносить важный и продолжительный эффект, а польза для вас и всего человечества станет накапливаться. И, кстати, на мой взгляд, то, что Аджан Чаа называл «осознать разумом», то есть попытаться понять безличность абстрактно, как концепцию, – кому-то очень даже может помочь вступить на этот путь в своей медитационной практике.
В частности, наверное, стоит поразмыслить над тем, что говорил о безличности сам Будда. Но прежде, чем мы начнем размышлять, хочу добавить к предупреждению Аджана Чаа еще одно, свое собственное. Дело в том, что Будде свойственно весьма своеобразно подбирать слова, отчего путь на вершину осознания всей концепции становится еще более крутым. Будда анализирует человеческий разум совершенно не так, как это делают психологи или, если уж на то пошло, мы с вами. После этой главы мы вернемся на твердую и ровную почву современной науки, а пока просто поверьте мне на слово: в том, чтобы посмотреть на безличность с вершины глазами Будды, есть большой практический смысл.
Конструктивная проповедь о безличности
Логичнее всего будет начать с текста, известного как «Сутра о бессамости». Он считается одним из самых ранних высказываний Будды на эту тему. Поводом для этого умопостроения стала встреча с пятью монахами. События развиваются по типичному сценарию: Будда объясняет монахам логику, лежащую в основе его учения, и они мгновенно убеждаются в его правоте. Конкретно эти пятеро тут же просветляются – к концу сутры все они превращаются из обычных монахов в архатов, полностью просветленных и свободных. Эти пятеро монахов – первые, кто достиг подобного уровня после самого Будды. То, что это важнейшее достижение напрямую связано с осознанием ими собственной безличности, показывает нам, насколько эта идея важна для всего буддистского учения. И то, что именно «Сутра о бессамости» привела к подобному событию, ставит ее на особое место в буддийских канонах.
Как и большинство догматов древних философий и религий, идея безличности (бессамости) имеет множество толкований, а потому люди, споря об истинном ее значении, могут ссылаться на самые разные буддистские тексты. Однако основным, фундаментальным текстом, основой основ является «Сутра о бессамости».
Чтобы поколебать уверенность монахов в справедливости их привычных взглядов на собственную сущность, Будда задает им вопросы о том, где именно в человеческом существе мы можем найти что-нибудь такое, что точно можно назвать «я», самостью, душой или, говоря современным языком, личностью. К поиску такого места он подходит системно: последовательно перебирает пять так называемых «совокупностей», которые, согласно буддистской философии, составляют человеческую сущность и опыт человека. Детальное описание этих совокупностей потребовало бы отдельной главы, но для наших целей достаточно просто обозначить их:
1) физическое тело (в этой сутре именуемое формой), включающее в себя такие органы чувств, как глаза и уши;
2) чувства;
3) восприятие (например, звуков или образов);
4) умственные построения (большая категория, включающая в себя сложные эмоции, мысли, наклонности, привычки, решения);
5) сознание (или «осознание») – в особенности осознание остальных четырех совокупностей[18].
Будда проходит по списку из пяти совокупностей и спрашивает, может ли хотя бы одна из них считаться самостью. Другими словами, какая из совокупностей воплощает те качества, которыми, как вам кажется, обладает «я»? Отсюда, в свою очередь, возникает вопрос: а какие качества, по-вашему, несет в себе «я»? Или, если уж на то пошло, что именно «я» значило для Будды? К сожалению, Будда не удосужился подробно растолковать свой «понятийный аппарат». Однако, если вы внимательно перечитаете его аргументы против самости, против личности, то сможете уяснить, что же он все-таки имеет под ней в виду. А именно, какие конкретные свойства должно заключать в себе то, что может называться «я», или личностью.
Для начала он связывает идею самости с идеей контроля. Вот что он говорит о совокупности «формы», физического тела: «Если бы форма обладала самостью, она не вела бы к страданию и могла бы быть получена следующим образом: „Пусть моя форма будет такой, пусть моя форма будет не такой“».
Но, отмечает Будда, наши тела являются причиной страданий, и мы не можем, как по волшебству, изменить это, просто сказав: «Пусть моя форма будет такой». То есть форма – то, из чего сделано человеческое тело, – на самом деле неподвластна нам. Поэтому, говорит Будда, форма – это не самость. Мы – не наши тела.
Так он перебирает и остальные совокупности, одну за другой. «Если бы чувство обладало самостью, оно не вело бы к страданию и могло бы быть получено следующим образом: „Пусть мое чувство будет таким, пусть мое чувство будет не таким“». Но мы не хозяева своим чувствам и не можем подобным образом управлять ими – испытываем же мы неприятные ощущения, хотя рады были бы вовсе их не знать[6].
И Будда заключает, что чувства – тоже не самость.
То же относится и к восприятию, уму и сознанию. Контролируем ли мы эти совокупности опыта – по-настоящему, полностью, так, чтобы они никогда не вели к страданию? А если нет, то почему считаем частью своей самости, своей личности, своего «я»?
К этому моменту некоторые из читателей могут начать задаваться вопросом: «Так, стоп, то есть Будда считает, что „я“ – это нечто, чем мы управляем? А мне как-то всегда казалось наоборот, что мое „я“ – это тот, кто управляет всем во мне, этакий внутренний директор». Хотя может быть, конкретно вам ничего такого в голову не пришло и вообще непонятно, с чего бы у кого-то мог возникнуть такой вопрос. Потому-то и трудно говорить о личности, что каждый представляет ее по-своему.
Но если вы все-таки задаетесь этим вопросом, то могу предложить вот какой ответ: идея «я» как некоего управляющего вашей сущностью куда более четко и ясно описывается в других буддистских текстах, где опровергается возможность существования такого «я». Впрочем, можно сказать, что и в этом тексте Будда неявно отрицает ее существование[7]. В любом случае «внутреннего управляющего» (или его отсутствие) мы рассмотрим в следующей главе. Пока же мой совет – не беспокойтесь, если вам не удается понять все тонкости логики Будды. Достаточно, чтобы у вас сложилось общее представление об этой сутре. То, как Будда одну за другой перебирает все совокупности человеческого опыта в поисках самости, поможет нам в будущем, чтобы понять, как адепт медитации, даже начинающий, может применить на практике идею безличности.
Контроль – не единственное, что для нас означает «я», и не единственное свойство самости, которое в этой сутре обсуждает Будда. Когда я думаю о своем «я», мне представляется нечто неподвластное времени. С тех пор как мне было десять лет, я стал совсем другим человеком, но разве что-то внутри меня – моя внутренняя суть, моя личность – не осталось неизменным? Разве это – не единственное надежное ядро в бесконечно меняющемся мире?
Будда бы точно с этим не согласился: он считал, будто нет ничего постоянного, все меняется. В «Сутре о бессамости» он подходит скептически к каждой из пяти совокупностей: «Что вы думаете об этом, о монахи? Чувство постоянно или не постоянно?» Естественно, монахи отвечают: «Не постоянно, почтенный». Будда продолжает: «Восприятие постоянно или не постоянно?» И так с каждой совокупностью – умом, формой, сознанием. Ни одна из них не постоянна, и монахи с этим соглашаются. Так доказывается, что два качества, приписываемых личности, – контроль и неизменность – на самом деле ничему не свойственны. Их нет ни в одной из пяти совокупностей, определяющих человеческое бытие. К этому сводится суть доводов Будды в его первом и самом известном рассуждении о безличности. Эти же доводы чаще всего принимаются за основу буддистской мысли о том, что личности не существует.
Безличность – значит отсутствие личности?
Однако у этого важнейшего довода в пользу безличности есть странное свойство – именно благодаря ему можно предположить, что личность все-таки существует.
Ближе к концу сутры Будда в качестве «домашнего задания» предлагает монахам перечислить все совокупности, добавляя: «Это не мое, это не я, это не моя самость». Он говорит, что монах, сделавший это без колебаний, «избавляется от страстей. Избавившись от страстей, он обретает освобождение».
Ну хорошо. Но если «я» не существует, то кто освободился-то после отказа от всех этих не обозначающих «я» совокупностей? Кто отказывается от них? Если вас как личности не существует, кто будет говорить «это не мое, это не я»? Если что-то не мое и не я, значит должно быть какое-то «я», правильно? Как может Будда, с одной стороны, говорить, что самости не существует, а с другой – продолжать использовать понятия «я», «он», «она»?
Чаще всего буддисты отвечают на эти вопросы так: в глубинном смысле самости действительно не существует, просто человеческий язык не слишком подходит для того, чтобы описывать глубинный уровень реальности.
То есть на практике, в качестве языковой условности мы вынуждены говорить о существовании некоего «меня», «тебя», «ее» и «его». Другими словами, «глубинной» самости действительно нет, есть лишь «условная». Становится ли нам от этого легче постичь идею? Не очень, если честно. Тогда как вам объяснение попроще, от учителя-буддиста: «Ты реален, но не то чтобы по-настоящему реален»?
Все еще непонятно? Что ж, попробуем разрешить парадокс с другой стороны: а что, если в этой знаменитой сутре Будда на самом деле не пытался отрицать существование самости? Знаете, зачем я выделил это курсивом? Чтобы подчеркнуть, насколько радикально такое предположение для большинства буддистов – по крайней мере для представителей «основных течений» буддизма. Однако некоторые мыслители-отщепенцы всерьез обсуждали ее[19], так почему бы и нам к ней не присмотреться?
Неортодоксальная теория
Первое, на что обращают внимание эти инакомыслящие, – это тот факт, что в своем первом, основополагающем размышлении о безличности Будда на самом деле нигде не говорит, что самости не существует. Он говорит о том, что ни одна из пяти совокупностей не является нашим «я», но при этом не утверждает, что «я» не может заключаться в чем-то еще! Может быть, человек есть нечто большее, чем эти пять совокупностей!
Да, возможно. Однако будьте готовы, что, стоит вам заговорить о подобной возможности, множество «традиционных» буддистов немедленно горячо возразят вам, что, согласно буддистской философии, человек – это именно и только пять совокупностей, пусть Будда и не говорит об этом в конкретной сутре. Идея о том, что пять совокупностей охватывают все, стала для буддистской философии такой же догмой, как и идея о том, что «я» не существует.
Однако нас с вами интересует не то, являются ли эти постулаты частью буддистской философии, а были ли они присущи ей изначально и поддерживал ли их сам Будда. А в первом серьезном размышлении Будды о самости ни та ни другая идея не высказывались. Так о чем же думал Будда, когда говорил так, словно есть некое «я», способное отринуть пять совокупностей и тем освободиться? Если поразмыслить, может быть, с его точки зрения, изначально «я» содержит в себе что-то еще помимо них.
Возможен и другой ответ на вопрос, где именно мы находим это освобожденное «я»: может быть, не все совокупности между собой равны. Может, одна из них – сознание – особенная. То есть, после того как «я» отказывается от всех пяти совокупностей, именно сознание остается, освобожденное от пут остальных четырех. И именно некая очищенная форма сознания и является тем самым «я», отказавшимся от самости.
Ортодоксальные буддисты тут же напомнят: Будда говорит о том, что «я» отказывается от сознания точно так же, как и от остальных четырех совокупностей, – другими словами, оставшееся после освобождения «я» связано с сознанием не более, чем с остальными четырьмя свойствами человеческой сущности.
Замечание справедливое. С другой стороны, есть сутры (пусть таких и немного), где Будда говорит иначе. Так, в одной сутре он утверждает, что после того, как вы примете идею бессамости всерьез и отринете пять совокупностей, освободится ваше сознание. Более того, описывая освобожденное сознание, он плавно переходит к описанию освобожденного человека. Он говорит о сознании: «Освободившись, оно становится твердым. Став твердым, оно становится удовлетворенным. Став удовлетворенным, оно становится невредимым. Став невредимым, оно достигает нирваны»[20]. Когда Будда говорит о сознании так, словно оно само по себе освобождается, он описывает своеобразные отношения между сознанием и остальными четырьмя совокупностями. В своем обычном состоянии – с которым все мы, непросветленные, имеем дело, – сознание «вовлечено» в остальные совокупности, говорит Будда. Оно связано с чувствами, умственными построениями, восприятием и формой.
Сознание не только имеет доступ к восприятию, телесным ощущениям и многому другому. В конце концов, даже если вы достигнете полного просветления, ваше сознание все равно будет иметь доступ ко всему этому опыту. Собственно, если бы этого доступа не было, о просветлении в отношении чего вообще можно было бы говорить? «Вовлеченность» скорее означает мощную связь между сознанием и другими совокупностями. Вовлеченность есть продукт «вожделения», как описывает это Будда, которое люди испытывают к четырем совокупностям; привязку к ним, собственническое отношение. Другими словами, «вовлеченность» сохраняется до тех пор, пока человек не понимает, что совокупности не являются его «я». Человек цепляется за эмоции, мысли и другие элементы совокупностей, словно они – его собственность. Но это не так[8].
Размышления Будды о вовлеченности предлагают привлекательную в своей простоте модель: освобождение означает изменение отношений между вашим сознанием и тем, что вы обычно считаете его «содержимым» – вашими чувствами, мыслями и прочим. Как только вы поймете, что они не составляют ваше «я», отношения между ними и сознанием станут созерцательными, а не вовлеченными. И ваше сознание освободится. И то «я», что останется, – «я», которое Будда описывает в этой первой сутре о бессамости как освобожденное, – будет именно ваше освобожденное сознание.
Я был бы рад сказать, что вот так ясно и безоговорочно можно дать ответ на заданный мной вопрос: если пять совокупностей – это все, что составляет человеческое естество, то кто же тот «он», который в первой сутре о бессамости описывается как освобожденный? К сожалению, чем глубже вы будете погружаться в размышления о вовлеченности, со всеми их противоречиями и двусмысленностями, проблемами перевода и древними комментариями, тем труднее вам будет найти простой ответ[9]. Однако Будда действительно неоднократно, в первой сутре и в других, говорит о том, что сознание не является самостью, что «вы» должны отпустить его, чтобы освободиться. Это не очень хорошо сочетается с идеей о том, что, отказавшись от четырех других совокупностей, «вы» можете счастливо обитать в пятой – в освобожденном сознании.
Но не отказывайтесь от этой идеи сразу. Некоторые буддистские философы предполагают, что существует два типа – или два режима, или два слоя – сознания. Как ни назови, один из них – то, от чего вы освобождаетесь, а другой – то, что остается с вашим «я», то, что и есть вы – после освобождения.
Первый тип сознания глубоко связан и полностью вовлечен в остальные совокупности, второй же скорее отстраненно наблюдает за ними и остается даже после того, как эта вовлеченность разрушается.
Те, кто давно занимается медитацией, зачастую описывают так называемое «сознание свидетеля», в целом напоминающее второй тип сознания, причем многие из них пребывали в этом состоянии на протяжении долгого времени. Может быть, если бы они так и остались в нем, их назвали бы «просветленными». Может быть, именно в «сознании свидетеля» и обитает «я», оставшееся после освобождения[10].
Может быть. А может быть, надо признать правоту Аджана Чаа – если пытаться понять доктрину бес-самости головой, голова может и взорваться. Так что, возможно, лучше оставить попытки интеллектуального анализа, а то как бы чего не вышло. И если физически ваша голова после этих попыток уцелела, то беспорядка в ней наверняка прибавилось. Могу вас успокоить: необязательно разбираться с этим состоянием сейчас, можно подождать несколько лет, пока длительная практика медитации доведет вас до полного просветления. И вот тогда, полностью приняв доктрину бессамости, вы ее мне и растолкуете. А пока мой совет – продолжайте радоваться тому предположению, которому радовались, наверное, всю свою жизнь. Предположению, что где-то внутри вас есть нечто, достойное называться «я». И не чувствуйте себя злостным нарушителем буддистских догматов просто потому, что вы думаете о себе как о личности. Но не забывайте и о невероятной возможности того, что ваша личность, ваше «я», на глубинном уровне – вовсе не то, чем вы ее всю жизнь считали.
Если бы вы последовали наставлениям Будды и отринули огромную психологическую составляющую, о которой всегда думали как о части себя, ваше представление о том, что такое быть человеком радикально изменилось бы. Если бы вы вошли в состояние, которое он описывает, то ваше «я» стало бы совсем другим.
Как бы это ощущалось? Мне сложно сказать, я так и не отказался от этой огромной психологической составляющей. Но у меня был опыт, описанный во второй главе, – мой первый «успех» в медитации. Напряжение в челюсти и передозировка кофеина, которые заставили меня скрежетать зубами – и внезапно перестали казаться частью меня. И в следующее мгновение перестали быть неприятными. Я все еще осознавал ощущение в челюсти, но мое сознание больше не было вовлечено в него, я не воспринимал это ощущение как свое. Я не отказался от привязки ко всем своим чувствам, как говорил Будда, но я отказался от связи с этим конкретным ощущением. Можно сказать, я осознал, что оно необязательно должно быть частью меня. Я осознал себя заново, исключив это ощущение.
Безусловно, в некотором смысле это чувство оставалось частью моего сознания, но теперь я скорее созерцал его – так, как созерцаю деревья, покачивающиеся от ветра за окном, пока пишу это предложение. Напряжение, из-за которого я чуть не раскрошил собственные зубы, было «не мое», и я мог спокойно, отстраненно наблюдать за ним.
- Молчание сердца. Учение о просветлении и избавлении от страданий
- Буддизм жжет! Ну вот же ясный путь к счастью! Нейропсихология медитации и просветления
- Инь-йога: полный курс. Очищение и оздоровление организма на всех уровнях
- Счастливые люди правильно шевелят мозгами
- Хоопонопоно. Древний гавайский метод исполнения желаний