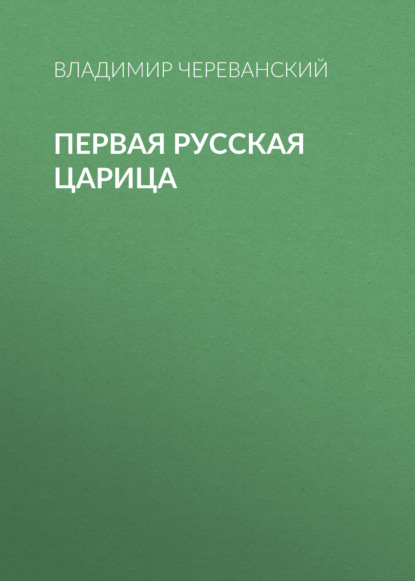000
ОтложитьЧитал
Покорение казанского царства, а попутно и астраханского, входило в политические замыслы Иоанна Васильевича. Ожидались крупные политические события. С русской стороны было выставлено 150 тысяч человек, а с другой в Казань стеклось все мусульманство. Крым выставил турецкие пушки и янычар, которых, однако, не пустили далее Тулы. Выставленное русской стороной войско добилось серьезных успехов на территории казанского царства, так что и астраханскому царевичу Едигеру и мужественной вдове Сююнбек пришлось возложить свои надежды на высокие стены Казани и на помощь черемис, мордвы и чувашей. Однако эти омусульманенные язычники и не подумали вступать в борьбу с московскими ратниками и не замедлили покориться, за что Москва освободила их на несколько лет от дани.
Жажда славы заставила Иоанна Васильевича встать во главе войска и лично повести осаду и штурм неприступной Казани. Изготовленный царицей стяг был прикреплен к древку самим митрополитом с усердной молитвой о победе. Посредине полотна блестел золототканый крест.
Московскому войску посчастливилось найти опытного инженера, который без труда отыскал тайник, снабжавший казанцев питьевой водой. Тайник находился вне городских стен. Казанцам пришлось довольствоваться подозрительной водой из загрязненного озера. Вторую и сильную помощь инженер оказал проведением подкопа под городские стены. Немец не ошибся. Когда к месту подкопа собралась главная часть московского войска, сто двадцать малых бочонков пороха, бережно расставленных и частью вскрытых, под самыми стенами исполнили свое страшное разрушительное дело. Часть стены поднялась на воздух, а с ее глинобитными камнями взлетели и толпы защитников. Татарские стратеги, наивно ожидавшие, что неприятельские дружинники будут выходить из подкопа один за другим, растерялись и обезумели от эффектного взрыва. Казанцы бросились спасаться в каменные мечети. Напрасно ахун взывал с бельведера мечети: «ур, ур!» – ни один ятаган не показался перед победителями. Казань была отдана на погром и разграбление. Вот это обстоятельство чуть не погубило весь военный план москвичей, что, может быть, отразилось бы на исторических судьбах всей Руси.
Увлеченные жаждой добычи, дружины расстроились и занялись грабежом. Татары психологически рассчитали момент своей атаки. Тяжело нагрузившиеся – мехами, кожей, посудой – дружинники вдруг увидели, как двери всех мечетей открылись и оттуда обрушились на грабителей сотни ятаганов.
Бросая награбленное, москвичи побежали с воплями: «Секут головы, секут!» Двадцатитысячная охрана царя, желавшего войти в город без помехи, тоже поколебалась; казалось, все погибло; казанцы яростно рубили москвичей и теперь «ур, ур!» – бей, бей! – обратилось в грозное и дикое завывание. Улицы и площади покрылись трупами.
Слава победителя ускользала из рук, но над царем развевался освященный стяг, призывавший к защите всея Руси. Не обладая военным героизмом, Иоанн Васильевич все же выхватил стяг из рук знаменосца и ринулся вперед, увлекая за собой всю двадцатитысячную охрану, составленную частью из опытных бойцов и вообще из могучих плечистых ратников.
Этот прорыв решил исход битвы. Татары запросили пощады. Ратники помнили, что лежачего не бьют, и вытерли свои тяжелые бердыши о халаты сановников, торопившихся вместе с Едигером предстать перед победителем. Едигер и его сановники опустились перед царем на колени и просили оставить их в живых. Иоанн Васильевич, радуясь своей победе, не проявил никакого гнева по отношению к казанскому царю и даже добродушно заметил: «Тебя обманывали насчет могущества московского царства и лукавили перед тобой вот эти самые, что рыдают теперь за твоей спиной…»
В это время вблизи царя образовалась плотная стена из пленников, захваченных татарами в разное время и теперь стекавшихся со всех концов Казани. Многие из них приволокли бревна, к которым они, чтобы не убежали, были прикованы. Успевшие сбросить оковы старались выставить напоказ язвы и раны, натертые железными путами. Вся толпа была в лохмотьях и заметно отощавшая от голодухи. В порывах глубокой благодарности она не находила слов для восхваления избавителя от адских страданий. «Ради своих казанских сирот ты, государь, не жалел головы своей» – к этому сводились в конечном счете все восклицания пленных.
На этот раз Иоанн Васильевич искренне расчувствовался и приказал через переводчиков сановникам Едигера обмыть прежде всего язвы и раны пленников; татары безропотно принялись за дело, так как знали, что только исполнением этого приказа они могли спасти свои головы.
Вскоре явилась и вся семья Едигера, а с ней и толпы женщин и детей. Женщины были без покрывал. Пришла и Сююнбек с внучкой, которую переводчик из омусульманенных невольников назвал Божьим цветком. – «Да, да, Алла-Гуль»! – подтвердила Сююнбек, выдвигая вперед себя красивейший из Божьих цветков.
Женщины помогали мужьям и отцам обмывать раны пленников. Алла-Гуль тоже побежала принести воды, что далось ей нелегко. Иоанн Васильевич заметил эту девочку – почти ребенка – и передал милостиво через переводчика, чтобы она не утруждала себя больше непосильной работой.
Направляясь ко дворцу, конь победителя поминутно вздрагивал и фыркал. По сторонам дороги были буквально навалены тела убитых и раненых, находившихся при последнем издыхании. Из дворца Едигера победитель разослал приближенных бояр во все дружины с похвальным словом, а в Москву – гонца с вестью о победе. Посыльным к царице был выбран Лукьяш, как известный своей лихостью наездник.
– Перво-наперво поклонись золотым маковкам Москвы, а затем объявись царице, – наказывал послу радостным тоном царь-победитель. – Пади на колени и объяви: дарует тебе царь татарское царство, вскоре он возьмет мимоходом и астраханское царство. Вся семья казанского царя в плену, и если царь захочет, то сошлет ее на скотный двор, а может быть, он сошлет мужское отродье в Касимов, а женское передаст царице в услужение. Все захваченные сокровища будут отданы в большую казну, из которой царица сможет взять все, что захочет. Победа дана Господом Богом под ее стягом. Не будь его… ну, да это я сам скажу, как только управлюсь с делами – поверну домой. А если Господь даровал мне в эту пору наследника, то радости моей не будет предела.
Станут тебя спрашивать москвичи: много ли полегло наших на смертном поле? Ответствуй – много. Татары бились храбро. Все царство собралось в Казань и залегло за крепкими стенами. Немало дружинников, желая попользоваться татарским добром, позабыли про опаску и изведали остроту ятаганов. Зато я поведу за собой сорок тысяч освобожденных пленников, и больше не придется тратиться на их выкуп, а татары уже не смогут захватывать наших жен и сестер и делать из них служанок агамов, беев и джигитов. Гнездо воровское разорено, и для охраны государства я построил военную заставу на реке Свияж. Вообще, закреплю на вечные времена все царство за Москвой и тем открою дорогу на восток. Я все сказал. С Богом, скачи без устали, а Москве радоваться трехдневным звоном. По дороге всем объявляй: нет больше татарского царства, оно ныне в кулаке Иоанна Васильевича.
Царский гонец загнал нескольких ямских лошадей и привел себя в порядок только уже на берегу реки Яузы, где Москва впервые услышала весть об одержанной победе. Точно по сговору, тысячи радостно настроенных москвичей с почетом проводили Лукьяшу в Кремль, к царицыной половине. Здесь его встретила мама, строго наказавшая ему ничем не потревожить царицу, которая еще не окрепла после рождения младенца.
Исполняя наказ царя, Лукьяш пал на колени перед царицей и, волнуясь, передал ей поклон и привет от супруга.
– Дарит он тебе, царица, татарское царство. Царь Едигер, старая царица Сююнбек и ее внучата будут у тебя в услужении. Может быть, царь окажет милость только Божьему цветку за ее красоту безмерную и поместит в сенные девушки.
Последнее Лукьяш добавил уж от себя. Вероятно, он продолжал бы говорить, но мама прервала его, заметив, что доктора запретили молодой женщине всякое напряжение.
– А тебе велено возвратиться обратно? – спросила едва слышно Анастасия Романовна.
– Царь не наказывал.
– Так вот я наказываю – завтра же ты должен выехать из Москвы и при встрече с царским поездом по дороге доложи ему: «Царица благодарит тебя, государь, царевичем, и хотя силы еще к ней не вернулись, но икона Спасителя перед ее глазами и она умиленно просит милости тебе у Господа Бога… а Москва примет сорок тысяч казанских пленников, как своих детей». Прощай, счастливой дороги!
– Помилуй, царица, совершенно выбился из сил, пошли кого-нибудь другого. Алексей Адашев будет счастлив исполнить твой наказ.
Царица сухо взглянула на Лукьяша и попросила маму увести его.
Мама отлично поняла царицу. Схватив Лукьяша за рукав, она повернула его к выходу и уже на ходу выговорила строже царицы:
– Стыдись говорить, что устал; пусти на тебя тройку бешеных коней, и тех сдержишь. Ты ли не постараешься ради царицы?
– Мама, разреши хоть побывать у митрополита. Таков наказ царя.
– Ступай, только нигде не засиживайся. Оповести немедля звонарей по всей Москве. Да уж в награду поцелуй руку на прощанье у царицы…
Кажется, мама угадала намерение самой Анастасии Романовны, по крайней мере царица дружественно протянула ему руку.
Еще Лукьяш находился в митрополичьей палате, как Москва огласилась общим колокольным звоном. Ему вторили восторженные здравицы во славу и в честь избавителя казанских пленных от татарского ярма.
Вечером Москва проводила гонца честь честью за Яузу по казанской дороге, где предстояла через несколько дней встреча с царем, поспешавшим по совету братьев царицы в Москву.
Москва знала, как следовало встретить пленников, возвращавшихся на родину. Разумеется, казанские невольники обносились и изголодались. Поэтому наиболее радевшие о спасении своих душ москвичи и москвички вывезли за много верст от Яузы короба с лаптями и онучами, с душегреями и другой одеждой – хотя и ношеной, но добротной и вполне пригодной, чтобы на первое время прикрыть истерзанное тело. По сторонам дороги были установлены бочки с квасом и черпаками; на импровизированных столах лежали целые горки караваев, пышек, жареного лука и гречневиков, уже облитых конопляным маслом.
Ко времени, когда казанские пленные должны были подойти к Яузе, берега ее покрылись толпами весело настроенного народа.
При въезде в Москву Иоанн Васильевич чувствовал себя на верху славы и могущества. Отовсюду слышались возгласы: «Благочестивый!», «Избавитель христиан от адских мучений», «Многая тебе лета!». Толпы бросались целовать его ноги, руки и даже коня, который так бодро нес победителя. Храмы были открыты. Духовенство служило на паперти благодарственные молебны. Все колокола – успенский, полиелейный, корсунский, голодарь и десять менее тяжеловесных оповещали московскому царству о том, что захвату христиан в неволю настал конец. Выглянули и юродивые из своих пещер, а древние инвалиды-дружинники, помнившие еще Иоанна III, на своих костылях тоже поплелись к воротам Кремля.
В дверях царицыной половины Иоанна Васильевича встретила мама с крошкой на руках в пеленках, из которых виднелась одна головка.
– У царицы нет лучшего подарка за твое великое дело, сама же она нездорова и не может тебя встретить.
Не успела мама договорить, как из внутренних комнат показалась сама царица, поддерживаемая приближенными боярынями. Мама сурово посмотрела на нее.
– А доктор, англичанин, что сказал? Всю жизнь можешь испортить, если раньше времени встанешь с постели. Прикажи, Иоанн Васильевич, чтобы она тебя не встречала, не целовала, не миловала. Вред от этого большой.
Но на этот раз маму не слушали. Иоанн Васильевич не мог насмотреться на жену, бескровную, как видение, белее мрамора, что в церковном иконостасе, и все же победно сверкавшую очами.
Иоанн Васильевич отвел ее в опочивальню и, оставив ее на минуту на попечение боярынь, вышел распорядиться доставленными во дворец пленниками царского рода.
– Хотел было сперва отправить их на рабочий двор, а женщин отдать тебе в услужение, а вот теперь пожалел; хотя они и татары, но все же царского рода.
– Отошли их всех в Касимов, там у тебя есть маленькое татарское царство, – сказала царица, точно она заранее обдумала, как быть с пленниками и пленницами. – Там не будет скучно красавице Алла-Гуль.
– А тебе кто поведал об Алла-Гуль?
– Мирская молва – морская волна.
– А! Понимаю, это тебе открыл твой любимчик – рында. Ох, не в меру длинен у него язык! Видно, он еще что-нибудь приплел, наверняка описал красоту Божьего цветка. Не пострадать бы ему – укоротить язык нетрудно.
Не привыкшая ко лжи Анастасия Романовна стряхнула с ресниц невольно набежавшую слезинку. Ей вспомнился недавний совет Лукьяша: «Берегись татарки, косами и очами она крепче всякой ведуньи может оплесть человека. А греха таить нечего, Иоанн Васильевич любит красоту, и не избежать татарской царевне его поцелуев».
Анастасия Романовна запретила Лукьяшу говорить на эту тему, но все же слова его припомнились и омрачили радость первого свидания с долгожданным супругом.
И Иоанн Васильевич почувствовал себя не таким счастливым, как ожидал, возвращаясь домой со славой победителя и окруженный народным восхищением…
Глава XIV
Мама собрала в последнее время много важных новостей, но у нее воспалилось горло, и она побоялась явиться больной в хоромы царицы; нужно было показать всем придворным, как осторожно следует вести себя при царице, чтобы, не дай бог, не занести какую-нибудь заразу.
Наконец осторожная мама решила, что может без опаски вступить в опочивальню царицы. Встреча была радостная. Прежде всего мама пытливо осмотрела все окружное и нашла его в порядке.
– Ведомо ли тебе, – начала мама, – что Иоанн Васильевич отказался от пленения астраханской царской семьи: хочешь, сиди смирно и не балуй, а хочешь, беги в Ногайскую орду, у нас-де в батраках нет недостатка. Вот в Крыму вышла заминка, брат Алексея Адашева врезался в соленые озера – без хлеба и мяса; тут его и пощипала татарва. Если бы не Алексей, быть бы его брату в великой опале, хоть вон из царства беги…
– Давай лучше поговорим о домашних делах, – прервала царица маму, – они мне ближе. Интересно, что сталось с семьей казанского царя?
– Государь смилостивился. Ты же знаешь, сперва он всех хотел определить на черный двор, а Сююнбекшу так даже в прачки. Тогда Божий цветок на колени пала. Слова не сказала, а только сложила руки, точно христианское дите. И ах, как она в эти минуты была прельстительна! Хотя и татарка, а глаза как у херувима, что в церкви нарисован.
– Вот уже который раз слышу: Божий цветок, Божий цветок, а понятия о ней не имею. Не чародейка ли?
– Вот уж этого нет! Она даже наполовину христианка, она питалась грудью христианки, которая и теперь при ней, не нахвалится! Говорит: такое дите дай Бог каждой христианской семье. Ласковая, покорная, певунья, а когда разыграется, так шаловливее котенка. Да вот сама увидишь. Царь велел мне определить ее к золотному рукоделию. Она преподнесла ему своей работы ермолку, расшитую шелками и золотом. И чего греха таить, ни одна наша боярышня в золотной палате не выведет такие травы и таких птиц: самая маленькая, кажется, сейчас запоет. Превеликая мастерица. Сама увидишь, когда велишь явиться к тебе на поклон Сююнбекше и ее внучке! Дай срока неделю, а то и больше, чтобы Алла-Гуль успела вышить тебе сапожки шелками. Один сапожок уже готов. Я говорила – не нужно, у царицы много этого добра, а она сложит ручонки и лепечет по-христиански: позволь, мама, – мамой меня зовет – позволь докончить. Я буду-де просить царицу, чтобы она взяла меня в свои собаки. Как, говорю, в собаки, хотя ты и неверного рода, а все же человек. Виданное ли дело человеку обращаться в собаку? «Ничего, мама, у нас есть такой закон. Я не буду ни лаять, ни кусать, а только если увижу недруга царицы, я все зенки выцарапаю…»
В назначенный день мама ввела в царицыны хоромы всю семью Едигера, который отправился в Касимов, обнадеженный, видимо, что он сменит касимовского царя и сядет на его место. Алла-Гуль чувствовала, что московский царь сделает для нее многое.
Во главе семьи явилась старая Сююнбек. Она преподнесла Анастасии Романовне все свои золотые украшения, сложенные в терлик, обвешанный золотыми монетами. Царица благосклонно приняла дар, но тотчас же возвратила его пленнице. Сююнбек трудно было расстаться с своей любимой шапочкой и подвесками, украшавшими ее старушечью грудь, уши и шею. И когда царица возвратила драгоценности, вся пленная семья ощутила при этом поступке могущественной царицы чувство удовлетворения.
Вслед за бабкой выступила вперед Алла-Гуль. Она повела себя менее сдержанно и не так величественно, как Сююнбек: пала на колени и выдвинула перед собой красивые сапожки. На ломаном, но все же понятном русском языке она сама объяснила, чему она научилась от пленниц, наполнявших дворец казанского царя.
Странной для русского слуха была просьба молодой татарской девушки, пленявшей своей красотой даже старых русских суровых боярынь.
– Царица, возьми меня в свои собаки.
Царица испытующе посмотрела на маму.
– Алла-Гуль просится в рабыни к тебе, – пояснила мама, – она будет ходить по твоим пятам, и если ты укажешь ей на своего недруга, она перегрызет ему горло.
– Ох, не пришлось бы ей перегрызть свое собственное горло.
– Я перегрызу и свое.
Царица не ожидала, что Алла-Гуль поймет тихо сказанное ею слово. Одарив пленниц лакомствами и безделушками, царица отпустила всех и только одной Алла-Гуль дала знак остаться.
– Хорошо, я беру тебя в свои собаки с условием, что ты будешь всегда мне верна. Ты должна будешь признаваться, кто тебя вздумает здесь целовать… хотя бы сам царь… или говорить тебе речи, которые девицам кажутся сладкими, или назначить тебе тайное свидание. Если я одна в хоромах, а у тебя есть что сообщить мне спешно, то подойди к двери и поскреби, как любимые собаки делают, а теперь я поцелую тебя в голову, и иди с миром. От своих скрой, что я тебе даю такие поручения, понимаешь?
Татарская царевна была очень понятлива.
Условленного знака недолго пришлось ожидать. Тихонько открыв дверь, Алла-Гуль вошла смущенной, растерявшейся, точно забыла, зачем напросилась войти. Видно было, что сердце ее очень неспокойно.
– Видишь, царица, ничего не подумай на мой счет, я твоя собака до гроба и скажу, что произошло. Твой Адам – муж, – перевела она для ясности, – велел мне выйти в полночь, когда луна взойдет, в тот дальний конец сада, где твоя хороминка. «Для чего?» – спросила я. – «Не бойся, ничего злого я не сделаю тебе, а на луну люблю смотреть вдвоем». «У тебя, царь, есть ханым – супруга; пригласи ее смотреть луну». – «Она луну не любит». Так вот, как повелишь?
Анастасия Романовна пытливо всмотрелась в свою собаку, так ли она наивна, как кажется? Не хитрит ли татарочка? Нет, не хитрит. Ее смуглое личико розовело под внимательным взглядом, но ни одна жилка не обличала лжи или хитрости. Все было так, как у неиспорченного младенца.
– Ах, Алла-Гуль, зачем ты такая красивая?! – произнесла Анастасия Романовна, оставшаяся довольной искренностью татарки. – От твоей красоты пойдут все мои бедствия!
– Если так, ханым, думаешь, то я все лицо себе исцарапаю, калекой сделаюсь.
– Не надо, не надо, Алла-Гуль! – воскликнула Анастасия Романовна, отводя руки Алла-Гуль, которая на самом деле намеревалась исцарапать себе лицо. – Все мы в его власти. Только потом… скажешь мне, как вы смотрели на луну.
– А я могу защищаться, если у Адама руки будут чересчур длинные?
– Можешь, защищайся. Теперь пойди, отыщи маму и скажи, что я прошу ее к себе. Да поможет тебе твой Бог остаться тем, что ты есть.
Мама нашла царицу сосредоточенной и молчаливой. Казалось, она переживала трагическую минуту своей жизни.
– Передай, мама, мое приказание придворным служкам, чтобы они немедленно срыли до основания мою малую хороминку. Возражений не принимаю. Я все обсудила, и это не каприз, а обдуманное решение.
– Уничтожить твой любимый уголок? Не ослышалась ли я, старая развалина?
– Нет, мама, не ослышалась. Хочу, чтобы к вечеру там не осталось ни одного кирпичика, ни одного бревнышка. Считай ты и пусть считают работники эти мои слова повелением царицы. Такова моя воля, иди и через каждый час мне сказывай, что сделано. Царю ни слова. Я перед ним в ответе, я одна… Да иди же, мама, иди!
К вечеру мама уже докладывала царице, что от ее хороминки не осталось и следа. Все сброшено с обрыва в реку. На ее месте посажены цветы душистые-предушистые!
Поздно ночью, намного позже урочного часа, у дверей маминой келейки раздались три негромких удара, что означало приход самого царя. Мама быстро привела себя в порядок, зажгла у лампадки свечки, накинула на плечи душегрею, поправила косичку и в ночных обутках открыла двери; за ними действительно стоял чем-то взволнованный царь.
– Возвратился с охоты, да не хочется пугать Настю. Вижу в окошко, что она у Митенькиной колыбельки, вот уж это лишнее. Народу под ее рукой видимо-невидимо, для чего же себя так утруждать.
– Это материнская любовь. Она не допускает и меня, свою маму, к детской колыбельке. Сама и песенки сочиняет.
– Принеси мне ковш браги, да скажи, что я приду, только руки приведу в порядок. В темноте поранил, раздвигая колючие розы, нужно обмыть…
Мама быстро обернулась и принесла ковш браги. Руки Иоанна Васильевича были глубоко исцарапаны, до крови.
Подав рукомойник и поливая водой царапины, из которых продолжали сочиться капельки крови, мама предложила перевязать их, чтобы не попала в них какая-нибудь зараза. Иоанн Васильевич охотно согласился. Перевязывая царапины, мама едва удержалась, чтобы не сказать: да это зверюшкины коготки! Однако удержалась: шиповник так шиповник! Да разве из людского рода осмелится кто исцарапать царскую руку? Осушив ковш браги, с завязанными мамой руками, он направился в хоромы царицы. Здесь Анастасия Романовна уже управилась, принарядилась и засела скромненько за Домострой.
Поцелуи супруга она нашла искренними и горячими. Разумеется, она удивилась бинтам на руках мужа.
– Всему шиповник причиной. Насадили его без толку вдоль дорожек, и вот в темноте… но это пустяки, а вот объясни мне, пожалуйста, почему ты распорядилась снести свою любимую хороминку? Мне вздумалось посидеть в ней, полюбоваться на луну, а ее и след простыл. Цветами полянка убрана, ни одной скамьи, а как там приятно было!
– Прости, мой любый, мне бы следовало испросить твоего позволения, да уж очень сердцем разгорелась…
– Разрешения моего не нужно, это была твоя хороминка, твое создание. Но почто у тебя сердце разгорелось?
– Вижу я как будто сквозь сон, что ты сидишь один в хороминке и допрашиваешь луну, все ли у тебя в царстве в порядке? Не бунтуют ли у тебя татары? А на луне бродят туча за тучей, и если взглядеться хорошенько, то не тучи бродили, а сами татары. Всюду тишина, а только на тропке, что возле хоромины, из-за кустов бузины выглянула невеликая, но сильная зверушка. Увидев тебя, она раздулась, ощетинилась, казалось, так и прыгнет к твоему горлу. Я обомлела, сотворила молитву, зверушка засмеялась и ушла в себя, а потом, как пар, потянулась к луне. С того часу у меня сердце сделалось неспокойным. Утром мне было наитие: уничтожь свою хороминку, срой до основания, а то зверушка и в самом деле подберется к твоему любому. Недолго я думала, наитие как бы выступало в белом образе и выступало из моленной, да вот и сейчас как будто за твоей головой и кивает мне… Кивает, будто благодарит, что я тайное веление исполнила в точности…
– Ну, это поп Сильвестр на тебя так действует своим поповским жаром, а впрочем, чего не бывает?
Верить или не верить? Вопрос этот мелькал в зрачках Иоанна Васильевича, а так как он никому и ни в чем не верил, то не поверил и этот раз, но решил до поры вида не подавать:
– Мне очень понравилась твоя вольная волюшка: захотела, и от целой хоромины не осталось и следа. Вот решительность, истинно достойная положения, а то кисло-сладкая пресня кому не надоест?
– А признайся, я тебе очень надоела? Кстати, скажи, как идут постройки в Александровской слободе? Помни только одну мою просьбу: отсылай меня с мамой разом – ее в настоятельницы, а меня в послушницы. Есть еще одна просьба, да боюсь высказать.
– Ты-то боишься? Ты ничего не боишься, да по правде сказать, и бояться нечего.
– А вот то, что я кисло-сладкая пресня?
– Напрасно сказал. Твоя головка – мастерица плести кружева. Дай тебе канву, а твоя головка разрисует.
С каждым глотком хмельного напитка и с каждым взглядом на чарующую головку жены Иоанн Васильевич становился нежнее, чувственнее, и только державное положение препятствовало ему броситься в ее объятия.
– Если тебе хочется знать, так я готовлю и себе в Александровской слободе хоромину. Будет час, когда мы уйдем туда всей семьей. Ведь и у голубя есть сердце, а у Иоанна Васильевича оно лютое. Казалось бы, чего лучше? Отправляясь воевать с Казанью, я, как ты знаешь, для управления царством установил думу из мужей большого разума. После покорения Казани мне следовало бы распустить думу, да вот рука дрогнула, пусть-де мои бояре тешатся. А они вздумали мою власть ограничивать. Даже новогородцев не смей топить в Волхове, да царь ли я? И вот я задумал освободиться от советников. Скажу тебе по совести: у меня есть великий план создать не то чтобы дружину телохранителей, а войско стражников всего царства. Весь московский народ я разделю на две половины. Одну, меньшую, составят бояре и дети боярские; наделю их городами, волостями, а в Москве – улицами и правом ловить и вязать изменников, а другая половина пусть народничает. Для нее есть у меня Бельские и Мстиславские. Первую половину назову опричиной, а вторую земщиной…
– Позволь вставить немудрое слово.
– От тебя каждое слово – бисер, сказывай.
– А не похожа ли будет твоя опричина на татарских янычар?
– Ученая ты у меня и умница, а только догадку твою никому не сказывай. Пусть будет и похоже, да только я переиначу. Мои опричники будут не только дружинниками, но и монахами, а я их настоятелем. Когда сбудутся мои мечтания, тогда у меня Новгород затрепещет, как живой карась на сковороде. Но все же это дальнее будущее… А теперь говори, кто тебя подговорил разорить хороминку?
– Наитие, мой любый, наитие.
Время уже подходило к утру, когда Иоанн Васильевич склонил свою отяжелевшую от крепкой браги голову на подушку и поманил к себе царицу. Анастасия Романовна предпочла, однако, удалиться в детскую, откуда послышался детский плач.
Вечно напряженная нервная система Иоанна Васильевича не дала ему покоя и в царицыной половине. Утром, когда чуть брезжило, ему почудился подозрительный шорох в соседней палате. Нащупав свой нож, который, как всегда, находился у него за сапогом, он приотворил дверь и увидел, что страхи его были напрасны. В боковушке служка менял перед образом свечи, готовя аналои для краткой утренней молитвы.
В положенное время щебетуньи-боярышни заняли свои места в золотошвейной палате и пропели вполголоса славу маме, которая была не очень-то строга к своевольным работницам. Она больше заботилась, чтобы их накормить и напоить как следует, по-царски, а не о числе вышитых полотенец и перчаток для царской охоты. В золотную палату ранее всех явилась Алла-Гуль, но сделав только вид, что принимается за работу, она пробралась в спальню царицы, которая и сама ожидала прихода своей собаки.
– Твой Адам очень сердился, когда увидел, что твоя хороминка исчезла, – начала рассказывать Алла-Гуль о минувшем вечере, – долго он не понимал, как это случилось, ругался и поминал шайтана, точно это было делом его рук. Главное, ему хотелось знать, кто надоумил тебя, ханым, на такое дело. Ох, как он подозрительно смотрел на меня. Если бы не полутьма, я, вероятно, выдала бы себя, но я очень просила луну отвести его глаза от меня, а тут и подумалось, не будет ли лучше, если я стану перед ним на колени. Ему же показалось, что я хочу обнять его. Мгновенно у него выросли руки, но смела ли я кричать? Я потихоньку просила его не делать мне ничего дурного, потому что мой Мустафа убьет меня, если вдруг узнает, а он все крепче и крепче сжимал меня; руки делались все длиннее и длиннее. Я обезумела и принялась кусать их, искусала до крови и теперь не знаю, что мне за это будет. Ох я несчастная татарка! Хорошо, если бы он сослал меня в Касимов; там меня Мустафа ожидает.
– Тебе ничего не будет, не бойся, я твоя заступница, а только вот что, Алла-Гуль, приняла бы ты христианскую веру, а я приискала бы тебе первого жениха во всем царстве.
– Это Лукьяша, который так любит тебя?
– Что ты говоришь, безумная!
– Говорю, ханым, чужие слова, вся Москва знает…
– Замолчи!
– Ну теперь пропала бедная татарка, если и ханым против меня…
Алла-Гуль зарыдала.
Анастасия Романовна привлекла ее к себе и погладила ее черные косы.
– Прости бедную татарочку, если она виновата, но оставь ее твоей собакой. Ты видишь, как я верна! Если хочешь, я приму твою веру, но только не принуждай меня идти замуж за Лукьяша. Мустафа мне больше по сердцу. По одному моему слову он тоже примет твою веру, и у тебя будут слугами лев и собака.