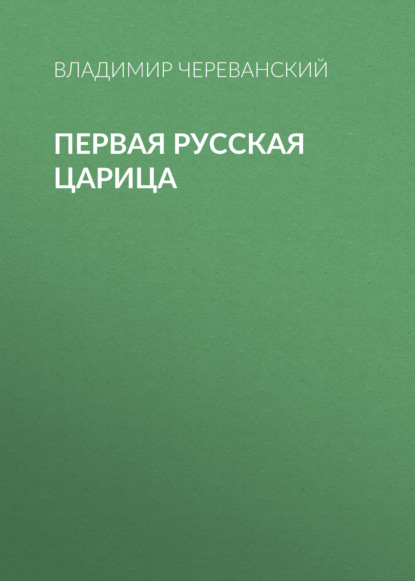000
ОтложитьЧитал
Глава XV
Крестьяне, ютившиеся в лесу за избой фараоновой матки, снарядили однажды ходока в столицу с жалобой на медведя, разорявшего немудреное хозяйство деревни. Все пчелиные борты были им опустошены, так что детям не было чем и полакомиться; лошадям тоже грозила беда остаться без овса. Не было поля, которое не изуродовал бы овсед. Ходоку наказали объяснить царским слугам, что деревне не под силу идти на мишку с одними деревянными вилами, а железных не нашлось и во всей округе. Идти с одними топорами тоже страшновато, может быть, он и подпустит, да потом непременно сдерет с головы всю кожу. Ему это нипочем, так как сомнительно, чтобы это был простой зверь – ясное дело, что на деревню напущен бесстрашный оборотень.
Ходок, исполняя поручение, добавил многое и от себя, сказав, что зверь огромного роста, и, когда он рявкнул, вся деревня затряслась. Цвет его мохнатой шерсти бурый, а глаза человечьи. Видно, что заклятый оборотень. Мелкие звереныши – зайцы, белки и даже кроты – все убежали из леса, а они знают, от кого нужно бежать. Деревня знает и стервятника с длинным туловищем и заостренной мордой, и муравьеда с плоской головой и короткой мордой, но этот на них непохож. А сколько он телят перетаскал, так и счесть невозможно. Если царю угодно будет поохотиться на зверя, то деревня соберется всей силой и наставит где следует сети, а перед самой охотой загородит выход из берлоги. Ходок добавил, что зверь потянет пудов на тридцать и что уже бояре-охотнички забегали с предложением по стольку-то с пуда…
Будучи страстным охотником, Иоанн Васильевич вопреки обыкновению повременил назначить день выезда на охоту и повелел лишь охотничьей части быть наготове в любой день и час. День этот наступил так внезапно, что не могли найти первого рынду Лукьяша, обязанного в таких случаях находиться у царского стремени. Странным показалось егерям, что приказание пришло с посыльным не из большого дворца, а из татарской слободки, где, как говорили, Иоанн Васильевич подкреплял свои силы. В последнее время он очень полюбил жареную на вертеле баранину; его поварская часть не смогла так вкусно готовить татарское жаркое.
По случаю преступного отсутствия рынды в оруженосцы записался Малюта Скуратов. Ему будто бы принадлежало право нести царскую рогатину, пока ее не потребует царь. Разумеется, никто из слуг не подумал и пикнуть против Малюты. И царь ничего не заметил, когда Малюта стал у его левого стремени.
Иоанн Васильевич нервничал как никогда. Он то опускал поводья, то без причины лютовал над своим любимым конем. Скакун долго терпел, но при незаслуженных побоях начинал и побрыкивать. Казалось, что два-три удара арапником – и конь ударится о какой-нибудь пень и сломает себе ноги. Седок, очевидно, вымещал на нем закипавшую злобу.
На кого же он злобился? Таким вопросом задавался каждый, кому подобное явление было не в диковинку. На царицу? Да за что же? К тому же уже дней десять он не был на ее половине, все это, разумеется, было известно дворцовой челяди, которая не очень-то верила, что татарское жаркое на вертеле может притягивать к себе такого едока, у которого одних поваров и поварят непочатая стая.
Еще охотничий поезд втягивался в дубраву, когда на половине царицы появилась татарская царевна, которая успела завоевать здесь такое доверие, что даже мама посылала ее к своей любимице, когда видела, что той взгрустнулось. К ней всей душой тянулись дети, так и норовя поцеловать татарочку за ее невинные, чистые ласки и веселые игры[1].
Увы! На этот раз она явилась грустной, убитой, точно, потеряв царство, она потеряла и веру в родных и подошла к тому краю, за которым начинается суд Аллаха. Вместо поцелуя руки царицы она опустилась перед ней на колени и горько, безудержно зарыдала.
– Алла-Гуль, что с тобой, – спросила недоумевавшая Анастасия Романовна, – кто и чем тебя обидел?
– Падишах твой Адам ссылает меня и всю мою семью в Касимов.
– Кто же из вас огорчил падишаха?
– Никто не огорчал его, а тебе, ты знаешь, какая я преданная рабыня. Мне расстаться с тобой нельзя.
– Я попрошу падишаха, чтобы он отменил свое распоряжение.
– Не проси! Он и на тебя рассердится и сошлет в монастырь, так он и сказал.
– Сказал? По какому случаю?
– Вот уже который раз он меня целует. А вчера засиделся и не хотел уходить из моей светелки. Сначала целовал, а потом как обнимет – кости затрещали – тут я и сказала: вспомни, падишах, что у тебя есть своя царица, а я теперь бедная, нищая татарка, для чего я тебе?
Увлеченная своей откровенной исповедью, Алла-Гуль и не заметила, что Анастасия Романовна затрепетала, как подстреленная птичка, и слезы потекли ручьями.
– Царица ты бедная! Теперь я люблю тебя больше прежнего, не принесу я тебе горе. Падишах накинулся на меня, но я боролась; он вырвал у меня половину косы, грозил пыткой, а я стояла на своем: у тебя есть царица, первая красавица по всей Москве, иди к ней, иди! И прибавила, чтобы ему чувствительнее было, что у меня есть Мустафа, он один царь моего сердца. Здесь падишах так взглянул на меня, что будь в его руках посох, не сидеть бы мне у твоих ног, не целовать бы мне твои руки на прощанье, не обнимать бы мне твоих детей. Прощай, ханым, прощай, прощайте все, и мама, и детки. Вашу татарку гонят, как нечистого шайтана, прощайте! Спасибо за теплую ласку… всем буду говорить, что русская царица – гурия, посланная Аллахом на землю.
Здесь голос Божьего цветка прервался, и она, пошатываясь, вышла. Возвратившись в свою слободу, она увидела суматоху, придворная челядь перетаскала уже весь скарб бывшей казанской царской семьи на возы, отправлявшиеся в Касимов.
Когда охотничий поезд втянулся в дубраву и поравнялся с местом, где жила фараоновая матка, произошло событие, имевшее громадные последствия. В селении, которое, казалось, уже обезлюдело, заржали кони – вероятно, фараонов выселок пополнился вновь разбойниками. На привет из тайника ответили кони охотников; там вновь заржали, здесь снова ответили. Очевидно, те и другие были дружны и одни других узнавали по звукам копыт, по манере ходьбы; видно было, что они живали в одной конюшне.
На эту особенность прежде всех обратил внимание Иоанн Васильевич, которому всего лишь подозрительный шорох являл целую картину то боярского заговора, то покушения на него неизвестных злодеев. Повернувшись к Малюте, он одним взглядом приказал произвести розыск, на что получил такой же безмолвный ответ – будет все в точности исполнено.
Далее проводник ввел группу охотников в такую темную лесную трущобу, в которой с сотворения мира не было чищено от валежника и сухостоя. На простой лошади и не выбраться бы отсюда, но проводник провел здесь всю жизнь, а вскоре показались в перелеске и крестьяне с разнообразным оружием, начиная от ухвата.
Берлога была закрыта переплетом из перекладин и петель, впрочем, не помешавших двум лайкам рвануться к зверю. Там произошла недолгая борьба, лайки завизжали и примолкли – видно, им не удалось уцепиться за уши зверя, и он сгреб их своими черными когтями, придушив насмерть. Раздразненный и освирепевший, он двинулся к выходу, сломав грудью все преграды облавы.
На воле он поднялся на задние лапы, точно своей величественной фигурой намеревался подтвердить догадку крестьян, что он не только звериный великан, но и оборотень. Когти его передних лап могли разодрать на части и лошадь, и всякую скотину. Привычный охотник, Иоанн Васильевич попятился несколько назад, чтобы выбрать опору возле пня и не поскользнуться на влажной траве. Зверь пошел, грозно раскачиваясь, прямо на него, как на главного своего врага. Однако крепко установленная рогатина царя пронзила его между лопатками, но не дошла до сердца, зверь рявкнул и одним взмахом лапы перебил рогатину, хотя и оставил половину ее в своей груди. Брызнула алая кровь, что удивило всю облаву, ожидавшую от оборотня черной крови. Не считаясь с глубокой раной, зверь уже протянул свои лапы, чтобы схватить своего врага, но вблизи появилась целая сеть рогатин. Раненный со всех сторон, гигант рявкнул в последний раз и грохнулся оземь. Уже мертвого, облава исполосовала его топорами и ножами, пока излишне ретивых охотников не остановил окрик Иоанна Васильевича.
Убитого зверя нужно было доставить в Москву и там уже снять с него шкуру. Потребовались три подводы; лошади фыркали, но им закрыли глаза, и кортеж двинулся в обратный путь. Встречные крестьяне при виде чудовища крестились и кланялись до земли храбрым охотникам, избавившим всю округу от хищника, никому не дававшего покоя.
Между тем Малюте понадобилось немного времени, чтобы узнать, кто был в гостях у фараоновой матки. Чародейка бывала уже не раз в пыточной избе, но всегда выходила на волю невредимой. Спасало ее ожерелье из золотых монет, переходивших частями с ее шеи в карманы пыточников.
По приказу Малюты все конюшенные, вооружившись совсем недавно появившимися в Москве протазанами, сомкнулись в плотный отряд, направившийся к фараоновой матке. Многие из них уже хаживали сюда, хотя и знали, что у матки бесы в грудях, но с крестами на шее и протазанами в руках можно было и с бесами поговорить как следует. Хаживали сюда и за гаданьем, и за корневищами. Один нуждался в корешках от зубной боли, другой – от женской присухи. Хаживали сюда и девицы, которым требовалось сделать аборт; фараонова матка помогала в этом деле и обирала болящих до нитки. Куда она девала младенчиков, того люди не знали, а только полагали, что она бросала их трупики в потаенный колодезь.
Как не торопил Семиткин свой отряд, а они все же опоздали явиться у подземелья незваными гостями. Кони не обменялись веселым ржанием; видно, гостивший здесь всадник уже скрылся.
Ведунью Семиткин нашел за мирным занятием – она гадала на квасной гуще и будто не приметила людей, появившихся в ее подземелье.
– Про что гадаешь, старая ведьма? – спросил Семиткин, подняв железной рукой низко опущенную голову чародейки.
– Про тебя, боярин, скоро ли мои бесы отнесут тебя в адское гнездилище.
– Ого, как ты дерзишь! А вот скажи, кто у тебя был сейчас в гостях? Куда он скрылся?
– Догони его, если можешь!
– Эй, батожники!
Вошли кнутобои – по обычаю в красных колпаках, готовые окровянить свои кафтаны.
Фараонова матка смирилась; она уже была знакома с этими красными колпаками, рубцы на спине до сих пор не зажили.
– Доставить ее на веревке в Разбойный приказ, да вот и сам начальник.
В избу вошел Малюта Скуратов.
– Обыскать все подземелье! – начал приказывать он своим подчиненным, – вынести отсюда все добро, и если где по закоулкам запрятались разбойники, пусть укажет старая ведьма. Пусть она укажет, где у нее припрятаны трупы младенцев, которых она травила в материнских утробах. Очистить это бесовское подземелье на этот раз до последней пылинки, а все улики на подводах отвезти к пыточной избе. Вычистив, опрокинуть кровли, подрубить стойки и заполнить все логовище землей и мусором, сровнять так, чтобы и следа не осталось от фараонова стойбища.
Очистка стойбища потребовала усердия всей команды, разыскавшей-таки в темницах целое кладбище зародышей и несколько скелетов женщин, поплатившихся жизнью за преступное желание освободиться от незаконных младенцев. Мешков с награбленным добром добыли на несколько возов. Когда начали рубить подставы и проваливать крышу, откуда-то из темниц выбежала целая толпа скрывавшихся там лиходеев. Все они попали на веревку.
Москва увидела небывалый поезд. Увы, бесы в грудях не защитили фараонову матку, и угроза, что у дружинников вырастут собачьи хвосты, также повисла в воздухе. Логовище ее завалили, как и всякую ненужную яму.
Много перебывало разного преступного и озлобленного народа за плотным и высоким частоколом пыточной избы; такая поистине ведьма, как фараонова матка, была здесь уже знакомым чудовищем. Как человек, однако, она возбуждала сожаление. Косматая, грязноватая, оборванная, перевязанная веревками, она буквально обливалась слезами; видно, сердце чуяло недоброе, да и кто же за этим частоколом чуял что-нибудь хорошее. У нее все было отнято, нечем было и подкупить пыточников. Даже заплечных дел мастера, выходившие из избы освежиться на воздухе, и те старались не смотреть на матку.
Она первая предстала перед грозным лицом Малюты. Перед ним она задрожала, как бесноватая. Ей развязали руки. Начался допрос.
– Кто у тебя был сегодня из москвичей? – спросил Малюта. – Говори правду, а то с первого слова вздерну на дыбы.
– Был паренек, а только мне и не к чему было спросить его, какого он рода, племени. С виду чистенький, красавец, одет боярином; конь под ним игрень; через плечо ремень, а на ремне бердыш.
– Рында?
– Ах, не знаю я этих делов, не знаю, боярин.
Малюта плеснул ладонями. Явился палач, и прямо к дыбе.
– Не знаешь?
– Дай Бог памяти, кажись, таких рындами зовут.
– Прозвище его?
Палач пошевелил веревкой и блоком.
– Люди сказывали, что прозвище ему Лукьяш.
– Бывал он у тебя прежде?
– Ох, бывал и прежде, а ныне с выговором: ничего-де, что я давала, не помогает ему, а я давала то кустик простого вереска, то клюв от дохлой вороны, известно, лишь бы отвязаться.
– Зачем приходил?
Теперь же заплечных дел мастер вынул веник из ларя и облил его маслом.
– Просил корешок на засуху.
Вспыхнувший пламенем веник зловеще осветил избу. Палач выдвинул на середину избы деревянную кобылу с ремнями и разными зацепами. Пока он прилаживал ошейник, допрос продолжался:
– Для приворота? Да ты не тяни, кого и от кого он намеревался присушить?
– Просил отворить царя от татарской царевны. А только я сказала, что такими корнями не владею. Навести на кого порчу могу, а корнями не владею. Если поискать в лесу, так можно найти.
– Теперь сказывай, сколько ты душ, сколько ангелочков загубила? Какую за то плату брала?
– Не брала, боярин, не брала, я по доброте…
– Ну так мы здесь расплатимся за твою доброту.
По знаку Малюты палач подвел фараонову матку к дыбе. Ноги у нее подогнулись, и она упала пластом на землю. Так притвориться было мудрено, и заплечных дел мастер, подставив ладонь к ее рту, произнес короткое слово: «Кончилась!»
– Закопать на месте ее логовища, пусть это место будет проклятое. Какой она веры – нам не ведомо, поэтому выставить над ее могилой перекладину, чтобы вешать на ней бешеных собак. Введите ее приятелей.
Допрос продолжался. Признания были чудовищные, особенно когда на тело допрашиваемого капало масло с горевшего веника. О душегубстве, как о житейской мелочи, разговоры были невелики, а когда дело коснулось с дьявольской силой, так даже позвали дьяка, который записал немало наваждений, заклинаний и заговоров. Все допрошенные под горячими вениками признавались в договорах с дьяволами, которые раздавали своим поклонникам кому что приглянулось: господство над засухами, наводнениями, падежом скота, мором на людей, наваждениями, бесплодием, дурным глазом. Старейшины этой банды занимались приготовлением любовных напитков, приворотными и отворотными снадобьями, изгнанием бесов. Заключившие договор с нечистью пользовались уже услугами самого дьявола и побаивались только фараоновой матки.
– Ну а как же вы делили награбленное? – спросил Малюта, привыкший за свою пыточную службу не верить в бесовскую силу. – Еще ни один слуга бесовский не отказывался от добычи.
На его вопрос банда отмолчалась.
Дознание выяснило, что рында Лукьяш не раз приезжал к фараоновой матке то за приворотом, то за отворотом. Он не брезговал даже выпивать настой на лягушачьих лапках и являлся благодарить за помощь, тогда как ему давали всего лишь мешанину полыни с горечавкой.
Пока в пыточной избе слышался треск человеческих костей у дыбы и стенания у машины, вытягивавшей у одного руки, у другого ноги, рында Лукьяш тайно вошел в мамину комнатку.
Здесь он перевел дух, точно спасшийся от погони.
– Прощай, мама, – произнес он наконец, отвечая на пытливый и отчасти испуганный взгляд мамы. – Спасибо тебе, родная, за твою великую доброту. Я только и свет видел, что через тебя, прощай, больше не увидимся.
– В своем ли ты уме, что случилось?
– Провинился! Сегодня раненько утром я помчался к фараоновой матке с решением хоть задушить чародейку, но добыть у нее отворотный корень. Корня я не добыл, а службу у царского стремени пропустил. Не знаю, каким путем царь дознался, что я у фараоновой матки, только теперь за мной погоня, словно за лиходеем. Семиткин, ты знаешь, не может забыть, кто его сделал полубородым. Говорят, Малюта захватил и фараонову матку, и всех подручных, и теперь идет допрос с пытками – кто был, чего желал. Не устоять разбойникам перед дыбой. Семиткин станет поджаривать на углях, как тут не признаться!
– Авось Бог милостив и пронесет грозу.
– Нет, родная, не успокаивай, быть мне под горящим веником. Мне отпереться тоже нелегко; положим, я отопрусь, и будь я трижды проклят, если помяну под горящим веником твое имя и имя царицы, но все же спасения не вижу. Говорят, что Иоанн Васильевич сегодня лютует, охота была неудачна, а когда он лютует… сама знаешь, его волей правит Малюта, прощай!..
Лукьяш опустился на колени и припал к ногам старой мамы.
– Что же ты будешь делать?
– Убегу в Литву. Уже и кони заказаны, прощай, больше не увидимся. Прощай, скажи царице… нет, ничего ей не говори… скажи разве только, что злодеем ей я не был и, видит Бог, не буду. Прощай, бегу, бегу!
Мама не успела ничего сообразить, как Лукьяш был уже за дверью. С этой минуты мама его больше не видела. Со времени бегства в Литву нескольких бояр на дорогу выставлялись пограничные посты, но он будто под землю провалился. Было бы слышно, если бы он бросился в колодезь или отправился к крымскому хану, да разве он на это способен? Нет, видно, он подался в Литву, а там он будет желанным гостем. Но не попал ли он в руки тайных Малютиных костоломов? Все могло случиться… До всего могло довести его горячее сердце.
Алексей Адашев и иерей Сильвестр уже в эту пору почти потеряли доверие царя. Его повеления исполнял близкий родственник Малюты – Бельский. Душа этого человека не тяготилась, когда ему выпало передать указ Иоанна Васильевича, чтобы царица с мамой и вся ее половина собирались бы в путь-дорогу. Куда, об этом было объявлено накануне самого отъезда: в Александровскую слободу. Впрочем, как бы для смягчения такого жестокого решения и половина царя должна была вскоре отправиться туда же. В этих распоряжениях сказывалось горячее сердце Иоанна Васильевича.
Вся Москва оказалась в опале. В самый день отъезда Иоанн Васильевич переменил свое решение и вместо Александровской слободы велел повернуть поезд царицы и все обозы в село Коломенское. В тот же день случился большой пожар. Поезду пришлось пробираться между рядами горевших зданий. Искры много раз падали в возок царицы, ей пришлось самой оберегать детей – Иоанна и Евдокию. И не столько по обманности, сколько из-за любви и преданности к Анастасье Романовне ее слуги и бояре вынесли поезд из пылавшего Арбата. А царь напоказ всей Москве кинулся тушить огонь и спасать сирых и убогих.
За это простолюдины дали ему прозвание «народного царя».
Глава XVI
Великий скопидом земли русской Иоанн I Калита, перечисляя в духовном завещании свои великокняжеские вотчины, поименовал и село Коломенское. Село он устроил, купив у города Коломны земельный участок. Здесь охотно поселились горожане, соблазненные густым лесом, обилием воды и плодородным черноземом.
Много раз село разорялось и Крымской ордой, и польско-литовскими рыцарями, но оно постоянно возрождалось и становилось красивее прежнего. Об этом заботились государи, подолгу отдыхавшие здесь от московской суеты. Алексей Михайлович превратил село в свою летнюю резиденцию, здесь он принимал послов, предоставляя им возможность развлекаться богатой охотой.
Небольшой деревянный дворец вполне удовлетворял неприхотливым потребностям XVI века. Ко времени переселения сюда царской семьи при дворце уже был храм Вознесения, и при нем, по обычаю, монастырек из нескольких скромных келий. Дворец подправили и подновили; при нем устроили на радость царице особый двор, где кормили голодных прохожих. На кормежном дворе стояло несколько кухонь с амбарами для провизии и даже прудик для живой рыбы. Здесь еще до приезда царицы засеки были наполнены до краев, а амбары до стропил; между тем монастырь и наместники продолжали посылать сюда обоз за обозом со всяким продовольствием. Сюда шли те три тысячи рыбин, которыми расплачивалась Астрахань в виде дани московскому государю, и вобла с Дона, а для хранения капусты, свеклы, лесного ореха и помещения недостало. Картофель был еще неизвестен Московскому государству.
Царице оставалось только радоваться этому изобилию, дававшему возможность наделять каждого голодного прохожего горячей пищей. Маму хотели поселить в монастырьке на правах игуменьи, но она отказалась от этого предложения и попросила доложить царю, что она с превеликой охотой поселилась бы в монастыре, да ей чудится, что царица болеет сердцем.
Царица не скрывала, что у нее плохое сердце, из-за чего она с трудом посещала кормежный двор. По ее предположению, она заболела в ту самую минуту, когда, следуя в открытом возке по пылавшим улицам Москвы, увидела, как раскаленный уголек попал на головку ее любимицы Евдокии. К счастью, мама в тот момент не растерялась, сбросила уголек, но тут случилась другая беда – уголек упал на епанечку Феденьки и скатился в возок на соломенную подстилку. Солома затлелась, но подоспела помощь из другого возка, и мама получила лишь небольшие ожоги. Но сердце царицы в тот момент заработало с необыкновенной быстротой, да так и не переставало болеть.
Получив такое грозное известие, весь Кремль подумал, что царь потребует верхового коня и поскачет к больной царице. Ему, как опытному наезднику, ничего бы не значило донестись до Коломенского за час-полтора, но вместо того он приказал позвать к нему случившегося в Москве доктора английской королевы и отправил его к больной царице.
Вид пациентки встревожил врача. Прежде чем применять привезенные им порошки и капли, он выразил желание выслушать сердце царицы не через платье, а приложив ухо к самой груди. Однако мама не допустила до такого греха. Правда, доктор был уже стар, лыс и беззуб, все же мама решила, что желание «дохтура» есть не более как его причуда. Напрасно он уверял, что не выслушав как следует он не посмеет посоветовать царице те или другие порошки и капли, между тем опасность, как видно, велика. «Причуды!» – твердила мама – и доктору пришлось применить свои лекарства без выслушивания сердца.
Доктор был довольно искусным и по временам являлась даже надежда, что царица еще долгие годы будет править своей кормежной палатой. Митрополит Макарий заботливо следил, чтобы в церквах совершали молебны о здравии царицы Анастасии Романовны. Бояре выставили на углах улиц холопов с лотками пирогов, которыми оделяли прохожих нищих с наставлением кушать во здравие царицы. В пыточной избе, переведенной тоже в Коломенское село, перестали хрустеть человеческие кости. Юродивые ходили по улицам с кадилами, издававшими фимиам росного ладана. Даже новгородцев не казнили. Царь разослал по монастырям четки, которые привезли явившиеся за подаянием на лампады ко Гробу Господнему. Притихла и война в Ливонии, и только от крымского хана отбивались на Оке.
Одно время здоровье царицы так поправилось, что доктор разрешил группе явившихся бояр предстать перед ней с дарами и поклонами. Войдя в приемную палату, бояре загадочно переглянулись между собой, увидев бледную и хилую царицу. Ставший во главе депутации князь Репнин хотел, кажется, сказать своими умными глазами товарищам: «В гроб краше кладут! Время ли тревожить ее нашей просьбой?»
Решение бояр, однако, было твердым, и в ответных взглядах князь Репнин прочел: «Поступай, как уговорились».
– Царица, мы пришли сложить свои головы у твоих ног, – выговорил князь. – Скажи супругу, чтоб он нас казнил, а мы все же просим тебя выслушать, что лежит на сердце у каждого боярина. Мы заработали свое положение, одни под вражьими мечами, другие у кормила правления правдой и любовью к родной земле. И все же скоро нас всех проведут через пыточную избу; мы унижены и забыты, как последние холопы. Далее так жить нельзя. И вот мы надумали идти к тебе, благодушной, милостивой и мудрой жене: возьми в свои руки самодержавство и умиротвори верных слуг земли. Больше нам не на кого надеяться. Вручаем тебе скипетр, по твоему слову бояре поднимутся как один человек. Все мы, здесь находящиеся, отдаем тебе свои головы…
Предложение было так неожиданно, что царица с трудом сообразила, что ответить.
– Бояре, я доживаю свои последние дни, и не по моей силе, не по моему разуму ваши слова. Господь с вами, идите с миром. Поступим так: я ничего от вас не слышала, а вы ничего, кроме добрых пожеланий выздоровления, не говорили. Не бойтесь за свои головы, но бойтесь моих стен, они слышат; тебе же, князь Репнин, лучше в Литву отъехать, а в спутники взять князя Оболенского. Несдобровать тебе, князь, за твой строптивый нрав. Прощайте, бояре, я устала, едва дышу, ох мое бедное сердце. Мама!
А мама давно уже из-за двери подавала ей знак прекратить аудиенцию, принять лекарство и успокоиться.
– И охота тебе слушать этих бунтарей? – укорила мама свою любимицу. – Репнину да Оболенскому самим хотелось бы занять такое же место возле тебя, какое занимал Телепнев при покойной Елене, но все же я горжусь твоим ответом, так бы ответить не сумела и твоя старая мама. Вот только растревожилась сильно, за это дохтур не похвалит. Сердись не сердись, а я его позову.
Больная не успела остановить маму, по приказу последней вся золотошвейная мелюзга побежала за доктором. При одном взгляде на пылавшее лицо царицы, на неестественно блестевшие глаза англичанин значительно покачал головой. Учащенный пульс явственно отражался на висках.
– Ну уж по грехам по нашим нужно позволить тебе послушать ее сердечко. На, слушай, а только никому не говори…
Мама сама расстегнула крючочки на груди больной и указала доктору, где нужно слушать. Доктор послушал сердце, постукал по грудной клетке и закончил тем свой осмотр, что поцеловал руку царицы и поспешно вышел из ее опочивальни.
– Сказывай! – повелела догнавшая его мама. – Сказывай, что открыло тебе ее сердце.
– Сейчас приготовлю лекарства, – уклончиво ответил англичанин. – Видно, вы недосмотрели, или сильно огорчили, или испугали, а только у нее сердце бьет сейчас тревогу. Если хотите спасти царицу, тогда позвольте мне оставаться возле ее кровати безотлучно.
Мама хотела было запротестовать, но доктор заявил решительно. «В таком случае готовьтесь к ее смерти».
– Ну уж… по нашим грехам, пусть будет по твоему. Только чтобы в двое, трое суток она ходила козырем и распевала пташкой.
Доктор отрицательно покачал головой и чуть-чуть не сказал маме, что она добрая старая дура. Примененные доктором средства принесли видимую пользу, по крайней мере после нескольких капель и двух-трех порошков жар у больной уменьшился, и глаза приобрели нормальный блеск. Теперь мама и сама предложила доктору послушать сердце. Доктор хотел удовлетвориться прослушиванием и постукиванием через сорочку, но мама сама потребовала, чтобы он по-настоящему исполнял свое дело. Сама больная ни во что не вмешивалась и безвольно подчинялась этому старому иноземцу, который своим корявым пальцем постукивал теперь по ее белоснежной грудной клетке. На его вопрос – «чего бы она хотела?» – больная скромно пожелала посидеть на террасе и подышать настоящим воздухом. Врач ответил, что дня два нужно полежать в постели, а там он сам устроит прогулку больной.
По два раза в день мама посылала гонцов в Москву с весточками о состоянии царицы. Посыльные сообщали об улучшении ее здоровья, но все же мама просила царя как о великой милости пожаловать в Коломенское для воскрешения умирающей.
В эту пору Иоанна Васильевича волновали больше государственные, а не семейные дела. Упорство Ливонии сильно подрывало его славу, там последовал ряд неудач. Предвидя, однако, невозможность удержать свою самостоятельность, Ливония преклонилась Польше, призывая в то же время на борьбу с господством России все северные страны. Податливее других оказалась Швеция, упорно посягавшая на величие Московского государя. Стремление вознестись над всеми царями и королями затмевало от Иоанна Васильевича истинное положение дел в его собственном государстве. Он был убежден, что имеет нужду только в милости Божией, Пречистой Деве Марии и совести угодников, но никак не в человеческом наставлении. По крайней мере так он писал в послании к перебежчикам в Литву: Россия, по его словам, благоденствует, и ее бояре живут в любви и согласии.
В этот момент ослепления властью его поразила весть от мамы: царица при смерти, ей осталось жить не более двух-трех дней. Посылая гонца с этой печальной новостью, мама прибавила, что больная выразила желание увидеть возле себя ее прежних верных слуг – Алексея Адашева, иерея Сильвестра и князя Сицкого, в доме которого она провела свое детство.
Всем этим событиям предшествовало то, что, уступая желанию больной, доктор сам выбрал приятный уголок на дворцовой террасе, откуда кормежный двор был виден как на ладони. Много раз больная спрашивала точно в забытьи, кто-то будет кормить после ее смерти эту девочку, что привозят в тележке, или того калеку, у которого рука не доносит до рта и кусок хлеба, и будут ли отпускать молока матери, приводившей пяток голодных ребят.
Мама с доктором и иереем дворцовой церкви перенесли больную на террасу, возле них суетились боярышни-золотошвеи, днем и ночью ухаживавшие за царицей.
На террасе висели кормушки для певчих птиц. Уголок пришелся больной по сердцу, особенно потому что стоило ей опустить голову на подушку и закрыть веки, как перед ней вставали юные годы. Вот она, едва еще державшаяся на ножках без помощи мамы, напрашивается прогулять ее по саду. Муж ее покойной сестры отлично понимал, чего желает куколка, как ее называли близкие, когда она цеплялась за его руку. Когда она уже подросла, под ее начало перешли все кормушки в саду и все гнездышки в кустах бузины и сирени. Вспомнилось ей, как она застала дворового мальчишку у разоренного им гнезда. Ужасно она вспылила и прямо-таки исцарапала рожицу мальчишки. Тот заревел, тогда она сама вытерла его слезы и обещала принести ему свою долю сладкого пирога.
Потом у нее появился сердечный друг Лукьяш, отлично умевший изображать кролика. Стоило ей выйти в сад на прогулку, как Лукьяш был тут как тут. Ей очень нравилось, когда он поспешал за ней на четвереньках и подпрыгивал кроликом с пучком травы в зубах.