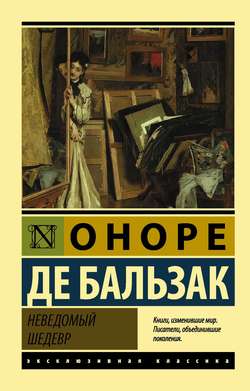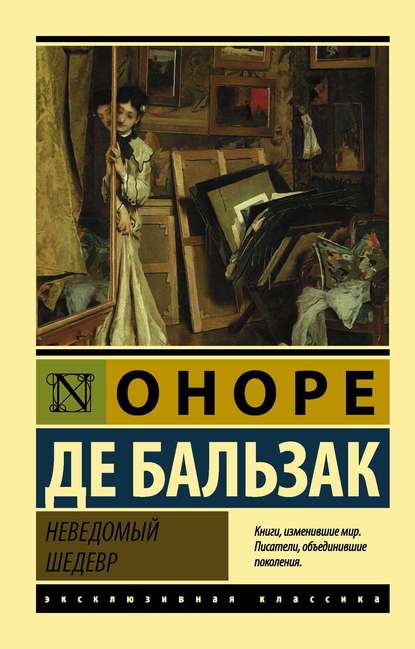© ООО «Издательство АСТ», 2019
Эликсир долголетия
Зимним вечером дон Хуан Бельвидеро угощал одного из князей д’Эсте в своем пышном феррарском палаццо. В ту эпоху праздник превращался в изумительное зрелище, устраивать которое мог лишь неслыханный богач или могущественный князь. Семь женщин вели веселую приятную беседу за столом, на котором горели благовонные свечи; по сторонам на красной облицовке стен выделялись беломраморные изваяния и контрастировали с богатыми турецкими коврами. Одетые в атлас, сверкающие золотом, убранные драгоценными каменьями – менее яркими все же, чем их глаза, – всем своим видом эти семь женщин повествовали о страстях, одинаково сильных, но столь же разнообразных, сколь разнообразна была их красота. Их слова, их понятия сходствовали между собой, но выражение лица, взгляд, какой-нибудь жест или оттенок в голосе придавали их речам свой характер беспутный, сладострастный, меланхолический или задорный.
Казалось, одна говорила: «Моя красота согреет оледенелое сердце старика».
Другая: «Мне приятно лежать на подушках и опьяняться мыслью о тех, кто меня обожает».
Третья, еще новичок на этих празднествах, краснела: «В глубине сердца слышу голос совести! Я католичка и боюсь ада. Но вас я так люблю, так люблю, что ради вас готова пожертвовать и вечным спасением».
Четвертая, опустошая кубок хиосского вина, восклицала: «Да здравствует веселье! С каждой зарей обновляется моя жизнь. Не помня прошлого, каждый вечер, еще пьяная после вчерашних поединков, я снова до дна пью блаженную жизнь, полную любви!»
Женщина, сидевшая возле Бельвидеро, метала на него пламя своих очей, но безмолвствовала. «Мне не понадобятся bravi, чтобы убить любовника, ежели он меня покинет!» Она смеялась, но ее рука судорожно ломала чеканную золотую бонбоньерку.[1]
– Когда станешь ты герцогом? – спрашивала шестая у князя, сверкая хищной улыбкой и очами, полными вакхического бреда.
– Когда же твой отец умрет? – со смехом говорила седьмая, пленительным, задорным движением кидая в дона Хуана букет. Эта невинная девушка привыкла играть всем священным.
– Ах, не говорите мне о нем! – воскликнул молодой красавец дон Хуан Бельвидеро. – На свете есть только один бессмертный отец, и, на беду мою, достался он именно мне!
Крик ужаса вырвался у семи феррарских блудниц, у друзей дона Хуана и самого князя. Лет через двести, при Людовике XV, франты расхохотались бы над подобной выходкой. Но, может быть, в начале оргии еще попросту не совсем замутились души? Несмотря на пламя свечей, на страстные возгласы, на блеск золотых и серебряных ваз, на хмельное вино, несмотря на то что взорам являлись восхитительнейшие женщины, – может быть, сохранялась в глубине этих сердец чуточка стыда перед людским и Божеским судом – до тех пор, пока оргия не затопит ее потоками искрометного вина! Однако цветы уже измялись и глаза стали шалыми – опьянели уже и сандалии, как выражается Рабле. И вот в тот миг, когда господствовало молчание, открылась дверь и, как на пиршестве Валтасара, явился сам дух Божий в образе старого седого слуги с нетвердой походкой и насупленными бровями. Он вошел уныло, и от взгляда его поблекли венки, кубки рдеющего вина, пирамиды плодов, блеск празднества, пурпуровый румянец изумленных лиц и яркие ткани подушек, служивших опорою женским белым плечам. И весь этот сумасбродный праздник подернулся флером, когда слуга глухим голосом произнес мрачные слова:
– Ваша светлость, батюшка ваш умирает…
Дон Хуан поднялся, послав гостям молчаливый привет, который можно было истолковать так: «Простите, подобные происшествия случаются не каждый день».
Нередко смерть близких застает молодых людей среди праздника жизни, на лоне безумной оргии. Смерть столь же прихотлива, как своенравная блудница, но смерть более верна и еще никого не обманула.
Закрыв за собой дверь зала и направившись по длинной галерее, темной и холодной, дон Хуан пытался принять надлежащую осанку: ведь, войдя в роль сына, он вместе с салфеткой отбросил свою веселость. Чернела ночь. Молчаливый слуга, провожавший молодого человека к спальне умирающего, настолько слабо освещал путь своему хозяину, что смерть, найдя себе помощников в стуже, безмолвии и мраке, а может быть, и в упадке сил после опьянения, успела навеять на душу расточителя некоторые размышления: вся его жизнь возникла перед ним, и он стал задумчив, как подсудимый, которого ведут в трибунал.
Отец дона Хуана, Бартоломео Бельвидеро, девяностолетний старик, большую часть своей жизни потратил на торговые дела. Изъездив вдоль и поперек страны Востока, прославленные своими талисманами, он приобрел там не только несметные богатства, но и познания, по его словам, более драгоценные, чем золото и бриллианты, которыми он уже не интересовался. «Для меня каждый зуб дороже рубина, а сила дороже знания», – улыбаясь, восклицал он иногда. Снисходительному отцу приятно было слушать, как дон Хуан рассказывал о своих юношеских проделках, и он шутливо говаривал, осыпая сына золотом: «Дитя мое, занимайся только глупостями, забавляйся, мой сын!» То был единственный случай, когда старик любуется юношей; с отеческой любовью взирая на блистательную жизнь сына, он забывал о своей дряхлости. В прошлом, когда уже достиг шестидесятилетнего возраста, Бартоломео влюбился в ангела кротости и красоты. Дон Хуан оказался единственным плодом этой поздней и кратковременной любви. Уже пятнадцать лет оплакивал старик кончину милой своей Хуаны. Многочисленные его слуги и сын объясняли стариковским горем странные привычки, которые он усвоил. Удалившись в наименее благоустроенное крыло дворца, Бартоломео покидал его лишь в самых редких случаях, и даже дон Хуан не смел проникнуть в его апартаменты без особого разрешения. Когда же добровольный анахорет проходил по двору или по улицам Феррары, то казалось, что он чего-то ищет: он ступал задумчиво, нерешительно, озабоченно, подобно человеку, борющемуся с какой-нибудь мыслью или воспоминанием. Меж тем как молодой человек давал пышные празднества и палаццо оглашалось радостными кликами, а конские копыта стучали на дворе и пажи ссорились, играя в кости на ступеньках лестницы, Бартоломео за целый день съедал лишь семь унций хлеба и пил одну лишь воду. Иногда полагалось подавать ему птицу, но лишь для того, чтобы он мог бросить кости своему верному товарищу – черному пуделю. На шум он никогда не жаловался. Если во время болезни звук рога и лай собак нарушали его сон, он ограничивался словами: «А, это дон Хуан возвращается с охоты!» Никогда еще не встречалось на свете отца столь покладистого и снисходительного, поэтому, привыкнув бесцеремонно обращаться с ним, юный Бельвидеро приобрел все недостатки избалованного ребенка; как блудница с престарелым любовником, держал он себя с отцом, улыбкой добиваясь прощения за наглость, торгуя своей нежностью и позволяя себя любить. Мысленно восстанавливая картины юных своих годов, дон Хуан пришел к выводу, что доброта его отца безупречна. И, чувствуя, пока он шел по галерее, как в глубине сердца рождаются угрызения совести, он почти прощал отцу, что тот зажился на свете. Он вновь обретал в себе сыновнюю почтительность, как вор готовится стать честным человеком, когда предвидит возможность пожить на припрятанные миллионы. Вскоре молодой человек достиг высоких и холодных залов, из которых состояли апартаменты его отца. Вдоволь надышавшись сыростью, затхлостью, запахом старых ковровых обоев и покрытых пылью и паутиной шкафов, он очутился в жалкой спальне старика, перед тошнотворно пахнущей постелью возле полуугасшего очага. На столике готической формы стояла лампа и время от времени освещала ложе вспышками света то ярче, то слабее, каждый раз по-новому обрисовывая лицо старика. Сквозь плохо прикрытые окна свистел холодный ветер, и снег хлестал по стеклам с глухим шумом. Эта картина создавала такой резкий контраст празднику, только что покинутому доном Хуаном, что он не мог сдержать дрожи. А затем его пронизал холод, когда он подошел к постели и при сильной вспышке огня, раздуваемого порывом ветра, обозначилась голова отца: черты лица его уже осунулись, а кожа, плотно обтянувшая кости, приобрела страшный зеленоватый цвет, еще более заметный из-за белизны подушки, на которой покоилась голова старика; из полуоткрытого и беззубого рта, судорожно сведенного болью, вырывались вздохи, сливавшиеся с воем метели. Даже в последние мгновения жизни его лицо сияло невероятным могуществом. Высшие духовные силы боролись со смертью. Глубоко впавшие от болезни глаза сохраняли необычайную живость. Своим предсмертным взглядом Бартоломео как бы старался убить врага, усевшегося у его постели. Острый и холодный взор был еще страшнее из-за того, что голова оставалась неподвижной и напоминала череп на столе у медика. Под складками одеяла ясно вырисовывалось тело старика, такое же неподвижное. Все умерло, кроме глаз. Невнятные звуки, исходившие из его уст, носили какой-то механический характер. Дон Хуан немножко устыдился, что подходит к ложу умирающего отца, не сняв с груди букета, брошенного ему блудницей, принося с собой благоухание праздника и запах вина.
– Ты веселился! – воскликнул отец, приметив сына.
В ту же минуту легкий и чистый голос певицы, которая пела на радость гостям, поддержанный аккордами ее виолы, возобладал над воем урагана и донесся до комнаты умирающего… Дону Хуану хотелось бы заглушить этот чудовищный ответ на вопрос отца.
Бартоломео сказал:
– Я не сержусь на тебя, дитя мое.
От этих нежных слов не по себе стало дону Хуану, который не мог простить отцу его разящей как кинжал доброты.
– О, как совестно мне, отец! – сказал он лицемерно.
– Бедняжка Хуанино, – глухо продолжал умирающий, – я всегда был с тобою так мягок, что тебе незачем желать моей смерти!
– О! – воскликнул дон Хуан. – Я отдал бы часть своей собственной жизни, только бы вернуть жизнь вам!
«Что мне стоит это сказать! – подумал расточитель. – Ведь это все равно что дарить любовнице целый мир!»
Едва он так подумал, старый пудель залаял так, что от его лая задрожал дон Хуан: казалось, пес проник в его мысли.
– Я знал, сын мой, что могу рассчитывать на тебя! – воскликнул умирающий. – Я не умру. Да, ты будешь доволен. Я останусь жить, но это не будет стоить ни одного дня твоей жизни.
«Он бредит», – решил дон Хуан, а вслух произнес:
– Да, мой обожаемый отец, вы проживете еще столько, сколько проживу я, ибо ваш образ непрестанно будет пребывать в моем сердце.
– Не о такой жизни идет речь, – сказал старый вельможа, собираясь с силами, чтобы приподняться на ложе, ибо в нем возникло вдруг подозрение – одно из тех, что рождаются лишь в миг смерти. – Выслушай меня, мой сын, – продолжал он голосом, ослабевшим от этого последнего усилия, – я отказался бы от жизни так же неохотно, как ты – от любовниц, вин, коней, соколов, собак и золота…
«Разумеется», – подумал сын, становясь на колени у постели и целуя мертвенно-бледную руку Бартоломео.
– Но, отец мой, дорогой отец, – продолжил он вслух, – нужно покориться воле Божьей.
– Бог – это я! – пробормотал в ответ старик.
– Не богохульствуйте! – воскликнул юноша, видя, какое грозное выражение появилось на лице старика. – Остерегайтесь, вы удостоились последнего миропомазания, и я не мог бы утешиться, если бы вы умерли без покаяния.
– Выслушай же меня! – воскликнул умирающий со скрежетом зубовным.
Дон Хуан умолк. Воцарилось ужасное молчание. Сквозь глухой свист ветра еще доносились аккорды виолы и прелестный голос, слабые, как утренняя заря. Умирающий улыбнулся.
– Спасибо тебе, что пригласил певиц, что привел музыкантов! Праздник, юные и прекрасные женщины, черные волосы и белая кожа! Все наслаждения жизни. Вели им остаться, я оживу…
«Бред все усиливается», – подумал дон Хуан.
– Я знаю средство воскреснуть. Поищи в ящике стола, открой его, нажав пружинку, прикрытую грифом.
– Открыл, отец.
– Возьми флакон из горного хрусталя.
– Он в моих руках.
– Двадцать лет потратил я на… – В эту минуту старик почувствовал приближение конца и собрал все силы, чтобы произнести: – Как только я испущу последний вздох, тотчас же натри меня всего этой жидкостью, и я воскресну.
– Здесь ее не очень много, – ответил юноша.
Хотя говорить уже не мог, Бартоломео сохранил способность слышать и видеть. В ответ на слова сына голова старика с ужасной быстротой повернулась к нему, и шея застыла в этом повороте, как у мраморной статуи, которая, по мысли скульптора, обречена смотреть в сторону; широко открытые глаза приобрели жуткую неподвижность. Он умер, умер, потеряв свою единственную, последнюю иллюзию. Пытаясь найти убежище в сердце сына, он обрел могилу глубже той, которую выкапывают для покойников. И вот ужас разметал его волосы, а глаза, казалось, говорили. То был отец, в ярости взывавший из гробницы, чтобы потребовать у Бога отмщения!
– Эге! Да он кончился! – воскликнул дон Хуан.
Спеша поднести к свету лампы таинственный хрустальный сосуд подобно пьянице, который смотрит на свет бутылку в конце трапезы, он и не заметил, как потускнели глаза отца. Раскрыв пасть, пес поглядывал то на мертвого хозяина, то на эликсир, и точно так же сын смотрел поочередно на отца и на флакон. От лампы лился мерцающий свет. Все вокруг молчало, виола умолкла. Бельвидеро вздрогнул: показалось, что отец шевельнулся. Испуганный застывшим выражением глаз-обвинителей, он закрыл отцу веки; так закрывают ставни, если они стучат на ветру в осеннюю ночь. Дон Хуан стоял прямо, неподвижно, погруженный в целый мир мыслей. Резкий звук, подобный скрипу ржавой пружины, внезапно нарушил тишину. Захваченный врасплох, дон Хуан едва не выронил флакон. Вдруг его с ног до головы обдало потом, который был холоднее, чем сталь кинжала. Раскрашенный деревянный петух поднялся над часами и трижды пропел. То был искусный механизм, будивший ученых, когда полагалось им садиться зa занятия. Уже порозовели стекла от зари. Десять часов провел дон Хуан в размышлениях. Старинные часы вернее, чем он, исполняли свой долг по отношению к Бартоломео. Их механизм состоял из деревяшек, блоков, веревок и колесиков, а в доне Хуане был механизм, именуемый «человеческое сердце». Чтобы не рисковать потерею таинственной жидкости, скептик дон Хуан вновь спрятал ее в ящик готического столика. В эту торжественную минуту до него донесся из галереи глухой шум, неявственные голоса, подавленный смех, легкие шаги, шуршание шелка – словом, слышно было, что приближается веселая компания. Дверь открылась, вошел князь, друзья дона Хуана, семь блудниц и певицы, образуя беспорядочную группу, как танцоры на балу, врасплох захваченные утренними лучами, когда солнце борется с бледными огоньками свечей. Они все явились, чтобы, как это полагается, выразить наследнику свои соболезнования.
– Ого! Бедняжка дон Хуан, должно быть, принимает эту смерть всерьез? – сказал князь на ухо Брамбилле.
– Но ведь его отец был в самом деле очень добр, – ответила она.
Между тем от ночных дум на лице дона Хуана появилось такое странное выражение, что вся компания умолкла. Мужчины стояли неподвижно, а женщины, хотя их губы иссохли от вина, а щеки, как мрамор, покрылись розовыми пятнами от поцелуев, преклонили колена и принялись молиться. Дон Хуан невольно содрогнулся при виде того, как роскошь, радость, улыбки, песни, юность, красота, власть: все, что олицетворяло жизнь, – пало ниц перед смертью. Но в восхитительной Италии беспутство и религия сочетались друг с другом так легко, что религия становилась беспутством и беспутство – религией! Князь сочувственно пожал руку дону Хуану; потом на всех лицах мелькнула одна и та же полупечальная-полуравнодушная гримаса, и фантасмагорическое видение исчезло, зал опустел. То был образ самой жизни. Сходя по лестнице, князь сказал Ривабарелле:
– Странно! Кто бы подумал, что дон Хуан мог похваляться безбожием? Он любит отца.
– Обратили вы внимание на черного пса? – спросила Брамбилла.
– Богатствам его счету нет теперь, – со вздохом заметила Бьянка Каватолино.
– Велика важность! – воскликнула горделивая Варонезе, та самая, которая сломала бонбоньерку.
– Велика ли важность? – воскликнул герцог. – Благодаря своим червонцам он стал таким же могущественным властелином, как я!
Сначала дон Хуан, колеблясь между тысячью мыслей, не знал, какое решение принять. Но советчиками его сделались скопленные отцом сокровища, и, когда он вернулся вечером в комнату покойника, душа его была уже чревата ужасающим эгоизмом. В зале слуги подбирали украшения для того пышного ложа, на котором покойной светлости предстояло быть выставленной напоказ, среди множества пылающих свечей, чтобы вся Феррара могла любоваться этим занимательным зрелищем. Дон Хуан подал знак, и челядь остановилась, онемев и дрожа.
– Оставьте меня здесь одного, – сказал он странно изменившимся голосом. – Зайдете сюда потом, когда я выйду.
Лишь только шаги старого слуги, ушедшего последним, замерли вдалеке на каменных плитах пола, дон Хуан поспешно запер дверь и, уверившись в том, что никого, кроме него, здесь нет, воскликнул:
– Попытаемся!
Тело Бартоломео покоилось на длинном столе. Чтобы спрятать от взоров отвратительный труп дряхлого и худого, как скелет, старика, бальзамировщики покрыли тело сукном, оставив открытой одну только голову. Это подобие мумии лежало посреди комнаты, и хоть мягкое сукно неявственно обрисовывало очертания тела, видно было, какое оно угловатое, жесткое и тощее. Лицо уже покрылось большими лиловатыми пятнами, напоминавшими о том, что необходимо поскорее закончить бальзамирование. Хоть дон Хуан и был вооружен скептицизмом, но, откупоривая волшебный хрустальный сосуд, дрожал. Когда он приблизился к голове, то был принужден передохнуть минуту, так как его лихорадило. Но его уже в эти юные годы до мозга костей развратили нравы беспутного двора. И вот размышления, достойные герцога Урбинского, придали ему храбрости, поддержанной к тому же острым любопытством; казалось, что сам демон шепнул ему слова, отозвавшиеся в сердце: «Смочи ему глаз!» Он взял полотенце и, осторожно обмакнув самый кончик его в драгоценную жидкость, легонько провел им по правому веку трупа. Глаз открылся.
– Ага! – произнес дон Хуан, крепко сжимая в руке флакон, как мы во сне хватаемся за сук, поддерживающий нас над пропастью.
Он увидел глаз, ясный, как у ребенка, живой глаз мертвой головы. Свет дрожал в нем среди свежей влаги, и, окаймленный прекрасными черными ресницами, он светился подобно тем одиноким огонькам, что зимним вечером видит путник в пустынном поле. Сверкающий глаз, казалось, готов был броситься на дона Хуана; он мыслил, обвинял, проклинал, угрожал, судил, говорил; он кричал; он впивался в дона Хуана. Он был обуреваем всеми страстями человеческими. Он выражал то нежнейшую мольбу, то царственный гнев, то любовь девушки, умоляющей палачей о помиловании, – словом, это был глубокий взгляд, который бросает людям человек, поднимаясь на последнюю ступеньку эшафота. Столько светилось жизни в этом обломке жизни, что дон Хуан в ужасе отступил и прошелся по комнате, не смея взглянуть на глаз, видневшийся ему повсюду: на полу, на потолке, на висевших на стенах коврах. Всю комнату усеяли искры, полные огня, жизни, разума. Повсюду сверкали глаза и преследовали его, как затравленного зверя.
– Он прожил бы еще сто лет! – невольно воскликнул дон Хуан в ту минуту, когда дьявольская сила опять привлекла его к ложу отца, и вгляделся в эту светлую искорку.
Вдруг веко в ответ на его слова закрылось и открылось вновь, как то бывает у женщины, выражающей согласие. Если бы даже услышал «да!», дон Хуан не испугался бы так.
«Как быть?»
Он храбро протянул руку, чтобы закрыть белеющее веко, но усилия его оказались тщетными.
«Раздавить глаз? Не будет ли это отцеубийством?» – задал он себе вопрос.
«Да», – ответил глаз, подмигнув с жуткой насмешливостью.
– Ага! – воскликнул дон Хуан. – Здесь какое-то колдовство!
Он подошел ближе, чтобы раздавить глаз, но крупная слеза потекла по морщинистой щеке трупа и упала на ладонь юноши.
– Какая жаркая слеза! – воскликнул он, садясь. Этот поединок его утомил, как будто он наподобие Иакова боролся с ангелом. Наконец он поднялся, говоря: – Только бы не было крови.
Потом, собрав в себе все мужество, необходимое для подлости, он не глядя раздавил глаз при помощи полотенца. Неожиданно раздался ужасный стон: взвыв, издох пудель.
«Неужели он был сообщником этой тайны?» – подумал дон Хуан, глядя на верную собаку.
Дон Хуан Бельвидеро прослыл почтительным сыном: воздвиг на могиле отца памятник из белого мрамора и поручил выполнение фигур знаменитейшим ваятелям того времени. Полное спокойствие он обрел лишь в тот день, когда статуя отца, склонившая колена перед изображением Религии, огромной тяжестью надавила на могилу, где сын похоронил единственный укор совести, тревоживший его сердце в минуты телесной усталости. Произведя подсчет несметным богатствам, которые скопил старый знаток Востока, дон Хуан стал скупцом: ведь ему нужны были деньги на две жизни человеческие. Его глубоко испытующий взгляд проник в сущность общественной жизни и тем лучше постиг мир, что видел его сквозь замогильный мрак. Он стал исследовать людей и вещи, чтобы раз навсегда разделаться с прошлым, о котором представление дает история; с настоящим, образ которого дает закон; с будущим, тайну которого открывают религии. Душу и материю бросил он в тигель, ничего в нем не обнаружил и с тех пор сделался истинным доном Хуаном!
Став владыкой всех житейских иллюзий, молодой, красивый, он ринулся в жизнь, презирая свет и овладевая светом. Его счастье не могло ограничиться мещанским благополучием, которое довольствуется неизменной вареной говядиной, грелкой – на зиму, лампой – на ночь, и новыми туфлями – каждые три месяца. Нет, он постиг смысл бытия! Так обезьяна хватает кокосовый орех и без промедления ловко освобождает плод от грубой шелухи, чтобы заняться сладкой мякотью. Поэзия и высшие восторги страсти были уже не для него. Он не повторял ошибок тех властителей, которые, вообразив, что маленькие душонки верят в души великие, решают разменивать высокие мысли будущего на мелкую монету нашей повседневной жизни. Конечно, и он мог, подобно им, ступая по земле, поднимать голову до небес, но предпочитал сидеть и осушать поцелуями нежные женские губы, свежие и благоуханные; где ни проходил, повсюду он, подобно Смерти, все бесстыдно пожирал, требуя себе любви-обладания, любви восточной, с долгими и легкими наслаждениями. В женщинах он любил только женщину, и ирония стала его обычной манерой. Когда его возлюбленные превращали ложе любви в средство для взлета на небо, чтобы забыться в пьянящем экстазе, дон Хуан следовал за ними с той серьезностью, простодушием и откровенностью, какую умеет напустить на себя немецкий студент. Но он говорил «я», когда его возлюбленная безумно и страстно твердила «мы»! Он удивительно искусно позволял женщине себя увлечь. Он настолько владел собой, что внушал ей, будто бы дрожит перед нею, как школьник, который, впервые в жизни танцуя с молодой девушкой, спрашивает ее: «Любите ли вы танцы?» Но он умел и зарычать, когда это было нужно, и вытащить из ножен шпагу, и разбить статую командора. Его простота заключала в себе издевательство, а слезы – усмешку; умел он и заплакать в любую минуту, вроде той женщины, которая говорит мужу: «Заведи мне экипаж, иначе я умру от чахотки». Для негоциантов мир – это тюк товаров или пачка кредитных билетов, для большинства молодых людей – женщина, для иных женщин – мужчина, для остряков – салон, кружок, квартал, город; для дона Хуана Вселенная – это он сам! Образец изящества и благородства, образец чарующего ума, он готов был причалить лодку к любому берегу, но когда его везли, он плыл только туда, куда сам хотел. Чем дольше жил, тем больше во всем сомневался. Изучая людей, он видел, что часто храбрость не что иное, как безрассудство, благоразумие – трусость, великодушие – хитрость, справедливость – преступление, доброта – простоватость, честность – предусмотрительность; люди действительно честные, добрые, справедливые, великодушные, рассудительные и храбрые, словно по воле какого-то рока, нисколько не пользовались уважением.
«Какая же все это холодная шутка! – решил он. – Она не может исходить от Бога».
И тогда, отказавшись от лучшего мира, он уже не обнажал головы, если перед ним произносили священное имя, и статуи святых в церквах стал считать только произведениями искусства. Однако, отлично понимая механизм человеческого общества, он никогда не вступал в открытую борьбу с предрассудками, ибо он не мог противостоять силе палача, но изящно и остроумно обходил общественные законы, как это отлично изображено в сцене с господином Диманшем. И в самом деле, он сделался типом в духе мольеровского Дон Жуана, гетевского Фауста, байроновского Манфреда и матьюреновского Мельмота. Великие образы, начертанные величайшими талантами Европы, образы, для которых никогда не будет недостатка в аккордах Моцарта, а может быть – и в лире Россини! Эти грозные образы, увековеченные существующим в человеке злым началом, переходят в копиях из века в век: то этот тип становится посредником между людьми, воплотившись в Мирабо, то действует исподволь по способу Бонапарта, то преследует Вселенную иронией, как божественный Рабле, или, чаще, смеется над людьми, вместо того чтобы издеваться над порядками, как маршал Ришелье, а еще чаще глумится и над людьми, и над порядками, как знаменитейший из наших посланников. Но глубокий гений дона Хуана Бельвидеро предвосхитил все эти гении вместе. Он надо всем смеялся. Жизнь его стала издевательством над людьми, порядками, установлениями и идеями. А что касается вечности, то он однажды непринужденно беседовал полчаса с папой Юлием II, и, улыбаясь, заключил беседу такими словами:
– Если уж безусловно надо выбирать, я предпочел бы верить в Бога, а не в дьявола: могущество, соединенное с добротой, все же обещает больше выгод, чем дух зла.
– Да, но Богу угодно, чтобы в этом мире люди каялись…
– Вечно вы думаете о своих индульгенциях, – ответил Бельвидеро. – Для раскаяния в грехах моей первой жизни у меня имеется про запас еще целая жизнь.
– Ах, если так ты понимаешь старость, – воскликнул папа, – то, чего доброго, будешь причислен к лику святых…
– Все может статься, раз вы достигли папского престола.
И они отправились посмотреть на рабочих, воздвигавших огромную базилику Святого Петра.
– Святой Петр – гениальный человек, вручивший нам двойную власть, – сказал папа дону Хуану. – Он достоин этого памятника. Но иногда ночью мне думается, что какой-нибудь новый потомок смоет это все губкой и придется начинать сначала.
Дон Хуан и папа расхохотались, они поняли друг друга. Человек глупый пошел бы на следующий день развлечься с Юлием II у Рафаэля или на прелестной вилле «Мадама», но Бельвидеро пошел в собор на папскую службу, чтобы еще укрепиться в своих сомнениях. Во время кутежа папа мог бы сам себя опровергнуть и заняться комментариями к Апокалипсису.
Впрочем, мы пересказываем эту легенду не для того, чтобы снабдить будущих историков материалами о жизни дона Хуана: наша цель – доказать честным людям, что Бельвидеро вовсе не погиб в единоборстве с каменной статуей, как это изображают иные литографы. Достигнув шестидесятилетнего возраста, дон Хуан Бельвидеро обосновался в Испании. Здесь на старости лет он взял себе в жены молодую пленительную андалузку, но посчитал, что не стоит быть хорошим отцом, хорошим супругом. Он замечал, что нас нежно любят только женщины, на которых мы мало обращаем внимания. Воспитанная в правилах религии старухой теткой в глуши Андалузии, в замке неподалеку от Сан-Лукара, донья Эльвира была сама преданность, само очарование. Дон Хуан предугадывал в девушке одну из тех женщин, которые, прежде чем уступить страсти, долго борются с нею, поэтому надеялся сберечь ее верность до самой смерти. Эта его шутка была задумана всерьез, как своего рода партия в шахматы; он приберег ее на последние дни жизни. Наученный всеми ошибками своего отца Бартоломео, дон Хуан решил, что в старости все его поведение должно содействовать успешному развитию драмы, которой суждено было разыграться на его смертном ложе, поэтому большую часть богатств своих он схоронил в подвалах феррарского палаццо, редко им посещаемого, а другую половину своего состояния поместил в пожизненную ренту, чтобы жена и дети были заинтересованы в длительности его жизни. К этой хитрости следовало бы прибегнуть и его отцу, но в такой макиавеллистической спекуляции особой надобности не возникло. Юный Филипп Бельвидеро, его сын, вырос в такой же мере религиозным испанцем, в какой отец его был нечестив словно оправдывая пословицу: «У скупого отца сын расточитель». Духовником герцогини Бельвидеро и Филиппа дон Хуан избрал сан-лукарского аббата. Этот церковнослужитель, человек святой жизни, отличался высоким ростом, удивительной пропорциональностью телосложения, прекрасными черными глазами и напоминал Тиверия чертами лица, изможденного от постов и бледного от постоянных истязаний плоти (как всем отшельникам, ему были знакомы повседневные искушения). Может быть, старый вельможа рассчитывал, что успеет еще при-соединить к своим деяниям и убийство монаха, прежде чем истечет срок его первой жизни, но то ли аббат обнаружил силу воли, неменьшую, чем у дона Хуана, то ли донья Эльвира оказалась благоразумнее и добродетельнее, чем полагается быть испанкам, – во всяком случае дону Хуану пришлось проводить последние дни у себя дома, в мире и тишине, как старому деревенскому попу. Иногда он с удовольствием находил у сына и жены погрешности в отношении религии и властно требовал, чтобы они выполняли все обязанности, налагаемые Римом на верных сынов церкви. Словом, он чувствовал себя совершенно счастливым, слушая, как галантный сан-лукарский аббат, донья Эльвира и Филипп обсуждают какой-нибудь вопрос совести. Но сколь чрезмерно ни заботился о своей особе сеньор дон Хуан Бельвидеро, настали дни дряхлости, а вместе со старческими болезнями пришла пора беспомощным стонам, тем более жалким, чем ярче были воспоминания о кипучей юности и отданных сладострастью зрелых годах. Человек, который издевательски внушал другим веру в законы и принципы, им самим предаваемые осмеянию, засыпал вечером, произнося: «Быть может!» Образец хорошего светского тона, герцог, не знавший устали в оргиях, великолепный в волокитстве, встречавший неизменное расположение женщин, чьи сердца он так же легко подчинял своей прихоти, как мужик сгибает ивовый прут, – этот гений не мог избежать неизлечимых мокрот, докучливого воспаления седалищного нерва, жестокой подагры. Он наблюдал, как зубы у него исчезают один за другим, – так по окончании вечеринки одна за другой уходят белоснежные и расфранченные дамы, и зал остается пустым и неприбранным. Наконец, стали трястись его дерзкие руки, стали подгибаться стройные ноги, и однажды вечером апоплексический удар сдавил ему шею своими ледяными крючковатыми пальцами. Начиная с этого рокового дня он сделался угрюм и жесток, усомнился в преданности сына и жены, порой утверждая, что их трогательные, деликатные, столь щедрые и нежные заботы объясняются только пожизненной рентой, в которую вложил он свое состояние. Тогда Эльвира и Филипп проливали слезы и удваивали уход за хитрым стариком, который, придавая нежность своему надтреснутому голосу, говорил им:
- Фиаско
- Гэм
- Тетушка Хулия и писака
- Мерзейшая мощь
- Переландра
- Фиеста
- Эндимион
- Престиж
- Маленькая хозяйка Большого дома
- Хождение Джоэниса
- Зима тревоги нашей
- Фамильная честь Вустеров
- Луна и грош
- Квартал Тортилья-Флэт
- Война миров
- Смерть в кредит
- Человек в лабиринте
- Если однажды зимней ночью путник…
- Дочь времени
- Райские пастбища
- Когда я умирала
- Доводы рассудка
- Золотая Чаша
- Осквернитель праха
- Осколки чести
- Железная пята
- Сирены Титана
- Завтрак для чемпионов
- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. I
- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. II
- Нищий, вор
- Невидимые города
- Заводной апельсин
- Зримая тьма
- Футурологический конгресс
- Сумма технологии
- Былое Иакова
- Избранник
- Признания авантюриста Феликса Круля
- Солярис
- Посмертные записки Пиквикского клуба
- Приключения Оливера Твиста
- Тайна Эдвина Друда
- Бойня №5
- Галапагосы
- Колыбель для кошки
- Малый не промах
- Эдем
- Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал…
- Демиан
- Мост
- Жизнь двенадцати цезарей
- Миссис Дэллоуэй
- Дом с привидениями
- Игра в бисер
- Наследники
- Опрокинутый мир
- Степной волк
- Петер Каменцинд
- История
- Дживс, вы – гений!
- Контрапункт
- Гений и богиня
- Бесы Лудена
- Обезьяна и сущность
- Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
- Калевала
- Ваш покорный слуга кот
- Тысячекрылый журавль
- Тысяча благодарностей, Дживс!
- Машина пространства
- Кольцо царя Соломона
- Возвращение со звезд
- На маяк
- Сердце – одинокий охотник
- Песнь о Нибелунгах
- Голод
- Голем
- Трое на четырех колесах
- Глас Господа
- «Подлинные имена» и выход за пределы киберпространства
- Больше чем люди
- Люси Краун
- И после многих весен
- Бильярд в половине десятого
- Вершина холма
- Где ты был, Адам?
- Дом без хозяина
- Современная комедия
- Воронья дорога
- Тереза Дескейру
- Всем стоять на Занзибаре
- Умм, или Исида среди Неспасенных
- Тошнота
- Стена
- Мухи. Затворники Альтоны
- Почтительная потаскушка
- Ставок больше нет
- Орландо
- Ваша взяла, Дживс!
- Этот неподражаемый Дживс
- Шаги по стеклу
- Город
- Карманный оракул
- Девяносто третий год
- Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики
- Маг
- Допустимые потери
- Звездные дневники Ийона Тихого (сборник)
- Радость поутру
- Непобедимый
- Жизнь
- Рассказы о пилоте Пирксе (сборник)
- Расследование
- ГОЛЕМ XIV
- Под сетью
- Мандолина капитана Корелли
- Последнее лето Клингзора
- Исповедь
- Апология истории
- На мраморных утесах
- Посоветуйтесь с Дживсом!
- Так держать, Дживс! (сборник)
- Тетки – не джентльмены
- Держим удар, Дживс!
- Что-нибудь эдакое
- О природе вещей
- Мысли
- Прекрасные и обреченные
- Так говорил Заратустра
- Незнакомка из Уайлдфелл-Холла
- Пол и характер
- Письма к друзьям
- Праздник, который всегда с тобой
- Остров доктора Моро. Первые люди на Луне (сборник)
- Восстание масс
- Воспоминания Адриана
- Доктор Фаустус
- Возраст зрелости
- Сны Эйнштейна
- Носорог
- Мистер Эндерби. Взгляд изнутри
- Галлюцинации
- Записки о Галльской войне
- Нравственные письма к Луцилию
- Из замка в замок
- Происхождение семьи, частной собственности и государства
- 1985
- Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ
- Жестокий век
- О дивный новый мир
- Остров
- Двери восприятия. Рай и ад
- Политика
- Скотный Двор. Эссе (сборник)
- Диалоги. Апология Сократа
- Семя желания
- Белый Клык. Зов предков (сборник)
- Ярмарка тщеславия
- Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов (сборник)
- Квартал Тортилья-Флэт. Консервный ряд (сборник)
- Зима тревоги нашей
- Государство
- Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (сборник)
- Воришка Мартин
- Зов Ктулху (сборник)
- Афоризмы житейской мудрости
- Бегство от свободы
- Солнечные берега реки Леты (сборник)
- Гобсек. Отец Горио (сборник)
- Мифы Ктулху (сборник)
- Психология масс и анализ человеческого «я» (сборник)
- История западной философии. Том 1
- История западной философии. Том 2
- Сиддхартха. Путешествие к земле Востока (сборник)
- Время должно остановиться
- Ромео и Джульетта. Отелло (сборник)
- Эмма
- Привет, Америка!
- Охотники за микробами
- Наедине с собой. Размышления
- Мартовские иды. Мост короля Людовика Святого (сборник)
- Время-не-ждет
- Логико-философский трактат
- Возвращение в дивный новый мир
- Север и Юг
- Я захватываю замок
- Долгая долина
- M/F
- Времетрясение
- Конец детства
- Мудрая кровь
- Корпорация «Бог и голем» (сборник)
- Сонная Лощина
- Почтальон всегда звонит дважды (сборник)
- Шерли
- Любовь к жизни (сборник)
- Похвала глупости
- Цезарь и Клеопатра (сборник)
- Ночной полет (сборник)
- Приключения Шерлока Холмса. Возвращение Шерлока Холмса
- Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе
- Слова
- Гертруда
- Король Лир. Антоний и Клеопатра (сборник)
- Метафизика
- Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Записки о Шерлоке Холмсе
- Антихрист. Ecce Homo. Сумерки идолов
- Отсрочка
- Смерть в душе
- Ужасные дети. Адская машина
- Тихий американец
- Логика
- Сингулярность
- Женщина-левша
- Крэнфорд
- Одинокий мужчина
- Двойная спираль
- Руководство для желающих жениться
- Групповой портрет с дамой
- О науке и искусстве
- Письмо незнакомки
- Счастливчики
- Дары волхвов
- Своя комната
- Собака Баскервилей. Долина Страха
- Дао дэ Цзин
- Письма к молодому поэту
- Выбор Софи
- Нарцисс и Златоуст
- Я и Оно
- Двадцать четыре часа из жизни женщины
- Архетипы и коллективное бессознательное
- Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер
- Синяя борода
- Матерь Тьма
- Неведомый шедевр
- Мир как воля и представление
- Десять величайших романов человечества
- Цветы зла
- О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов
- Последний день приговоренного к смерти
- Время – деньги. Автобиография
- Принципы коммунизма. Манифест Коммунистической партии
- Советы молодому ученому
- Чрево Парижа
- Степфордские жены
- Феномен самости
- Этика
- Страстная мечта, или Сочиненные чувства
- Сага о Форсайтах
- Кошка на раскаленной крыше. Стеклянный зверинец
- Прощай, Берлин
- Охота
- Критика способности суждения
- Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера
- Моя жизнь, или История моих экспериментов с истиной
- Некрономикон. Книга запретных тайн
- Росхальде
- Законы
- Алая чума. До Адама
- Психопатология обыденной жизни
- Кентервильское привидение
- Античная комедия
- Нищета философии
- Серебряные коньки
- Последний магнат
- Учение о цвете
- Хижина дяди Тома
- Дневник незнакомца
- Полковнику никто не пишет
- Охота на Снарка. Пища для ума
- Ночлег Франсуа Вийона
- О боли, горе и смерти
- Энеида
- Ворота Расёмон
- Искусство побеждать в спорах. Мысли
- Насморк
- Сильна как смерть
- Первый человек
- Сердце тьмы
- Избранные речи
- Его прощальный поклон. Архив Шерлока Холмса
- Хендерсон – король дождя
- Нераскрытая самость
- Германт
- О психологии бессознательного
- Курортник
- Миссис Крэддок
- Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта
- Алая буква
- Замок Отранто
- Счастливая смерть
- Супружество как точная наука
- Музыкальная поэтика. В шести лекциях
- Доказательство бытия Бога
- Феноменология духа
- Тайна поместья Горсторп
- О душе
- Грозовой перевал
- Книга пяти колец
- Голоса летнего дня
- Правила социологического метода
- Фокус-покус
- Тибетская книга мертвых
- Признания Ната Тернера
- Лютый Зверь. Игра. Джон – Ячменное Зерно
- Аргонавтика
- В стране водяных
- Падение
- Трактат о человеческой природе
- Фома. Франциск. Ортодоксия
- Где бы ты ни был
- О государстве
- Маленькие женщины
- Отель с привидениями
- Царство Небесное силою берется
- Воспитание чувств
- Жизнеописания
- Диалоги об Атлантиде
- Лунный камень
- История свечи
- Роза и семь братьев
- Изгнание и царство
- Корабль привидений и другие истории
- Арсен Люпен
- Очерки по теории сексуальности
- 1984
- Беседы
- Дело совести
- Вешние воды
- Дочь Монтесумы
- Две твердыни
- Мастер Страшного суда
- Табакерка из Багомбо
- Пьяный корабль
- Слепец в Газе
- Луна и шесть пенсов
- О скоротечности жизни
- Изнанка и лицо. Брачный пир. Лето
- Тайна Желтой комнаты. Духи Дамы в черном
- Наоборот
- Маракотова бездна
- Сэндитон
- Дорога в никуда
- Проблемы души нашего времени
- Жизнь пчел. Разум цветов
- Спящий просыпается
- Сокровище семи звезд
- Генеалогия морали. Казус Вагнер
- Перелетные свиньи. Рад служить
- Сказания Древней Японии
- Настигнут радостью. Исследуя горе
- Ошибка мертвого жокея
- Под маской
- Смятение чувств
- Мертвая комната
- Подарок от Гумбольдта
- Случайность и необходимость
- Волны. Флаш
- Апология математика
- О психоанализе
- Психопатология обыденной жизни. О сновидении
- Ангел западного окна
- Сатирикон
- Страшные Соломоновы острова
- Теория нравственных чувств
- Революция надежды
- История
- Десять дней, которые потрясли мир
- Маленькая принцесса
- Фиолетовый сон
- Анабасис
- Личность и государство
- Рубаи
- Чарующий апрель
- Осень патриарха
- Опыт закона о народонаселении
- Начала политической экономии и налогового обложения
- Комната с привидениями
- Записки врача общей практики
- Приключения Оги Марча
- Наука жить
- Колокол
- Реальное и сверхреальное
- Ворон
- Экономическо-философские рукописи 1844 г.
- Маленькие женщины
- О свободе воли. Об основе морали
- Формирование общественного мнения
- Самый богатый человек в Вавилоне
- Старшая Эдда
- Тотем и табу. Будущее одной иллюзии
- Мера всех вещей
- Дублинцы
- Флатландия
- Тайна семьи Фронтенак
- Философия права
- Фиалка Пратера
- Повесть о прекрасной Отикубо. Повесть о старике Такэтори
- Кармилла
- Категории. Об истолковании
- Человек из очереди
- Пагубная самонадеянность
- Непобежденные
- Мадонна в черном
- Эвмесвиль
- Проблемы метода
- Провокация
- Хорошие жены
- Творческая эволюция
- Неведомому Богу
- Легенды о Христе
- Стратегемы
- Термитник Хеллстрома
- Буря. Двенадцатая ночь. Зимняя сказка
- Зверобой
- Возвращение Арсена Люпена
- Основы метафизики нравственности
- Под сенью сакуры
- Юность Розы
- Психология западной религии
- Человек в черном
- Страдания юного Вертера
- Письма к Милене
- Триумф и трагедия Эразма Роттердамского0
- Рождение трагедии из духа музыки
- Неестественная смерть
- Скафандр и бабочка
- Черный тюльпан
- Растревоженный эфир
- Стадный инстинкт в мирное время и на войне
- О граде Божием
- Тайная история Изабеллы Баварской
- Мистер Скеффингтон
- Жизнь и ее модели
- Удачи капитана Блада
- Ворота Расёмон
- О добывании огня
- Книга чая
- Вербное воскресенье
- Кентервильское привидение
- Бегство от волшебника
- Общественное мнение
- Кнульп
- Выбор
- Я жизнью жил пьянящей и прекрасной…
- Кармен
- Чёрный монах
- Инстинкт и бессознательное
- Беседа с богом странствий
- Тридцать лет, которые потрясли физику
- Первая любовь
- Спартак
- Шиллинг на свечи
- Письма молодого врача. Загородные приключения
- Матерь
- Пропаганда
- Короткое письмо к долгому прощанию
- На каждом шагу констебли
- Лунная пыль
- Ночные крылья
- Люди как боги
- Мизантроп. Скупой. Школа жен
- Жюстина, или Несчастья добродетели
- Отдаленное зеркало: пагубный XIV век
- Пески Марса
- Беовульф
- Любовь и дружба
- Культура и ценность. О достоверности
- История с узелками
- Вырождение
- Венеция – это рыба. Новый путеводитель
- Житейские воззрения кота Мурра
- Максимы
- Смерть по объявлению
- Человек недостойный
- Проблема Аладдина
- Звездные часы человечества
- Змеиный перевал
- Оплот
- Скептические эссе
- Луна над горой
- Каллокаин
- Закат Европы. Образ и действительность. Том 1
- Мысли. С комментариями и иллюстрациями
- Как стать леди