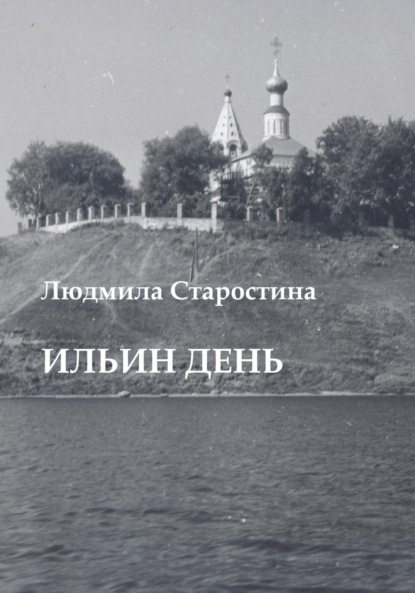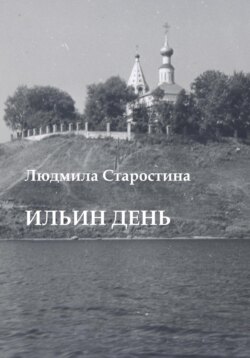
000
ОтложитьЧитал
Глава 33. ДА, ВОЙНА. НО НАДО ЖИТЬ…
С началом войны жизнь в семействе Смолиных изменилась, как и у всех москвичей.
Поступили приказы сломать во дворах все сараи и вырыть глубокие траншеи, чтобы жители близлежащих домов могли прятаться в них во время бомбежек. Все окна в домах с вечера следовало наглухо завешивать одеялами – соблюдать светомаскировку. Трамваи и редкие автомашины в темное время суток ездили по улицам, не включая фар.
Екатерина Алексеевна и Иван Васильевич Смолины с первых дней войны старались не терять самообладания, понимали, что от их настроя в семье зависит очень многое. Сын Костя – курсант военного училища в Ленинграде. Было понятно, что смертельный огонь войны может опалить его в любой день, в любую минуту. Как, впрочем, и тысячи других мужчин, ежедневно уходящих и уезжавших на фронт из Москвы, из всех других городов, сел и деревень.
Взяли в армию зятя Тиму Чернышова, мужа дочери Тони, она осталась одна с двухгодовалым сыночком Виталиком. Мобилизовали и другого зятя, Ваню Грачева. Его жена Ираида осталась с тремя дочками: пятнадцатилетней Клавой, четырнадцатилетней Шурой и маленькой Люсей, которой едва исполнилось четыре года. У Ивана Грачева было очень плохое зрение. Армейскому начальству быстро стало ясно, что от такого солдата на фронте будет мало толку, поэтому его демобилизовали через несколько месяцев после начала войны, и он вернулся к семье.
Продукты питания стали выдавать по специальным продуктовым карточкам. Карточки были нескольких категорий. Так называемые «рабочие» карточки выдавались тем, кто трудился на заводах, на промышленных предприятиях или выполнял другую работу, которая требовала больших физических усилий и была необходима в условиях военного времени. Были также карточки служащих, карточки учащихся, детские карточки и так называемые карточки иждивенцев – людей, которые по болезни или по старости не могли работать и находились на иждивении других членов семьи. По «рабочим» карточкам продуктов полагалось немного больше, чем по карточкам других категорий. Разумеется, «больше» не означало, что обладатели «рабочих» карточек жили безбедно и носили домой продукты большими сумками, нет. Например, ежедневная норма выдачи хлеба в день рабочему человеку составляла 400 граммов, служащему или студенту – меньше. Так же по карточкам или «ордерам» москвичи получали дрова для отопления своих квартир и комнат. Но «отоваривать» карточки тоже удавалось далеко не всегда, поэтому и продуктов, и дров – всего не хватало.
И Иван Васильевич, и Екатерина Алексеевна работали, оба имели рабочие продуктовые карточки. Тоня, оставшаяся с малышом на руках, быстро нашла себе надомную работу – стала шить ватные стеганые телогрейки и штаны для солдат. Как нельзя лучше пригодилась полученная в приданое швейная машинка «Зингер», которая теперь не только давала средства к существованию молодой женщине и ее ребенку, но и работала на нужды фронта.
Перед окончанием школы, до начала войны, Анечка, как и ее подружки, строила планы поступления в институт. Но теперь она решила, что ей тоже, как и старшим в семье, нужно идти работать. Родители уговаривали ее не отказываться от планов продолжать учебу, они не чувствовали себя старыми, беспомощными людьми и полагали, что смогут прокормить дочку-студентку. По их мнению, пока еще была возможность продолжать образование, нужно было обязательно этим воспользоваться, потому что как обстоятельства сложатся в будущем, было совершенно неизвестно.
Анечка была в растерянности: война придвигалась все ближе к Москве, немцы бомбили город каждую ночь, шли разговоры об эвакуации. Как долго возможно будет учиться? Стоит ли начинать? Может быть, правда, лучше куда-нибудь на завод? Чтобы рассеять сомнения вчерашней школьницы и убедить ее в том, что родители правы, Екатерина Алексеевна привела дочку к себе на работу и попросила своего начальника, разумного и уважаемого человека, поговорить с девочкой. Анечка не запомнила имени этого человека, но поняла и хорошо запомнила его слова. Он сказал: «Если есть у тебя возможность учиться месяц – учись месяц, есть возможность учиться неделю – учись неделю, есть возможность учиться один день – учись один день. Учение никогда не пройдет даром, все тебе в жизни пригодится».
Школьные подружки тоже ходили неприкаянные. Многих мальчиков забрали в армию, но некоторые еще оставались в Москве. У каждого в семье были свои проблемы, но ребята не теряли связи друг с другом, захаживали в гости, разговаривали с родителями, рассказывали новости. Война как будто сблизила их всех, даже те, кто мало общался между собой в школьные годы, теперь почувствовали себя почти родными.
К сентябрю 1941 года стало известно, что московские институты начали прием студентов на первый курс. Анечка Смолина вместе с несколькими одноклассницами решила пойти учиться в Московский автомеханический институт (МАМИ). Комплекс зданий, в котором располагался этот вуз, находился сравнительно недалеко от Богородского – на Большой Семеновской улице. В мирное время по Большой Богородской улице на Семеновскую ходили трамваи. В военное время осенними и зимними темными вечерами девушки-студентки в крайнем случае могли добраться до дома и пешком. Спустя несколько месяцев после начала учебы, в октябре и ноябре 1941 года, многие московские вузы стали эвакуировать из Москвы, кто-то из студентов также уезжал в эвакуацию, многие были вынуждены бросать учебу. МАМИ не эвакуировали, институт продолжал работать в Москве в течение всех военных лет, студенты продолжали учиться, не взирая на все трудности и бытовые проблемы, связанные с военным временем.
Глава 34. ГЛАЗА СТРАШАТ, А РУКИ ДЕЛАЮТ (Русская пословица)
Екатерина Алексеевна с первых дней войны поняла, что ей необходимо сконцентрировать весь свой практический опыт для того, чтобы ее семья смогла пережить это страшное время. В первую очередь, разумеется, нужно было думать о том, чем ей кормить зимой мужа, дочерей и внука. Продуктов, которые выдавали по карточкам, возможно, хватило бы, чтобы не умереть с голоду. Но необходимо было предпринять все меры, чтобы запасти на зиму еще какие-то продукты, которыми можно было бы дополнять скудный рацион военного времени.
Во дворах домов, на месте снесенных заборов, наиболее предусмотрительные жильцы тут же начали раскапывать землю под огороды. Но жильцов было много, а земли – мало, и было понятно, что ведро картошки, которое, возможно, и удастся получить с такого «огорода», от голодной и холодной зимы никого не спасет.
Район Богородское – московская окраина. Вокруг Богородского было немало полей, принадлежавших каким-то пригородным хозяйствам, на которых выращивали овощи. Но о том, чтобы пойти на неубранное еще поле и потихоньку накопать там, например, той же картошки, не могло быть и речи. Не потому что боялись, что поймают, а просто было в принципе исключено – совесть и доброе имя променять на мешок картошки невозможно.
Поздней осенью, когда с колхозных полей было убрано все, что считалось возможным убрать, Екатерина Алексеевна пошла по полям, расположенным далеко за Богородским рынком, за Казенным прудом и дальше, вдоль Богородского леса (это восточная окраина Лосиного острова). Оказалось, что, например, капусту уже убрали и увезли. Но колхозники, которые убирали капусту с поля, срезали кочаны не под самый корешок, а оставляли на стебле три-четыре самых нижних листа. Такие листы бывают самыми грубыми и жесткими, их, как правило, не употребляют в пищу, поэтому и не срезают вместе с кочаном.
Мать семейства Смолиных, многоопытная хозяйка, которую жизнь научила выживать в самых суровых условиях, решила, что эти якобы никому не нужные капустные листья, если их правильно приготовить, холодной военной зимой вполне можно использовать в пищу. Она позвала дочерей, Тоню, Ираиду и Анечку, и они вчетвером несколько раз в течение осени ходили на поле, собирали капустные листья, твердые и мокрые от дождя и снега, и в мешках приносили домой. Дома мать, разумеется, листья мыла, мелко-мелко резала и квасила их как обычно квасят капусту в бочках. Таким образом, все семейство на зиму имело запас квашеной капусты.
Там же, по краю Лосиного острова, осенью происходила заготовка леса на дрова для москвичей. Деревья пилили в больших количествах, дров для Москвы нужно было очень много. После того как готовые дрова увозили, на обнаженных участках леса оставались только пни высотой чуть выше земли, поскольку лесорубы старались пилить стволы как можно ближе к земле. Но если посмотреть хозяйским взглядом, то маленькие пни – ведь это тоже дрова.
Семейству Смолиных и Тоне с маленьким Виталиком дров нужно было немало. У Ивана Васильевича с Екатериной Алексеевной и Анечкой-студенткой – две комнаты, значит, две печки. Предположим, в целях экономии печь в «большой» комнате можно было топить не каждый день. Но для приготовления пищи и опять-таки в целях экономии использовали так называемые печки-«буржуйки», которые топились дровами, и чтобы вскипятить, например, чайник, тоже требовалось известное количество дров. И Тоне, хочешь – не хочешь, нужно было вести свое хозяйство. У нее маленький ребенок, ему нужно готовить еду, кроме того, необходимо дважды в день, утром и вечером, топить комнату, нельзя было допустить, чтобы ребенок ночью замерзал. Разумеется, городские власти старались по мере возможности обеспечить москвичей дровами. Каждая семья получала талоны на получение топлива для своих печей и печурок, но, во-первых, нормы выдачи дров были очень небольшими, а во-вторых, дрова можно было получить далеко не всегда, даже по талонам.
Как известно, в 1941 году холода в Москве начались очень рано. Екатерина Алексеевна поняла, что, как всегда, надеяться можно только на свои руки. Она позвала дочерей, они взяли топоры, пилы и веревки, и пошли в Богородский лес, за Казенный пруд. Там женщины пилили верхушки пней, но таких верхушек было очень мало. В то время не одно семейство Смолиных было озабочено поиском дров, многие жители Богородского бродили по лесным вырубкам и выбирали из остатков леса все, что можно было бы зимой сжечь в печках – веточки, щепки, даже шишки. Екатерина Алексеевна решила, что можно попробовать корчевать пни, оставшиеся в земле, и пилить их на дрова. Так они и делали. Тоня и Анечка вмести с матерью, используя топоры и веревки, напрягая все свои силенки, выкорчевывали тяжеленные пни из земли, здесь же пилили их на поленья, которые могли бы поместиться в мешки, и, взвалив мешки на плечи, шли домой по Большой Богородской улице. Тяжелые, неудобные дрова больно натирали спины и плечи женщин, но они знали, что все равно скоро доберутся домой, а там уже можно будет отдохнуть. Зато завтра и послезавтра, и через неделю в доме будет некоторый запас дров, и можно будет истопить печь, чтобы в комнате было тепло.
У Ивана Васильевича уже в те годы было больное сердце, жена и дочери очень любили и берегли его, поэтому не позволяли ему заниматься тяжелым трудом. Он, в свою очередь, очень жалел своих женщин и старался помогать им всем, чем только мог. Он работал, был главой семьи, принимал все стратегические решения, с ним советовались не только дочери, зятья и племянники, но и множество других родственников. Но, тем не менее, если было нужно, он с удовольствием занимался с маленьким внуком Виталиком. Чаще всего они проводили время следующим образом: мальчик знал, что у дедушки под кроватью находится ящик с гвоздями, молотками и другими инструментами, необходимыми в хозяйстве. Как только они оставались вдвоем с дедом, внук вытаскивал этот ящик на середину комнаты и начинал перебирать его содержимое. А дед сидел рядом на стуле, потихоньку беседовал с мальчиком и следил за тем, чтобы ребенок не поранился или не потащил в рот какой-нибудь ржавый гвоздь.
Глава 35. СЛАДКИЙ ЧАЙ С ЛЕПЕШКАМИ
К началу октября 1941 года немецкие войска подошли совсем близко к Москве. Город бомбили каждую ночь, нередко бомбежки происходили и днем. Анечка вместе с другими жителями дома во время ночных бомбежек бегала на чердак гасить зажигательные бомбы. Екатерина Алексеевна и Иван Васильевич в первые месяцы войны, как и все, ходили прятаться от бомбежек в «щели» – в траншеи, вырытые в каждом московском дворе. Потом, после того, как средь бела дня бомба попала прямо в «щель» в соседнем дворе, где в это время прятались женщины, жившие по соседству, и все, кто находился в траншее, погибли, Смолины перестали бегать во время бомбежек во двор. Относились к этому вопросу философски.
Многие московские семьи уехали в эвакуацию. Те, что пока оставались в Москве, сидели на чемоданах. Все хотели знать ответ на один вопрос: сдадут Москву немцу или все-таки не сдадут? Ответа на этот вопрос не знал никто, поэтому всех терзали сомнения и страхи. Старшие Смолины боялись одного: если немцы войдут в Москву, что будет с их дочкой-девушкой? Слухи о зверствах немцев ходили самые ужасные. Тоню с ребенком отправили в деревню.
К середине октября у москвичей почти не осталось надежды на то, что Москву сумеют отстоять. Смолины решили, что им тоже пора уходить из города. Екатерина Алексеевна сшила всем троим – себе, мужу и Анечке – холщевые заплечные мешки и стала укладывать в них какие-то вещи. Куда идти, надолго ли, на чью помощь рассчитывать за пределами родного дома – было совершенно не известно. 15 октября вечером, перед тем как наутро было решено идти, Иван Васильевич принял окончательное решение: «Мы никуда из своего дома не пойдем. Идти нам некуда, никто нас нигде не ждет, а здесь мы в любом случае у себя дома. Тем более, что никто еще не сказал, что Москву собираются сдавать врагу. Раз идут такие страшные бои, значит, бьются наши воины, не теряют надежды военачальники, даст Бог – отстоят столицу!». Женщины вздохнули с облегчением, и напряжение последних дней немного спало.
По воспоминаниям моей мамы и многих других москвичей, переживших эти дни в городе, 16 октября 1941 года был самый страшный день. Москву бомбили и с земли, и с воздуха. Казалось, что вражеские войска подобрались совсем близко к городу. Люди с тюками и чемоданами, держа за руки детей, старались втиснуться в переполненные трамваи. Пожилые женщины плакали. Смолиным, и Екатерине Алексеевне, и Анечке, конечно, было так же страшно, как и другим. Но для них главное решение уже было принято: они никуда не едут, и от этого становилось спокойнее на душе.
17 октября на фронте, видимо, произошел какой-то перелом, заметно изменились интонации информационных сообщений по радио. Стало ясно, что нашим войскам удалось отодвинуть передовые немецкие части от границ Москвы. Панические настроения улеглись, и общая атмосфера в городе начала понемногу меняться в лучшую сторону. Рядом грохотала война, бомбежки не прекращались, продуктов с каждым днем становилось все меньше. В каждой семье с замиранием сердца ждали весточки от своего фронтовика. Но быт горожан уже твердо встал на военные рельсы, и жизнь в городе продолжалась.
Тоня с ребенком вернулась из деревни в Москву, в свою пятиугольную комнату, и стала работать – шила на дому ватные штаны и телогрейки для солдат. Надомная работа была ей удобна, почти весь день ребенок был у нее на глазах. Тоне приходилось оставлять сына на руках матери или сестры Анечки (кто из них мог в это время побыть с малышом) только в тех случаях, когда нужно было отвозить готовые комплекты телогреек и штанов на фабрику, где она получала работу. Молодая женщина (в 1941 году Тоне исполнилось 28 лет) плотно связывала в один большой узел 10 или 12 комплектов телогреек и штанов, взваливала этот узел себе на спину и шла с ним по улице до фабрики, до пункта приема, куда надомницы партиями сдавали пошитое ими солдатское обмундирование.
Анечка продолжала учебу в институте. Стайка ее школьных подружек пополнилась подружками институтскими. Развлечений в ту пору в городе было мало, но молодость есть молодость – девушкам хотелось побольше общаться друг с другом, смеяться, заводить новые знакомства. Почти все мальчики-одноклассники уже были в армии. В Москве оставался Лева Гецин, он не подлежал призыву в армию по состоянию здоровья. Чаще всего он один и «разбавлял» девичью компанию. Завелся обычай по вечерам группками по два-три человека ходить друг к другу в гости.
Во многих домах угощать гостей, как правило, было нечем. Продуктовые карточки можно было отоварить далеко не всегда. Многие семьи в городе жили впроголодь, особенно те, в которых были так называемые «иждивенцы» или двое – трое маленьких детей. На их карточки продуктов полагалось совсем немного. Были и такие семьи, в которых люди голодали оттого, что просто не умели рационально распорядиться имеющимися ресурсами.
Екатерина Алексеевна прилагала все усилия к тому, чтобы ее семья не голодала, чтобы в доме всегда было что поесть. Крупа, картошка, овощи, яичный порошок – все продукты использовались до последней крошки. Одним из самых популярных «блюд» были лепешки. Мать семейства приспособилась печь лепешки из всего, что только могло быть под рукой, даже, например, из картофельных очисток. Она их очень тщательно мыла, пропускала через мясорубку, добавляла немного муки или толченых сухарей, немного соли, каплю растительного масла – и, пожалуйста, жарь и ешь! Лепешки пекли не на сковороде, а на плоской металлической крышке печки-«буржуйки». Это было целесообразно с точки зрения экономии масла. Крышка печки быстро накалялась, надо было только не зевать, чтобы лепешки не сгорели. После окончания готовки плоскую крышку печки тщательно протирали влажной тряпочкой, и она была опять в полном порядке.
В семье Смолиных не было иждивенцев, не было маленьких детей. На рабочие карточки Ивана Васильевича и Екатерины Алексеевны иногда давали сахар. Когда к Анечке «на огонек» вечерами заходили подружки и их единственный «кавалер» Лева Гецин, гостей потчевали лепешками и горячим чаем с маленькими кусочками сахара. Для многих ребят и это было в то время роскошным угощением. Особенный восторг у гостей вызывали лепешки из тертой свеклы, поскольку они были еще и немного сладкими. Свекольные лепешки и чай с сахаром – это был уже настоящий пир!
Тоня получала продукты по своей рабочей карточке и «детской» карточке сына. От матери она переняла все навыки рационального ведения хозяйства. Но молодая женщина понимала, что кроме каши на воде, лепешек и крупяных супов ребенку необходимы еще и витамины. Кто-то подсказал ей, что очень много полезных веществ содержится в крапиве. И с началом весны, когда во дворах и палисадниках Богородского начала расти молодая крапива, Тоня взяла за правило варить сыну супы, щедро добавляя в них листья крапивы. Ребенок ел мамины супы с удовольствием, рос здоровым, активным и веселым.
Глава 36. ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ…
Однако главные события тех лет происходили не в Москве, а на фронтах страшной, жестокой и кровопролитной войны.
Из семьи Мордаевых на фронт ушли четверо мужчин: глава семейства Илья Алексеевич и три его сына – Василий (1919 г. рождения), Петр (1922 г. рождения) и Константин (1923 г. рождения).
Из семьи Ломаковых в армию взяли двух сыновей: Михаила (1920 г. рождения) и Николая (1923 г. рождения).
Прямо из военно-морского училища на фронт ушел Константин Смолин, сын Ивана Васильевича и Екатерины Алексеевны.
Таким образом, на фронтах Великой Отечественной войны честно и беззаветно воевали СЕМЕРО бойцов, представляющих ветвистое «древо» старинного семейства Мордаевых из села Едимоново.
В Едимонове, в доме Мордаевых, остались две женщины и мальчик-подросток: Анна Ивановна, жена Ильи Алексеевича, проводившая на фронт мужа и троих сыновей, бабушка Евдокия Павловна и младший сын Ильи Алексеевича и Анны Ивановны, двенадцатилетний Витя.
Летом 1941 года стали солдатами миллионы юношей из всех городов и сел Советского Союза. Как многих выпускников московских школ, взяли в армию и одноклассников Анечки Смолиной.
Два верных друга Саша Натчук и Саша Артамонов при оформлении документов в военкомате старались держаться вместе и, как они и хотели, их направили в одну воинскую часть. Формирование части происходило в поселке Раменское Московской области. В Раменском ребята прошли краткий курс военной подготовки. После того, как формирование части было завершено, их направили под Калугу, в район, где осенью 1941 года шли ожесточенные бои. Их воинская часть получила боевое крещение вблизи городка Медынь, далее путь шел на город Юхнов. Там, в окрестностях Калуги, были сосредоточены крупные силы войск противника. Немецкое командование рассчитывало именно в этих местах прорвать оборону Москвы и выйти непосредственно к столице. Командующим на этом участке фронта был Георгий Константинович Жуков.
Саша Натчук, мой будущий папа, не любил рассказывать о войне. Но эти первые страшные бои, в которых ему пришлось участвовать, видимо, произвели на него настолько сильное впечатление, что об этих боях под Медынью и Юхновом он вспоминал нередко. В частности, отец рассказывал, что Георгий Константинович Жуков в один из этих страшных дней заезжал в расположение их части. Он быстро промчался по позициям, дал «разгон» кому-то из начальства, оставил распоряжения, сел в машину и полетел куда-то дальше вдоль линии фронта. Молодые солдатики, среди которых был и Саша Натчук, первый раз в жизни видели вблизи боевого генерала, да еще самого командующего фронтом Жукова! Их, видимо, восхитил его образ – быстрота, решительность, уверенность в правильности своих решений и, в конечном счете, в победе над врагом! Так или иначе, с тех пор отец сохранил самое глубокое уважение к легендарному маршалу, следил за его послевоенной судьбой, с огромным интересом читал его мемуары.
В ноябре 1941 года фронтовые позиции засыпал густой снег. Наступила настоящая холодная зима. Бойцам выдали зимнюю форму, но в полевых условиях временами все равно было холодно. Солдаты научились использовать любую, малейшую возможность сохранить тепло. Например, у зимних шапок обязательно опускали «уши» и завязывали их тесемками под подбородком. Однажды два молодых бойца, Саша Натчук и Саша Артамонов, бежали с каким-то поручением по опушке леса, по глубокому белому снегу, и ничто не предвещало беды. Вдруг с другого конца поля по ним ударила пулеметная очередь. Ребята упали в снег. Вражескому пулеметчику тут же ответили пулеметной очередью со стороны наших позиций. Стрельба прекратилась. Саша Натчук окликнул друга, тот не отозвался. Саша пополз к нему, понял, что друг ранен, увидел, что из-под его шапки течет кровь. Саша быстро развязал шапку, шапка сползла, и оказалось, что мозг Саши Артамонова – весь в шапке. Так папа потерял лучшего друга своей юности.