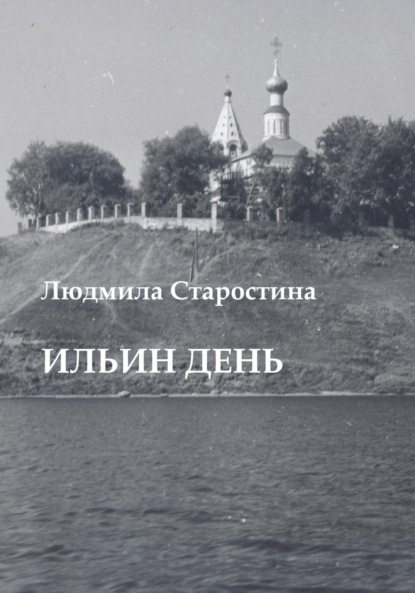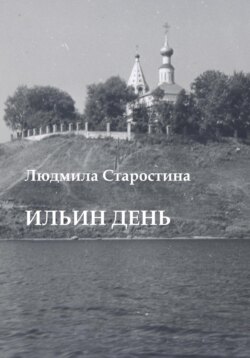
000
ОтложитьЧитал
Глава 44. КАТУАР
С продуктами в Москве было непросто. Власти города стали выделять жителям столицы землю под огороды в ближайшем Подмосковье, чтобы горожане сами могли выращивать для себя кое-что из овощей. Семье Смолиных предложили участок земли в районе станции Катуар, находящейся примерно в часе езды от Савеловского вокзала. От Богородского до станции Катуар дорога была долгой и неудобной. Но Екатерина Алексеевна не могла отказаться от возможности завести огород и самим выращивать картофель, морковь, немного лука, чтобы семья хотя бы частично была обеспечена такими простыми продуктами питания.
Весной мать вместе с дочерьми, Анечкой и Тоней, общими усилиями посадили картошку на далеком огороде. Далее, в течение лета, картофель нужно было окучивать, окапывать борозды, поливать грядки. Крестьянский труд был хорошо знаком Екатерине Алексеевне. К тому же, она работала сменами, в течение недели у нее было больше выходных дней, чем у других членов семьи. Поэтому большую часть работы по уходу за картофельным полем мать семейства взяла на себя. Это было для нее естественно, жизнь приучила ее к тому, что надеяться нужно только на свои руки, не перекладывать тяжелую работу на других.
Екатерина Алексеевна со страстью взялась за огород. Но возникла проблема: картофельное поле находилось не рядом со станцией Катуар, до него нужно было идти леском, лугом, колхозными полями. Женщина боялась ходить одна по пустынной местности. Понимала, что, возможно, никакой опасности нет, но не могла преодолеть безотчетный страх. В рабочие дни никто из членов семьи не имел возможности ее сопровождать. А ездить за город одна она – не могла. Выход нашелся: Екатерина Алексеевна решила брать с собой на огород внука Виталика. Мальчику было четыре с половиной года, разумеется, в случае чего на него нельзя было рассчитывать как на защитника. Но для бабушки просто важно было знать, что она не одна. И еще в душе теплилась надежда: если какой-нибудь злодей и замыслит недоброе, может быть, совесть не позволит ему обидеть женщину с ребенком.
Екатерина Алексеевна брала для внука что-нибудь покушать, чай в бутылочке, и они с утра отправлялись на Савеловский вокзал. Для шустрого активного мальчика поездки с бабушкой на природу были чем-то вроде выездов на дачу. По дороге от станции до картофельного поля он успевал набегаться по травке, полюбоваться цветочками и жучками. А если уставал, бабушка брала его на закорки и несла на спине. Придя на огород, мальчик требовал дать ему покушать, попить и тихонько засыпал где-нибудь в тени, на постеленной бабушкой мягкой фуфайке. Завершив свои дела на огороде, Екатерина Алексеевна будила внука, и они отправлялись в обратный путь. Слава Богу, в поездках на огород никаких неприятностей с ними не произошло.
Несмотря на то, что Виталик в то время был совсем маленьким мальчиком, он запомнил эти поездки с бабушкой на огород, и всегда, в течение всей своей долгой жизни, вспоминал о них с удовольствием, с улыбкой. Будучи уже совсем взрослым человеком, он не раз говорил, что с тех давних пор странное слово «Катуар» осталось в его памяти как символ чего-то приятного, теплого, родного.
Виталик вырос, после окончания школы пошел учиться в летное училище и всю жизнь, пока позволяли возраст и здоровье, служил в полярной авиации, был командиром вертолета, сопровождал ледоколы в долгих ледовых походах. Когда на севере Западной Сибири началось активное освоение нефтяных и газовых месторождений, поработал и там: возил на своем вертолете геологов, строителей и нефтяников в отдаленные северные поселки.
В тот момент, когда в соответствии с правилами наш Виталик, Виталий Никитич Чернышов, по возрасту должен был оставить службу в авиации, он получил возможность открыть свой бизнес – автосервис. Обстоятельства сложились так, что место для дислокации его небольшого предприятия нашлось, как вы думаете – где? Вблизи станции Катуар! Ему очень нравилось это забавное совпадение. Он не раз повторял: «Вот судьба! Не зря я с бабушкой в детстве в Катуар катался. Теперь каждый день езжу туда на работу!». Автосервис был его местом работы в течение 20 лет.
Судьба Виталия Никитича еще раз показала, что его многолетняя привязанность к месту под названием «Катуар», видимо, действительно, была не случайной. В апреле 2017 года, возвращаясь с работы (!), Виталий Никитич умер мгновенно за рулем своего автомобиля. Ему было 78 лет. Это произошло на шоссе, в полукилометре от станции Катуар.
Глава 45. НАГРАДНЫЕ ЛИСТЫ ГЕРОЕВ
Многие знают, что настоящие фронтовики, солдаты и офицеры, пережившие все тяготы войны, очень неохотно рассказывали своим близким о том, как же это все было в действительности там, на войне. Видимо, у них на это были веские причины. Одна из причин, как я понимаю, состояла в том, что они берегли нас, молодых, от тех ужасов, которые неизбежно пришлось им самим испытать на войне. Так или иначе, но мы, к сожалению (или к счастью?), очень мало знаем о том, как воевали и как бытовали наши ближайшие родные – отцы, деды, дядья – на фронтах Великой Отечественной войны в течение, ни много – ни мало, четырех лет, с 1941 по 1945 гг.
Теперь, к сожалению, никого из наших фронтовиков давно уже нет в живых. Ушли вслед за ними и их любимые жены. Почти ни у кого в домашних архивах не сохранились их письма. Слишком много времени прошло с тех пор, как кончилась война. Однако, возможно, справедливо говорят, что герои не умирают. Геройские подвиги, мучения, ранения, пролитая кровь солдат Великой Отечественной войны не канули в лету.
Сейчас, при желании что-либо узнать о фронтовых биографиях наших родных, мы можем обратиться к архивным документам, опубликованным на общедоступных Интернет-ресурсах. Едва начав поиски сведений о боевом пути моего отца, Натчука Александра Карповича, и других родственников, я нашла сайт «Память народа», на котором опубликованы документы о награждении фронтовиков боевыми наградами – наградные листы.
Большая часть наградных листов представлена на сайте в виде сканов. То есть, открывая такой документ на экране компьютера, ты видишь его так, как будто держишь перед собой пожелтевший листок бумаги, исписанный торопливой рукой лейтенанта, которому поручили оформить документы на награждение бойцов, отличившихся в недавнем бою. Разбирая неровные рукописные строчки, ты волей-неволей получаешь не только информацию о том, кого и за что именно наградили тем или иным орденом, ты проникаешься атмосферой, в которой происходили эти события.
Наградные листы, видимо, нередко заполняли в полевых условиях, чернилами, от руки. Разумеется, документы подписывали и заверяли старшие офицеры. Но составляли их, наверное, все-таки лейтенанты, которые не были большими мастерами писать какие-либо тексты, не были каллиграфами. В течение короткого дня требовалось заполнить не один наградной лист, а сразу много аналогичных документов, поэтому лейтенанты спешили, многие слова старались писать сокращенно. Чернила расплывались. Наверное, они не думали тогда, что составленные ими обычные (!) наградные листы – это исторические документы, наполненные громадным смыслом, свидетельства настоящих героических подвигов, которые ежедневно совершали солдаты и офицеры Красной Армии.
Постараемся хотя бы отдаленно представить себе фронтовые биографии наших родных, основываясь на скупых строчках их наградных листов.
Глава 46. СЕРЖАНТ НАТЧУК
Мой отец, Натчук Александр Карпович, был тяжело ранен 23 января 1942 г. в районе г. Медынь Калужской области. Его, раненого, быстро увезли с поля боя в госпиталь. Лечение длилось несколько месяцев. По завершении лечения он был направлен в другую воинскую часть, где и проходил дальнейшую службу. Как выяснилось много позже, сразу после ранения, в феврале 1942 года, он был представлен к правительственной награде – Ордену Славы 3-ей степени. Но поскольку в свою прежнюю часть он не вернулся, заслуженную награду вручить ему не смогли. И он сам до 1945 года не знал, что три года назад был награжден орденом.
В январе 1945 г. сержант Натчук, командир орудия среднего танка, воевал в составе 139-го танкового полка 68-ой механизированной бригады 8-го механизированного Александрийского корпуса на 2-ом Белорусском фронте. Был тяжело ранен. По окончании боев его представили к награде – Ордену Славы 3-ей степени. В процессе оформления документов на награждение выяснилось, что три года назад он уже был представлен к награде, но тогда своего ордена не получил.
Наградной лист от 1942 года в документах представлен кратко:
«Младший сержант Натчук Александр Карпович, 1922 года рождения, участник войны с августа 1941 года, при наступлении на г.Медынь в составе 10-ой воздушно-десантной бригады 5-го воздушно-десантного корпуса был тяжело ранен и представлен к правительственной награде – Ордену Славы 3-й степени».
Выписка из наградного листа от 21 февраля 1945 года:
«Краткое изложение личного боевого подвига.
Сержант Натчук, участвуя в боях под г. Пеханов (Восточная Пруссия – прим. автора), в бою за овладение укрепленным опорным пунктом противника проявил мужество и отвагу. При атаке тяжелых танков типа «Тигр» и самоходных орудий «Фердинанд» т. Натчук вел массированный огонь из орудия танка. В бою подбил один танк типа «Тигр». Противник упорно сопротивлялся, но меткие выстрелы т. Натчука заставили замолчать на одном из флангов огневые точки врага. Задача командования была выполнена. Т. Натчук в бою был тяжело ранен: спасая свою машину от огня, получил сильные ожоги в области лица и рук. За мужество и отвагу в упорном бою с немецкими тяжелыми танками и уничтожение немецкой техники т. Натчук достоин правительственной награды – Ордена Славы 3-й степени».
Во фронтовой газете «На штурм!» 2-го Белорусского фронта была опубликована заметка под заголовком «Сержант Натчук подбил фашистский «Тигр», посвященная подвигу храброго танкиста. Заметка заканчивалась такими строками: «Славный боевой путь т. Натчука воспитал и закалил в нем смелость и решительность. Его боевыми делами восхищается весь личный состав части. За проявленную самоотверженность, стойкость и мужество в схватке с врагом, за пролитую кровь во имя нашей Родины т. Натчук достоин правительственной награды».
В соответствии с правилами, если боец, однажды награжденный Орденом Славы 3-й степени, во второй раз совершил подвиг, достойный Ордена Славы, его должны представить к награждению Орденом Славы 2-й степени. Но шел 1945 год, приближался конец войны. Все устремления командования Красной Армии были направлены на продвижение вперед, на запад, чтобы как можно скорее раздавить фашистского зверя в его логове. Переоформлять документы танкиста Натчука на награждение его Орденом Славы 2-й степени было бы долго и сложно, поэтому заниматься этим не стали. Так сержант Натчук Александр Карпович, мой будущий отец, стал кавалером двух Орденов Славы 3-ей степени.
Ранение его было очень серьезным. Были сильно обожжены лицо, руки, дыхательные пути и самое главное – глаза. В течение нескольких месяцев его переводили из одного госпиталя в другой, лечили обожженные участки кожи, старались сохранить глаза. День Победы 9 мая 1945 года бравый танкист Саша Натчук встретил в госпитале, в городе Кенигсберге. Ему только что исполнилось 23 года. Правильное лечение, молодость и природное здоровье позволили преодолеть последствия ранения. Врачебная комиссия пришла к выводу, что по состоянию здоровья сержант Натчук демобилизации не подлежит, т.е. должен продолжать службу в армии.
После госпиталя Саша получил краткосрочный отпуск, съездил домой в Москву, побыл немного с мамой и сестрой, легко влюбил в себя всю женскую часть населения Зельева переулка, и вернулся обратно в свою часть, которая в это время дислоцировалась на территории Польши. Демобилизовали Сашу только в 1947 году.
Глава 47. МОРДАЕВЫ, ОТЕЦ И ТРИ СЫНА
Из семейства Мордаевых в Великой Отечественной войне принимали участие четверо мужчин: глава семейства Илья Алексеевич и трое его сыновей – Василий, Петр и Константин. Каждый из них достоин того, чтобы его фронтовая биография осталась не только в государственных архивах, но и в памяти родных людей, которые, возможно (я надеюсь!), сочтут нужным рассказать о них своим детям, внукам, друзьям. Чтобы не умерла память, чтобы не исчезла наша живая история.
«Военная» биография Ильи Алексеевича Мордаева началась еще в годы Первой мировой войны. Он был призван в армию в 1915 году. В семейном альбоме сохранились несколько фотоснимков, на которых молодой Илья Мордаев запечатлен в форме и фуражке солдата царской армии. Дочь Ильи Алексеевича Нина рассказывала, что спустя много лет после войны иногда к ним в дом в Едимонове приходил сосед, такой же пожилой человек, как и Илья Алексеевич. Фамилия соседа была Салтыков. И они, два старых солдата, Салтыков и Мордаев, долго сидели, разговаривали и вспоминали, как они молодыми людьми вместе служили на Кавказе.
В 1941 году, когда началась война с гитлеровской Германией, Илье Алексеевичу было 44 года. Первая волна мобилизации увела из дома трех его сыновей. Отца в армию не призвали. Но в разгар войны, когда советские войска от оборонительных боев перешли в решительное наступление, ситуация на фронтах складывалась так, что для окончательного разгрома врага требовалось подтянуть все резервы. Илью Алексеевича в числе других мужчин призвали в армию в 1944 году. К этому моменту ему исполнилось уже 47 лет.
Выписка из общего наградного листа 465-го зенитного артиллерийского полка 7-ой зенитной артиллерийской бригады Пушкинской Краснознаменной дивизии Северо-Западного фронта:
«Мордаев Илья Алексеевич, 1897 года рождения, ефрейтор, телефонист 4-ой батареи в боях в районе г. Сааремаа под сильным минометным огнем противника обеспечил бесперебойную связь с КП полка, устранив до 30 обрывов линии связи. Представляется к награждению медалью «За боевые заслуги». Ранее награжден медалью «За оборону Ленинграда».
После окончания Великой Отечественной войны, летом 1945 года, когда уже полным ходом шла демобилизация из армии усталых, вдоволь навоевавшихся солдат, Илья Алексеевич тоже надеялся вскоре отправиться домой. Но его часть оказалась в составе группы войск, которая была направлена из Германии прямо на Дальний Восток. Там «под занавес» мировой войны Япония решила проявить агрессию против Советского Союза. Японцам необходимо было дать отпор. И наш Илья Алексеевич, старый солдат, в военном эшелоне, в солдатской «теплушке» промчался из Германии через всю нашу страну, мимо своей Тверской области, до самого Дальнего Востока. И там, надо полагать, также внес свой вклад в победу над Японией.
В семье, где были четверо настоящих фронтовиков, не принято было рассказывать о военных подвигах. Но если кто-нибудь из сыновей Мордаевых случайно в разговоре вспоминал о том, что Илья Алексеевич после того, как разделались с «фрицами», успел поучаствовать еще и в войне с японцами, все смеялись, говорили: «С Японией воевать – и то не обошлись без нашего отца!».
Кстати, Илья Алексеевич после демобилизации, возвращаясь из Японии к себе в Едимоново, не мог не заехать в Москву к своей любимой сестре Кате, Екатерине Алексеевне. Заехал, погостил, отогрелся душой в семье любимых родственников и оставил Кате в подарок два красивых шелковых японских шарфа – красный и розовый с замысловатым черным орнаментом. Розовый шарф был, видимо, слишком ярким для сурового послевоенного времени, поэтому его никто не носил. Я родилась через много лет после этих событий, и когда мне было два-три года, японскому шарфу нашлось применение: мне сшили нарядное платьице из этого самого розового шарфа. Таким образом, дедушкин подарок из Японии, с войны, коснулся и меня своим розовым легким крылом!
Василий Ильич Мордаев, старший сын Ильи Алексеевича, так же прошел долгий путь по дорогам войн. Он был призван в армию в 1940 году, ему «посчастливилось» начать воевать еще в так называемую Финскую войну.
Выписка из первого наградного листа Мордаева Василия Ильча:
«Наградной лист от 30 июля 1944 г.
Мордаев Василий Ильич, 1919 года рождения, гвардии старший сержант, командир отделения разведки 44-ой Гвардейской пушечной артиллерийской Одесской бригады.
В Красной армии – с января 1940 г.
В Отечественной войне – с июня 1941 г.
Ранение – май 1944 г.
Краткое изложение личного боевого подвига.
Тов. Мордаев работал в должности командира отделения разведки с августа 1942 г. Показал себя как смелый, энергичный командир-разведчик. Находясь на передовом наблюдательном пункте в р-не с.Дороцкое под непрерывным минометным и артиллерийским огнем противника, в течение мая – июня месяца обнаружил: 3 минометных батареи, 2 наблюдательных пункта, 3 ДЗОТа и 7 огневых точек. В мае месяце т.Мордаев был ранен, но не оставил поля боя, продолжал вести разведку.
В результате повседневной работы с личным составом отделение В.Мордаева показало отличную боевую подготовку.
За мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками, за самоотверженное выполнение боевой задачи, несмотря на ранение, т. Мордаев достоин награждения медалью «За Отвагу».
Выписка из второго наградного листа Мордаева Василия Ильича:
«Наградной лист от 7 мая 1945 г.
Мордаев Василий Ильич, гвардии старший сержант, командир отделения разведки 1-го дивизиона 44-ой Гвардейской пушечной артиллерийской Одесской Краснознаменной бригады.
Представляется к награждению Орденом Красной Звезды.
В период подготовки к прорыву обороны противника на р. Одер т. Мордаев с 5 по 15 апреля 1945 г. лично обнаружил 4 артбатареи, 3 минометных батареи противника и 5 пулеметных точек, которые частично огнем дивизиона были подавлены и уничтожены.
В боях за город Берлин т. Мордаев, находясь на наблюдательном пункте в боевых порядках пехоты, обнаружил 2 артиллерийские батареи противника, которые огнем дивизиона были подавлены.
За отличное выполнение боевых заданий командования т. Мордаев достоин представления к правительственной награде – Ордену Красной Звезды.»
Мордаев Петр Ильич, 1921 года рождения. В Красной Армии с 1941 г. Кандидат ВКП(б).
Выписка из первого (рукописного) наградного листа от 6 апреля 1944 г.:
«Радиотелефонный мастер, гвардии сержант Мордаев Петр Ильич 2 марта 1944 г. в р-не бывш. деревни Яково под обстрелом противника на переднем крае обороны исправлял рации и телефонные аппараты, вышедшие из строя, чем способствовал выполнению боевой задачи командования.
Награжден медалью «За Отвагу».
4-ая отдельная артиллерийская бригада. 1-й Белорусский фронт».
Выписка из второго наградного листа Мордаева Петра Ильича от 28 марта 1945 г.:
«Мордаев Петр Ильич, гвардии старший сержант, мастер радиотелефонной связи 277-го Гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского Красногвардейского полка за период боев с 14 января по 20 февраля 1945 г. самоотверженно работал по восстановлению выходящего из строя имущества связи, в короткий срок отремонтировал 3 радиостанции.
16 января 1945 г. в районе п.Старая Воля во время контратаки немцев по окружению тылов полка от находящихся в боевых порядках батарей производил ремонт радиостанций. Сам из ручного оружия уничтожил четырех солдат-немцев.
За проявленные при этом героизм, мужество и отвагу достоин правительственной награды – Ордена Красной Звезды».
Мордаев Константин Ильич, Костя, остряк и умница, самый младший из наших родственников-фронтовиков. В 1944 г. ему исполнился 21 год. Осенью того же года он получил тяжелое осколочное ранение в ноги. Обе ноги были изрезаны осколками так сильно, что стоял вопрос об ампутации обеих ног. Врачи пожалели молодого парня и сделали все возможное, чтобы одну ногу ему все-таки сохранить. Другую ногу пришлось ампутировать до тазобедренного сустава. Если бы фронтовые хирурги не приложили всех усилий к тому, чтобы сохранить ногу, нашему дяде Косте пришлось бы всю жизнь сидеть на деревянной каталке и, чтобы передвигаться, приходилось бы отталкиваться от земли деревянными колодками. Но врачи совершили чудо. Константин приехал домой на костылях. Так, на двух костылях, он и прожил всю свою долгую жизнь.
Выписка из наградного листа Мордаева Константина Ильича:
«Мордаев Константин Ильич, 1923 года рождения, член ВКП(б), младший сержант, санитар санитарной роты 909-го стрелкового полка 247-ой стрелковой дивизии.
Ранее награжден Орденом Славы 3-ей степени.
Представляется к награждению Орденом Красной Звезды.
В период наступательных боев от р.Висла до р.Одер т.Мордаев проявил отвагу и мужество. Не считаясь с жизнью, вынес с поля боя из-под огня противника 35 раненых бойцов и офицеров, оказал им первую помощь под огнем противника и эвакуировал их в тыл. На левом берегу р.Одер при расширении плацдарма вынес из-под огня противника 26 раненых бойцов и офицеров с их оружием, оказал им первую помощь и эвакуировал их в тыл.
Достоин правительственной награды – Ордена Красной Звезды».
Михаилу Ломакову, двоюродному брату молодых Мордаевых, сыну Анны Алексеевны Ломаковой, урожденной Мордаевой, пришлось хлебнуть ужасов войны, возможно, даже поболее, чем братьям. Его призвали в армию в 1939 году. Он служил во флоте, на Балтике, принимал участие в Финской войне. В 1941 году, вскоре после начала Великой Отечественной войны, попал в плен к немцам. Сколько времени Михаил провел в плену, как ему удалось бежать – этого я не знаю, этого никто детям не рассказывал. Рассказывали только, что в плену ему пришлось пережить имитацию смертной казни через повешение. Он уже стоял под виселицей, и на его шею была накинута петля. С тех пор и до конца жизни Михаил не мог переносить ничьих прикосновений к его шее. После войны он женился, у него была хорошая жена Маша, выросли две дочки. И жена, и девочки знали, что обнимать отца за шею ни в коем случае нельзя, даже если хочешь выразить ему свою любовь. Он предупреждал, что его реакция может быть непредсказуемой.
Михаил был человеком высокого роста, имел богатырское телосложение, обладал огромной физической силой и бурным темпераментом. Разумеется, его смирной и терпеливой жене Маше временами было нелегко справиться с его буйным нравом. Когда ей необходимо было пожаловаться кому-нибудь на свою непростую жизнь, поплакать, она приезжала туда же, куда и все – на 2-ую Прогонную улицу, к тете Кате Смолиной. Они сидели вдвоем с Екатериной Алексеевной, пили чай, Маша плакала, утирала слезы платочком. Потом уезжала, успокоенная и ободренная.
Михаил был далек от какой-либо сентиментальности, но семью свою любил и о ней заботился. Дочки Михаила и Маши были примерно того же возраста, что и я. Мне запомнилось, что дядя Миша всегда беспокоился о том, чтобы его девочки в зимние каникулы обязательно ходили на хорошие детские новогодние праздники, так называемые «елки», и получали там вкусные подарки с мандаринами и шоколадными конфетами. При случае он всегда спрашивал моих родителей: не надо ли и мне, их дочке, достать билет на хорошую елку? Видимо, считал, что это очень важно для детской жизни. Но у нас в семье с «елками» всегда был порядок.
В 50-60-х годах, когда послевоенная жизнь уже понемногу наладилась, наши родственники-фронтовики – мой отец, братья Мордаевы, братья Ломаковы, зять Мордаевых Борис Каленик, муж Нины – не имели возможности часто встречаться друг с другом. Жили в разных городах, работали, каждый занимался своими делами. Но когда им удавалось встретиться, поговорить, посидеть за одним столом – как они радовались этим встречам, как радовались друг другу! Все они были примерно одного возраста, все прошли горнило войны в ранней молодости: годы на фронте, жестокие бои с врагом, ранения, близость смерти. Но несмотря ни на что, они выжили, не просто дожили до победы, они завоевали Победу! И при редких семейных встречах каждый знал, что – вот они, мои друзья, мои родные! Они такие же, как я, и я такой же, как они, мы живы, мы веселы, вокруг хлопочут наши жены, бегают наши дети, и дело наше правое, и Победа всегда будет за нами!
Но этому счастливому времени предшествовали трудные послевоенные годы, когда вчерашним фронтовикам необходимо было начинать с нуля строить свою мирную жизнь.