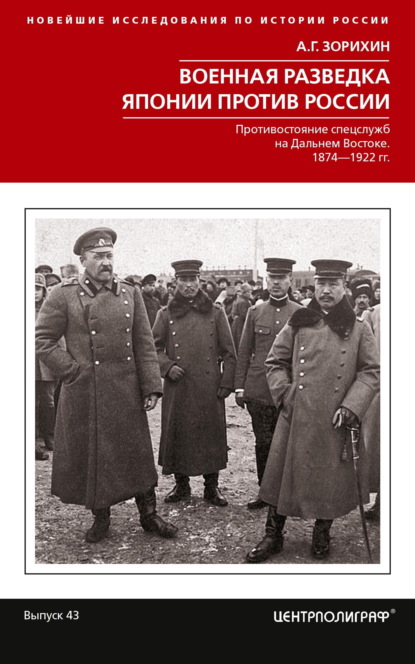Военная разведка Японии против России. Противостояние спецслужб на Дальнем Востоке. 1874-1922

000
ОтложитьЧитал
Не полагаясь только на собственные возможности, японская военная разведка накануне войны заключила первый в своей истории разведывательный альянс с Великобританией, который заложил фундамент в почти полувековую практику сотрудничества специальных органов Японии и союзных держав – Германии, Польши, Эстонии, Латвии, Финляндии, Венгрии в обмене разведывательными материалами о России. Основой альянса стал подписанный 30 января 1902 г. между Лондоном и Токио договор о взаимопомощи.
В первой статье соглашения стороны признавали друг за другом право на вмешательство во внутренние дела Китая и Кореи ради защиты своих интересов, «если им будут угрожать либо агрессивные действия какой-либо другой державы, либо беспорядки, возникшие в Китае или Корее». Вторая статья обязывала каждую из сторон соблюдать строгий нейтралитет, если другая сторона, защищая свои интересы в Китае или Корее, окажется в состоянии войны с третьей державой. В случае войны одного из союзников с двумя или более державами договор обязывал другую сторону оказать военную помощь154.
В рамках достигнутых договоренностей 7–8 июля 1902 г. в Лондоне прошли переговоры представителей разведок обеих стран. С японской стороны в них участвовали начальник 2-го управления Генштаба генерал-майор Фукусима Ясумаса и представитель МГШ контр-адмирал Идзюин Горо, с английской – начальник военной разведки генерал-лейтенант У.Г. Николсон и начальник военно-морской разведки контрадмирал Р.Н. Кустэнс. Стороны договорились об обмене разведывательной информацией. Англичане, в частности, обязались снабжать японцев информацией о перемещениях российского флота в обмен на сведения о русских сухопутных войсках. Офицерами связи с английской разведкой были назначены японский военный атташе в Лондоне подполковник Уцуномия Таро и военно-морской атташе капитан первого ранга Тамари Тикатака155.
Говоря о результативной деятельности японской военной разведки против России накануне войны, нужно отметить, что ее успехам во многом способствовали организационная разобщенность и малочисленность отечественных контрразведывательных органов, отсутствие у них подготовленного аппарата оперативных сотрудников и агентов, специализировавшихся на борьбе с японским шпионажем, слабое финансирование этого участка контрразведывательной работы156.
Система специальных органов Российской империи формировалась на рубеже XIX–XX вв., когда в дополнение к Отдельному корпусу жандармов МВД, занимавшемуся главным образом политическим сыском, были образованы Особый отдел Департамента полиции МВД (1898) и 7-е (контрразведывательное) делопроизводство военно-статистического отделения Главного штаба (1900)157. Хотя в их функции входила борьба со шпионажем, серьезных успехов они не имели. Тактика отечественной контрразведки сводилась к негласному наблюдению за японскими гражданами и подозрительными лицами, в то время как противодействие такому противнику, как военная разведка Японии, требовало активного агентурного проникновения в ее аппарат и проведения комплекса профилактических мер по перекрытию каналов утечки государственных тайн.
Имевшиеся у спецорганов сведения о деятельности японской военной разведки на Дальнем Востоке носили несистемный и искаженный характер, что приводило к распылению оперативных ресурсов на отработку ложных объектов. Представления о размерах разведаппарата Японии в России были чрезмерно раздуты: русские контрразведчики исходили из того, что кадровые офицеры японской разведки работали подрядчиками на строительстве КВЖД, содержали публичные дома и притоны для курения опиума во Владивостоке, Никольск-Уссурийском и Порт-Артуре, получая ценную информацию через проституток и наркоманов, устраивались приказчиками к русским купцам или парикмахерами в русские гарнизоны, а также «преуспевали на шпионском поприще в качестве лакеев, кучеров, врачей-венерологов, чернорабочих, продавцов шелка, коммивояжеров, скупщиков старья, точильщиков ножей и т. д.»158.
Российская контрразведка не смогла разобраться и в структуре разведорганов японской армии. Долгое время – вплоть до середины 1908 г. – отечественные спецслужбы считали, что разведкой в Генеральном штабе Японии занимались 3-е и 5-е управления (отделения), в то время как они отвечали за военные перевозки и содержание крепостей и какую-либо разведывательную деятельность, естественно, не вели. Относительно правдоподобная схема организации Генерального штаба Японии появилась в ГУГШ только к 1 июля 1908 г., однако и тогда разобраться с распределением функций между щестью управлениями его центрального аппарата русской разведке не удалось159.
Определенные меры для исправления этой ситуации предпринимались. Весной 1903 г. распоряжением Николая II в структуре Военного министерства было организовано разведочное отделение во главе с ротмистром В.Н. Лавровым для установления «негласного надзора за обыкновенными путями тайной военной разведки, имеющими исходной точкой иностранных военных агентов, конечными пунктами – лиц, состоящих на нашей государственной службе и занимающихся преступною деятельностью, и связывающими звеньями между ними»160. При малочисленности штатов подчиненные В.Н. Лаврова сумели к концу 1903 г. взять под контроль только военные атташаты Японии, Германии и Австро-Венгрии в Санкт-Петербурге, что позволило им с большим опозданием обезвредить накануне войны основной источник японской военной разведки в Главном штабе царской армии – ротмистра Н.И. Ивкова, вследствие несоблюдения Акаси элементарных требований конспирации: Ивков уведомлял военного атташе о планируемых встречах отправкой писем на его домашний адрес, встречи происходили на квартире Акаси либо секретаря дипмиссии Тано, куда агент приходил в офицерской форме, никак не легендируя перед начальством свои контакты с японцами, во время встреч в квартирах находилась русская прислуга. Следствие по делу Ивкова заняло 2 месяца – с 8 января по 10 марта 1904 г., однако получить исчерпывающие сведения о его деятельности русской контрразведке не удалось, так как Ивков 14 июня повесился в камере161.
Нельзя не отметить и то, что резиденты военной разведки на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, Корее и Китае, а также временно командированные на материк офицеры ГШ Японии действовали осмотрительно, не позволяя царским спецорганам, несмотря на тотальный контроль за перемещениями японцев, уличить себя в шпионаже. Сообщая 9 июня 1903 г. в Главный штаб об участившихся случаях появления японских офицеров и коммерсантов в Южной Маньчжурии, начальник штаба Квантунской области подполковник В.Е. Флуг высказал предположение о разведывательном характере их поездок, однако привести какие-либо доводы в подтверждение своей версии не смог162.
Как показывает анализ документов, поступавших по каналам военной разведки и МИД, к началу войны Генштаб Японии располагал достаточно полной информацией о численности и составе русской группировки войск в Забайкалье, на Дальнем Востоке и в Южной Маньчжурии, мобилизационных ресурсах, предназначенных для переброски из Харькова, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Иркутска и Омска на восток, пропускной способности Транссибирской и Китайско-Восточной железных дорог, которые, по мнению японской разведки, хотя и не были окончательно введены в эксплуатацию, но позволяли царскому командованию перебрасывать резервы на ТВД. Кроме того, 13 января 1904 г. военный атташе во Франции майор Хисамацу Садакото сумел добыть оперативный план русской армии163.
Таблица 2
Оценка 1-м управлением ГШ русской группировки войск на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Южной Маньчжурии на 16 января 1904 г.164

Летом 1903 г. начальник Комитета по сбору и оценке разведывательной информации генерал-майор Фукусима Ясумаса представил заместителю начальника Генштаба генерал-майору Тамуре Иёдзо доклад о шансах Японии на победу в войне против России, который сводился к следующим пунктам:
1. Русская армия во время войны сможет выставить на Дальнем Востоке 230 000 человек, из которых в Сибирском, Приамурском военных округах и в группировке войск в Маньчжурии будет 160 000 человек, еще 70 000 прибудут из европейской части страны. Для скорейшей переброски резервов и приведения в полную боевую готовность тыловых частей потребуется как минимум 4 месяца.
Японская армия будет воевать с русской силами 13 пехотных дивизий, но в настоящее время сухопутные войска империи находятся в более выгодном положении. Тем не менее силы противника с каждым днем неминуемо и последовательно увеличиваются.
2. Поскольку Сибирская железная дорога является одноколейной, укладка полотна этой линии практически завершена, однако самым существенным ее недостатком является то, что строительные работы на южном побережье Байкала до сих пор не закончены и это делает невозможным непрерывное движение из европейской части страны. Для перевозок по озеру используются паромы и сани, в то время как запасы угля, воды, подвижного состава должным образом не подготовлены, что, в частности, зимой приведет к большому количеству аварий из-за низких температур. Следовательно, транспортные возможности Сибирской железной дороги сегодня являются недостаточными.
3. Ввиду того что прогресса в переговорном процессе с Россией нет, следует как можно скорее принять решение о начале боевых действий на суше. Кратчайший способ достижения победы императорской армии в войне против России только один – решиться на кампанию до завершения постройки Сибирской железной дороги165.
Фактически эти же аргументы легли в основу представленного императору 1 февраля 1904 г. начальником Генштаба итогового доклада «Оценка ситуации в Вооруженных силах России», в котором он констатировал численное превосходство японской армии над русской на Дальнем Востоке и низкую пропускную способность Транссибирской железной дороги, позволявшую перебрасывать из европейской части России за Урал не более 6 эшелонов с войсками в день. Выступая за немедленное нападение на Россию, Ояма подкреплял свои предложения конкретными цифрами: поскольку русская группировка войск в Забайкалье, Приамурье, Приморье, Маньчжурии и на Квантуне насчитывала 88 пехотных батальонов, 35 кавалерийских эскадронов, 25 артиллерийских батарей со 188 орудиями, Япония могла противопоставить им 156 батальонов, 54 эскадрона, 106 батарей и 636 орудий, которые при дополнительной мобилизации резервистов и быстром продвижении вглубь Маньчжурии и Кореи должны были упредить развертывание русской армии до паритетного уровня166.
Следует отметить, что «спусковым крючком» решения Оямы доложить императору мнение о необходимости немедленно напасть на Россию стала поступившая неделей раньше телеграмма военного атташе во Франции майора Хисамацу Садакото о том, что русские военный министр и начальник Главного штаба утвердили оперативный план боевых действий у Николая II, который, в свою очередь, наделил абсолютными полномочиями решительно настроенного на войну с Японией наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева. Как сообщал Хисамацу, Алексеев закончил формирование на Ляодунском полуострове 3-го Сибирского армейского корпуса и ждал прибытия дополнительных сил флота для Тихоокеанской эскадры, которые на тот момент находились в Красном море. Правда, в телеграмме содержалась информация об отсрочке наместником начала войны до завершения строительства доков в Порт-Артуре, однако Ояма воспринял ее как неудачную попытку противника ввести его в заблуждение и на совещании в присутствии императора 4 февраля сделал все от него зависящее, чтобы убедить Муцухито одобрить отправку сил армии и флота в Корею167.
С началом войны 8 февраля японское командование провело срочную реорганизацию разведывательной сети в Корее и Северо-Восточном Китае. Общее руководство ею перешло под контроль созданной указом императора от 11 февраля 1904 г. Императорской верховной ставки в составе двух равноценных управлений армии и флота, которые по указу от 28 декабря 1903 г. возглавили начальники Генерального и Морского генерального штабов, делегировавшие в Ставку большую часть своих офицеров. В новом органе функции двух оперативно-разведывательных управлений ГШ окончательно разделились: к 1-му управлению отошли вопросы оперативного планирования, в то время как 2-е управление занялось организацией и руководством всех видов разведки168.
Усилиями начальника 2-го управления ГШ генерал-майора Фукусимы разведорганы армейских объединений на Маньчжурском и Корейском театрах были укомплектованы опытными офицерами разведки из числа бывших резидентов во Владивостоке: разведотдел штаба 1-й армии возглавил подполковник Хагино Суэкити, 2-й – майор Исидзака Дзэндзиро, 3-й – майор Ямаока Кумадзи, 4-й – майор Матида Кэйу, 5-й – майор Муто Нобуёси169.
В период с 8 февраля по 1 мая 1904 г. главным театром военных действий японской армии против России стала Корея. Работа созданного здесь к началу войны разведывательного аппарата уже 19 февраля была парализована арестом передовыми частями русской армии резидента в Ыйджу майора Того Тацудзиро и спешным бегством из Кёнсона капитана Сакураи Кугадзи, которому, как писал 29 апреля 1904 г. в представлении к награждению орденом Золотого коршуна 5-й степени начальник Генштаба маршал Ояма, позднее удалось создать новую работоспособную резидентуру на восточном побережье страны: «После начала войны, соприкоснувшись с наступающим на юг противником, Сакураи сначала скрывался в Сонджине (Кимчхэке), а затем перебрался в Вонсан, где в условиях смертельной опасности вел разведку, периодически сообщая нам в высшей степени полезные для оперативного планирования сведения»170.
Вслед за высадкой японских частей на полуострове действовавшая здесь до войны агентурная сеть перешла под контроль штаба 1-й армии, укомплектованного ранее работавшими в Корее и Приморье офицерами военной разведки. Для сбора сведений армия активно забрасывала за линию фронта своих разведчиков под видом корейцев. Так, после высадки в Нампхо передовых частей объединения в тыл противника в корейской одежде ушел лейтенант Югами Дзисабуро, которому удалось добыть информацию, необходимую для выработки решения об отправке экспедиционных отрядов. Аналогичную задачу в районе Фынхуанчэна после разгрома русских войск на реке Ялу выполнял майор Нисикава Торадзиро, также собравший достоверные данные о противнике171.
Не ограничиваясь сбором сведений через агентов, разведка 1-й армии черпала необходимую ей информацию из захваченных русских документов и показаний военнопленных. Британский военный наблюдатель при штабе армии генерал-майор Ян Гамильтон вспоминал: «Полковник Хагино занимался опросом пленных. Он доносит, что русские новобранцы обучаются только три месяца перед смотром. Этого времени недостаточно, ибо после смотра наступает зима, во время которой проводятся занятия только в казармах. Хагино приказал русскому унтер-офицеру, взятому в плен 17-го числа, прочитать записную книжку одного из убитых офицеров. Он был не в состоянии ее прочесть, несмотря на то что утверждал, будто выдержал унтер-офицерский экзамен»172.
Деятельность разведывательных органов на Маньчжурском театре в начальный период войны носила вспомогательный характер и была направлена на обеспечение Ставки достоверными сведениями о ВМБ Порт-Артур и Дальний, данными о дислокации, численном составе, вооружении и планах царских войск на Квантунском полуострове и в Южной Маньчжурии. Для решения этих задач Ставка в феврале 1904 г. образовала два континентальных разведывательных центра: один – на базе военного атташата при дипмиссии в Пекине, второй – на базе легальной резидентуры в Чифу. Личный состав обоих центров – полковник Аоки Нобудзуми, майоры Хасигути Юма, Эги Акио, Морита Тосито, капитаны Кавасаки Рёдзабуро, Сато Ясуносукэ, Дои Итиносин и Итогава Тацудзо, приказом начальника Генштаба от 20 февраля 1904 г. перешел в подчинение Ставки173.
Пекинский разведывательный центр во главе с полковником Аоки Нобудзуми и его помощниками майором Хасигути Юма и капитаном Сато Ясуносукэ в течение февраля – марта 1904 г. провел учет всей ранее действовавшей в Маньчжурии агентуры, а также подобрал из числа патриотически настроенных членов японской диаспоры в Китае кандидатов для заброски в тылы русской армии, получив санкцию военного министра на прикомандирование наиболее ценных агентов и доверенных лиц к Ставке с выплатой им ежемесячного денежного довольствия кадровых военнослужащих.
Проводимая центром деятельность официально именовалась «токубэцу нимму» («специальные задачи») и заключалась в сборе развединформации и дезорганизации русского тыла путем уничтожения железнодорожных мостов, тоннелей и линий связи. Для этого по запросу Аоки от 26 февраля к Ставке были прикомандированы 35 проживавших в Китае японцев, из которых только 9 ранее служили в армии. Спустя месяц он получил разрешение на зачисление в центр еще 4 японцев, выполнявших накануне войны разведывательные задачи МИД и Генштаба в Маньчжурии. Кроме того, в интересах пекинского центра действовали 60 китайских агентов, переданные ему на связь Юань Шикаем174.
Решая поставленные перед центром задачи, полковник Аоки добился переподчинения себе ряда сотрудников чифуской резидентуры. С этой целью 19 апреля 1904 г. он обратился к начальнику ГШ за разрешением зачислить в состав пекинского центра резидента в Цзиньчжоу капитана Кавасаки Рёдзабуро, который «после эвакуации из Инкоу вошел в состав аппарата майора Морита, но действует практически независимо от него», подкрепив свою просьбу тем аргументом, что «зона ответственности и решаемые данным капитаном задачи тесным образом связаны со мной». 30 апреля Ояма удовлетворил это ходатайство175.
В феврале 1904 г. Аоки разделил личный состав центра на четыре оперативные группы, определив каждой задачи и зону ответственности в глубоком тылу русской армии. Группа капитана Ито Рютаро (позднее из нее выделилась самостоятельная диверсионная группа ветерана японо-китайской войны Екогава Сёдзо) должна была действовать на железнодорожных коммуникациях в районе Хайлара и ЕЦщикара. Группе капитана Цукуи Хэйкити выделялся сектор к северу от Мукдена, где ей предстояло организовать отряды хунхузов и совершать диверсии на железнодорожных мостах в Харбине и на реке Сунгари. Группа капитана Итогава Тацудзо должна была оперировать в районе Телин – Чанту, дезорганизуя с помощью хунхузов работу железной дороги. Аналогичные задачи решала группа майора Хасигути Юма в районах Ляояна, Чанту и Чаояна. К каждому подразделению были прикомандированы специально подготовленные переводчики из числа унтер-офицеров китайской армии176.
Таким образом, в зону ответственности пекинского разведцентра с началом войны вошел обширный район Северной и Южной Маньчжурии, Внешней Монголии, а также территория Забайкалья, где японское командование планировало осуществить серию диверсий на Транссибирской железной дороге с целью срыва подвоза резервов на Маньчжурский театр.
Однако предпринятые русской пограничной стражей превентивные меры – выставление кавалерийских застав вдоль железнодорожных линий, массовое насаждение агентуры среди китайского населения, установление доверительных отношений с монгольскими князьями и снабжение их оружием – позволили парализовать диверсионную деятельность японцев на КВЖД За время войны ими было совершено 512 попыток диверсий на магистрали, однако успешным можно считать только нападение ночью 31 января 1905 г. на мост севернее станции Гунчжулин и подрыв одного из пролетов177.
Лучшей иллюстрацией тщетности попыток японской разведки парализовать железнодорожное сообщение в русском тылу является судьба Ёкогава Сёдзо.
За три месяца до рассматриваемых событий японцам удалось внедрить в окружение наместника монгольской лиги Харачин князя Гунсаннорбу (Гун) своего агента Кавахара Мисако. Харачин являлся важным стратегическим пунктом вблизи железной дороги из Хайлара в Цицикар, поэтому деятельность Кавахара, работавшего придворным учителем, была направлена на укрепление прояпонских симпатий князя Гуна. Решение этой задачи облегчалось для Кавахара тем обстоятельством, что еще весной 1903 г. Гун, известный своими прогрессивными взглядами, по приглашению генерал-майора Фукусима посетил 5-ю промышленную выставку в Осаке, в ходе которой не только познакомился с передовым японским опытом, но и обсудил с начальником военной разведки ситуацию вокруг расширения сферы влияния России во Внешней Монголии.
21 февраля 1904 г. группа Ито Рютаро отправилась в Харачин. Пользуясь покровительством князя Гуна, диверсанты пополнили запасы продовольствия и, не сумев взорвать Большехинганский железнодорожный тоннель, 3 марта покинули лигу. В пути группа разделилась на две части: шесть диверсантов во главе с Ито ушли к Хайлару, а остальные под руководством Ёкогава направились к Цицикару. До марта 1904 г. группа Ито Рютаро совершила несколько мелких диверсий на железной дороге вблизи Хайлара. Второй группе повезло меньше. 12 апреля 1904 г. конный разъезд Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи задержал Ёкогава Сёдзо и Оки Тэйсукэ на подходе к станции Турчиха вблизи Цицикара. Спустя неделю по приговору временного военного суда в Харбине оба диверсанта были повешены. Символично, что, зная о гибели Екогава и Оки, японское командование продолжало считать их действующими сотрудниками разведки вплоть до 22 февраля 1905 г.178
Такой же бесплодной оказалась попытка пекинского центра нарушить работу Транссибирской железной дороги. После тщательного изучения этого вопроса Аоки пришел к выводу о бесперспективности проведения диверсий в Сибири, изложив свое мнение в телеграмме на имя начальника Общего управления Генерального штаба генерал-майора Игути Сёго от И февраля 1904 г.179 Впрочем, возможно, что японская разведка все-таки попыталась нарушить работу Транссиба: 18 марта 1904 г. Департамент полиции МВД запросил у военного губернатора Акмолинской области обстоятельства ареста в Омске подозрительного пассажира поезда, назвавшегося «майором японской армии», который вместе с сообщниками планировал взорвать железнодорожные мосты через реки Иртыш и Волга в районе Сызрани180.
К началу активной фазы боевых действий в Маньчжурии и на Ляодуне в мае пекинский разведывательный центр располагал двумя резидентурами в Е(зиньчжоу и Ляояне. Для получения сведений о ситуации в районе Телина и Мукдена цзиньчжоуский резидент капитан Кавасаки Рёдзабуро имел постоянно действовавший там агентурный аппарат во главе с 4 японскими и 10 китайскими агентами-групповодами. Двое из них – Ван Жичэн и Чэн Кэчан – еще в январе 1904 г. получили приказ связаться с хунхузами из Ючжи, Ляодуна и Инкоу, с их помощью срывать мобилизацию русской армией китайских кули-носильщиков и уничтожать склады боеприпасов и продовольствия. Ряду разведчиков удалось проникнуть в окружение А.Н. Куропаткина: переданный на связь японской разведке У Пэйфу периодически появлялся в штабе Маньчжурской армии под видом цирюльника, другой китайский агент – Ян Чжэндун – служил переводчиком в штабе 4-го Сибирского армейского корпуса181.
Значительными возможностями по сбору разведывательной информации о русской армии располагала ляоянская нелегальная резидентура. Как уже отмечалось, майор Эги Акио и капитан Дои Итиносин прибыли на материк в январе 1904 г. в соответствии с приказом заместителя начальника ГШ генерал-лейтенанта Кодама Гэнтаро для организации разведывательной сети в Южной Маньчжурии. По прибытии в Пекин они с помощью Аоки завербовали монаха дзэнской секты Кокудзэн и переводчика Мориаки Гэмба, которые, по расчетам Эги, должны были добраться до Мукдена, снять там надежное жилье и тем самым обеспечить безопасное пребывание в городе обоих разведчиков. Поддержание связи резидентуры с Токио возлагалось на пекинский разведывательный центр.
В конце января Эги и Дои прибыли в Инкоу. Не получив подтверждения от Кокудзэн и Мориаки, нелегалы оставались в порту вплоть до начала войны, однако из-за угрозы депортации всех японцев 6 февраля 1904 г. были вынуждены под видом китайских торговцев самостоятельно выехать в Ляоян, который, как предварительно установил побывавший там Дои, должен был превратиться в опорную базу русских войск. Несмотря на жесткий контрразведывательный режим в этом районе, оба разведчика успешно закрепились в близлежащей деревушке Лиуэрбао. Завербовав пять китайских агентов из Хайчэна, нелегалы с их помощью собирали информацию о царской армии в Ляояне. Китайцы, в частности, определяли принадлежность военнослужащих к той или иной воинской части по цвету кокарды, номерам на погонах, подсчитывали численность и вооружение русских подразделений.
Однако квалификация агентуры была достаточно низкой, поэтому свободно владевший китайским языком Дои самостоятельно проник в Ляоян. Не располагая надежными документами и конспиративными квартирами в городе, он вынужден был ночевать в зернохранилищах, но тем не менее смог вскрыть переброску на юг 9-й Восточно-Сибирской стрелковой и 1-й Сибирской пехотной дивизий. Кроме того, Дои подготовил и направил в районы Мукдена, Айсянцзяна, Хайчэна и Дашицяо десять агентов из числа китайских чернорабочих-кули.
В начале марта Дои под видом кули прибыл в Тэнъаопу для наблюдения за строительством русских оборонительных укреплений в Айсянцзяне и через неделю вернулся под Ляоян к Эги, чтобы совместно следить за проводимыми здесь фортификационными работами. Полученная разведчиками информация 29 марта 1904 г. через пекинский разведывательный центр была направлена в Ставку, которая высоко оценила собранные резидентурой сведения и использовала их для корректировки оперативных планов 1-й и 2-й армий. Завершив организацию агентурного аппарата на южной линии КВЖД в районе Хайчэн – Мукден, в начале мая 1904 г. Эги и Дои по приказу Кодамы выехали в Цзиньчжоу, откуда еще месяц вели агентурную разведку на Синьминь и Телин182.
Залогом успешной работы нелегалов являлся их высокий профессионализм. Эги до прихода в разведку учился в Военно-штабном колледже, но, прервав обучение, вернулся в войска, где дослужился до командира пехотного батальона, что было крайне редким явлением среди офицеров японской армии, не получивших высшего академического образования. С марта по ноябрь 1901 г. Эги выполнял задание 1-го управления Генштаба в корейском Масане, а в декабре 1902 г. отправился на разведывательную работу в Пекин. Его напарник капитан Дои Итиносин, пройдя на личные средства в январе— августе 1900 г. языковую стажировку в Фучжоу, затем руководил резидентурой в Аомыне (1900–1901), командовал пехотной ротой (1901–1903), а в декабре 1903 г. был возвращен в штаты 2-го управления Генерального штаба и направлен в Ляоян183. Весьма примечательно, что вплоть до Второй мировой войны Эги и Дои оставались единственными офицерами японской разведки, выполнявшими специальные задачи за рубежом под видом граждан другого государства.
Стоит, однако, отметить, что оба разведчика принадлежали к разным ветвям военной разведки, поэтому из-за межведомственных разногласий Эги не смог получить достаточного финансирования для продолжения своей работы в русском тылу и в январе 1905 г. убыл в Японию. Капитан Дои, принадлежавший к фракции генерал-майора Фукусима Ясумаса, наоборот, расширил созданную им агентурную сеть, действуя совместно с капитаном Кавасаки с позиций Телина184.
Совершенно иначе работал чифуский разведывательный центр, утративший после начала войны прямую связь с Порт-Артуром. Для получения сведений о ситуации в крепости и на Ляодунском полуострове майор Морита Тосито в течение 1904 г. завербовал в качестве руководителей агентурных групп одиннадцать японцев, ранее проживавших в России и Китае и свободно владевших китайским, английским и русским языками, – Эра Бунки, Ито Сюндзо, Табэ Ясуносукэ, Сакамото Ёносукэ, Дои Наогоро, Огура Цунэкити, Нагата Ёсидзиро, Окамото Цугутоси, Мацунага Минэдзи, Такада Сэйитиро, Танимура Гэндзо.
Некоторые из них уже имели опыт разведывательной работы. Так, преподаватель японского языка и дзюдо британской школы в Вэйхайвэй Огура Цунэкити в феврале 1904 г. по заданию консула в Чифу Мидзуно изучал крепостные укрепления Порт-Артура. После прибытия в Чифу в марте того же года Огура перешел в подчинение Морита и вместе с двумя китайскими агентами был направлен в Маньчжурию к югу от Ляояна для ведения разведки и руководства отрядами хунхузов. Интересно отметить, что чифуский центр использовал «краснобородых» не только в разведывательно-диверсионной деятельности, но и в качестве источника слухов среди китайского населения Ляодуна о неизбежном падении Порт-Артура. Огура успешно справился с поставленными перед ним задачами, обеспечив командование 1-й армии информацией о действиях кавалерийского отряда генерал-майора П.И. Мищенко в марте – апреле 1904 г. на реке Ялу185.
С помощью уже имевшейся агентуры и вновь привлеченных сотрудников Морита нашел способ получения сведений непосредственно из осажденной крепости. Поскольку 70 процентов жителей Маньчжурии являлись выходцами из провинции Шаньдун, многие из которых приезжали оттуда на сезонные заработки, Морита направил в порт Дэчжоу и на узловые дороги, выходившие из Дэчжоу, Цзяочжоу и Вэйхайвэй, четырех японских разведчиков. При помощи китайских агентов они заводили на постоялых дворах контакты с возвращавшимися из Маньчжурии сезонными работниками и опрашивали их об обстановке на территории противника186.
В целом к апрелю 1904 г. разведорганы армии частично восстановили утраченные после депортации японского населения агентурные позиции в Маньчжурии и Корее. Вся поступавшая в Токио с материка информация, включая доклады военных атташе в Швеции, Германии, Австро-Венгрии и Великобритании, аккумулировалась в виде еженедельных сводок «Оценка противника управлением армии Императорской верховной ставки». Их содержание имело принципиальное значение для планирования боевых действий на суше, поскольку позволяло рассчитать силы противника, оценить его мобилизационные возможности и разгадать оперативные замыслы.
Так, согласно оперативному плану Генштаба от 2 февраля 1904 г., в начальный период войны для действий на Ляоянском направлении в Южной Маньчжурии выделялась 2-я армия из 3 пехотных дивизий, которой предстояло высадиться у г. Дагу-шань на северо-западном побережье Корейского залива187.
Однако отправка объединения задерживалась до блокирования флотом Тихоокеанской эскадры. Окончательное решение о высадке 2-й армии Ставка приняла И апреля 1904 г. после того, как Разведуправление Фукусима днем ранее представило оценку сил и намерений русских войск на Ляодуне и в Порт-Артуре. По сведениям японской разведки, царская армия на ляоянской равнине насчитывала 5 пехотных дивизий, 8,5 кавалерийского полка и 3,5 стандартного японского артиллерийского полка, которые дополняла 1 пехотная дивизия в Порт-Артуре и Цзиньчжоу. Разведчики предположили, что «для отражения нашей атаки могут быть задействованы 4,5 пехотной дивизии, 8 кавалерийских полков, 3–4 артиллерийских полка по штатам японской армии», однако, не имея проверенной информации о прибытии японских войск, русское командование должно было промедлить с отмобилизацией и переброской сил, поэтому при десантировании 2-й армии у Дальнего встречное сражение состоялось бы только на 13-й день после высадки, а у Яньдайао – на 10-й день, когда, по расчетам разведки, основная группировка объединения уже закрепилась бы на захваченном плацдарме188.
- Военная разведка Японии против СССР. Противостояние спецслужб в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке. 1922—1945
- Иностранные войска, созданные Советским Союзом для борьбы с нацизмом. Политика. Дипломатия. Военное строительство. 1941—1945
- Пламя над Волгой. Крестьянские восстания и выступления в Тверской губернии в конец 1917–1922 гг.
- «Центурионы» Ивана Грозного. Воеводы и головы московского войска второй половины XVI в.
- Северная Русь: история сурового края ХIII-ХVII вв.
- Генерал Иван Георгиевич Эрдели. Страницы истории Белого движения на Юге России
- Очерки истории Ливонской войны. От Нарвы до Феллина. 1558—1561 гг.
- Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826—1866 гг.
- Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг.
- Донское казачество позднеимперской эпохи. Земля. Служба. Власть. 2-я половина XIX в. – начало XX в.
- Крах политической доктрины императора Павла I, или Как нельзя управлять страной
- От Чернигова до Смоленска. Военная история юго-западного русского порубежья с древнейших времен до ХVII в.
- Загадка завещания Ивана Калиты. Присоединение Галича, Углича и Белоозера к Московскому княжеству в XIV в
- Посольство монахов-кармелитов в России. Смутное время глазами иностранцев. 1604-1612 гг.
- Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – середине ХV в.
- Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова. Вторая половина XV – начало XVII в.
- Русско-литовское пограничье
- «Князья, бояре и дети боярские». Система служебных отношений в Московском государстве в XV–XVI вв.
- Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. Противостояние командных кадров. 1917–1922 гг.
- От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье. IX– XII вв.
- Советское государство и кочевники. История, политика, население. 1917—1991
- Белорусские земли в советско-польских отношениях
- Полоцкая война. Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570
- Рождение Древней Руси. Взгляд из XXI века
- Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия
- Средневековая Москва
- Феномен Александра Невского. Русь XIII века между Западом и Востоком
- Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре
- Князь Иван Шуйский. Воевода Ивана Грозного
- Готы и славяне. На пути к государственности III-IVвв
- Генерал В.А. Сухомлинов. Военный министр эпохи Великой войны
- Служилые элиты Московского государства. Формирование, статус, интеграция. XV–XVI вв.
- Королевство Русь. Древняя Русь глазами западных историков
- Междукняжеские отношения на Руси. Х – первая четверть XII в.
- Владимир Мономах. Между историей и легендой
- Московское царство. Процессы колонизации XV— XVII вв.
- Генерал Деникин. За Россию, Единую и Неделимую
- Казачество и власть накануне Великих реформ Александра II. Конец 1850-х – начало 1860-х гг.
- Воздушный фронт Первой мировой. Борьба за господство в воздухе на русско-германском фронте (1914—1918)
- Московский поход генерала Деникина. Решающее сражение Гражданской войны в России. Май – октябрь 1919 г.
- Казаки на «захолустном фронте». Казачьи войска России в условиях Закавказского театра Первой мировой войны. 1914—1918 гг.
- Иван Грозный. Начало пути. Очерки русской истории 30–40-х годов XVI века
- Петр Столыпин. Последний русский дворянин
- На границе Великой степи. Контактные зоны лесостепного пограничья Южной Руси в XIII – первой половине XV в.
- Военная разведка Японии против России. Противостояние спецслужб на Дальнем Востоке. 1874-1922
- Битва на Калке. 1223 г. Русские княжества накануне монголо-татарского нашествия
- СССР и Гоминьдан. Военно-политическое сотрудничество. 1923—1942 гг.
- Главные люди опричнины: Дипломаты. Воеводы. Каратели. Вторая половина XVI в.