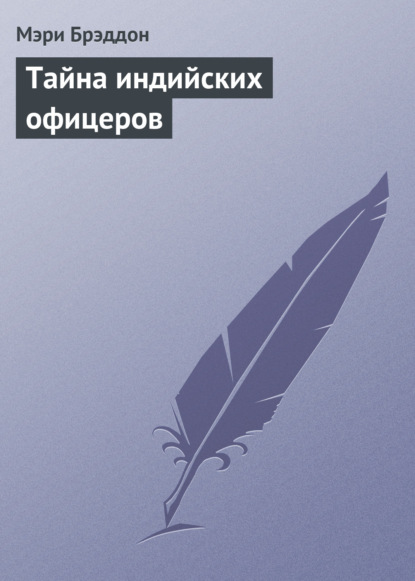The Lady Lisle (1862)
I. Через восемь лет
Заходящее осеннее солнце золотило массивные стволы деревьев, венчавшие вершину одного из косогоров графства Суссекс.
Издали доносился глухой ропот морских волн, который смешивался с жалобным стоном сентябрьского ветра. По узкой тропинке на вершине косогора ходила взад и вперед молодая женщина в трауре, не сводя глаз с пылающего небосклона и блестевшего красноватым светом моря. Между кустами бегал мальчик лет семи, лишь иногда останавливаясь, чтобы сорвать желтые цветы, которые уже через пять минут топтал ногами. Из труб хижин, теснившихся в долине, поднимался дым, оживляя этот суровый ландшафт. На извилистой дороге, ведущей к горе, стоял небольшой фаэтон, запряженный парою резвых лошадок, ожидая гуляющих на вершине людей. Экипаж был тут около часа, а груму уже надоело ходить вокруг него и прислушиваться к полету куропаток да к изредка раздававшимся в лесу выстрелам какого-нибудь охотника.
– Когда ты поедешь домой, мама? – спросил ребенок, подбегая к матери.
– Скоро.
– Я так устал…
– Мой Руперт!
Молодая женщина нежно положила руку на плечо мальчика, продолжая всматриваться туда, где солнце исчезало за морем.
– Дитя мое, доктор Персон говорит, что тебе нужно больше двигаться, поэтому-то я и привезла тебя сюда. Побегай еще, мой милый… побегай.
– Я не люблю бегать… Давай, мама, играть в лошадки.
Мать глубоко вздохнула и, покрепче стянув шаль вокруг талии, приготовилась выполнить просьбу ребенка. Это была женщина довольно высокого роста, но очень деликатного телосложения, причем поразительно хорошенькая. Ее большие, ясные голубые глаза были прекрасны, хотя им и недоставало выразительности, а маленький тонкий носик, рот, который далеко не свидетельствовал о силе характера, и длинные светло-русые волосы делали ее весьма привлекательной, хотя строгий ценитель мог бы сказать, что такое лицо скорее подошло бы кукле, чем одушевленному существу. Молодая женщина еще сильнее стянула шаль, завязала ее концы и, вручив их сыну, начала бегать по косогору, в то время как мальчик погонял ее слабым, визгливым голосом – он называл это игрой в лошадки.
Она бегала довольно медленно, но все же достаточно живо для того, чтобы ребенок был доволен. Вскоре, однако, у нее перехватило дыхание, она остановилась и прижала свои маленькие, обтянутые перчатками руки к сильно бьющемуся сердцу. Мальчик продолжал дергать концы шали.
Вдруг прямо перед ней на тропинке показался мужчина, которого она не видела вот уже восемь лет. Лучи угасающего солнца освещали его смуглое бледное лицо, отражались в карих глазах, и огромная тень легла на склон холма.
– Капитан Вальдзингам! – в ужасе воскликнула молодая женщина.
– Леди Лисль, – сказал новоприбывший, снимая шляпу.
Осенний ветер взметнул пряди черных волос капитана и бросил их на его низкий лоб. Он был красив, но его мрачная красота носила весьма своеобразный характер: правильные, но резкие черты лица, смуглая кожа, а карие глаза казались совершенно черными из-за густых и темных ресниц. Высокого роста, широкоплечий и сильный, он опирался на трость с золотым набалдашником. Встреча эта, очевидно, не удивила его, и на его лице не отражалось ничего, кроме легкого оживления.
После минутного молчания он проговорил:
– Я прочел в одном журнале, что он умер.
Леди Лисль кинула на него полуудивленный-полуиспуганный взгляд и пробормотала:
– Я думала, что вы в Индии.
– Я прочел в газете о его смерти. Я пил пиво и играл в бильярд в одном из калькуттских клубов, когда один из друзей подал мне какую-то английскую газету, и, хотя я редко читаю прессу, начал ее листать. Таким-то образом я и узнал о смерти сэра Реджинальда Лисля, владельца Лисльвуд-Парка в графстве Суссекс, двадцати девяти лет от роду… На другой день «Дольгуз» поднял паруса, и я отправился вместе с ним.
– Так вы меня лю…
– Я всегда любил вас… а теперь люблю еще более прежнего.
Он схватил маленькую ручку леди Лисль и прижал ее к губам, но мальчик снова начал дергать мать за шаль и громко закричал:
– Кто этот господин, мама, и почему он целует твою руку? Почему он говорит, что любит тебя, ведь он не мой бедный папа!
Капитан Вальдзингам наклонился к мальчику и внимательно посмотрел на него, повернув к свету его бледное, болезненное личико.
– Вы похожи на вашу маму и лицом, и характером, сэр Руперт Лисль, – произнес он. – И поэтому мы будем хорошими друзьями, и я буду играть с вами в лошадки.
– Тогда я буду любить вас, – ответил ребенок.
– Вы удивились, увидев меня, леди Лисль? – обратился капитан к молодой женщине. – А между тем мой приезд объясняется вполне естественными причинами. Я прочел, что сэр Реджинальд умер, и на другой же день отправился в Англию. Прибыв в Довер, я навел справки и узнал, что вы все еще живете в Лисльвуде. Я поехал к вам, даже не заглянув в Лондон. В замке мне сообщили, что вы отправились кататься на пони… Ну я и пошел прямо сюда.
– Почему же именно сюда?
– Как, вы не догадываетесь?.. Потому что мы расстались на этом самом косогоре, и тоже в сентябре, восемь лет тому назад… Я решил, что вы иногда посещаете это место.
– Вы будете жить с нами, в замке?
– Нет, я остановлюсь в гостинице «Золотой Лев», но буду ежедневно приходить в парк. Если же я остановлюсь у вас, это может стать предметом сплетен.
– Вы правы.
Ей так редко приходилось принимать решения – обычно их принимали за нее, – что ее постоянно было нужно наталкивать на самые простые мысли.
– Я видел на дороге ваш экипаж и узнал ливрею дома Лисль, – продолжал Вальдзингам. – Не подвезете ли вы меня?
– Подвезем… Если хотите бывать у нас, то запомните: мы обедаем в семь часов. Теперь, должно быть, уже более семи, но я почти всегда заставляю себя ждать… Идем, Руперт.
Она взяла мальчика за руку, и все трое начали спускаться с горы.
– Вы говорили, что рады видеть меня, – вдруг сказал он, ударив тростью по ветвям деревьев, – а между тем в вас вовсе не заметно радости.
– Вы испугали меня! Вам бы следовало предупредить меня письменно о вашем приезде… я ведь слабая женщина.
– Это верно, – ответил капитан со странной, почти презрительной улыбкой. – У вас всегда было слишком мало сил… и для борьбы, и для страданий. Простите меня, леди Лисль, одному Небу известно, коренится ли причина этого в вашей душе, или в вашем теле. Порой я даже спрашивал себя: а есть ли у нее душа?
– Вы по-прежнему жестоки, Артур, – проговорила она, и ее большие голубые глаза наполнились слезами.
– Прикажите вашему сыну идти к экипажу, а мы с вами немного пройдемся.
Леди Лисль выполнила его просьбу, и мальчик бросился бежать к фаэтону, на козлы которого и вскарабкался, сев рядом с грумом.
– Клэрибелль, – начал капитан, волнуясь, – знаете ли вы, что в течение всех тех лет, что провел вдали от вас, в Индии, я молил Бога послать нам эту встречу? Грешная просьба, не так ли? Она равносильна просьбе о смерти человека, который никогда не делал мне зла. И все-таки она услышана… может быть, к моему несчастью… Это была молитва страстно любящего человека – сумасшедшего, отчаянного, ослепленного, так молятся разве только язычники. Сколько раз говорил я самому себе: «Если даже она будет нищей и я встречу ее на улице или если она будет лежать на больничной койке, покинутая и презираемая всем светом, я и тогда женюсь на ней… женюсь, где бы и какой бы ни нашел ее». И это так же верно, как то, что свет нисходит с неба… В течение восьми лет повторял я эту молитву и этот обет. Бог внял моей мольбе – и вот я снова здесь.
– Сэр Реджинальд был для меня хорошим мужем, – только и ответила леди Лисль на это страстное признание, – и я всегда старалась исполнять мой долг по отношению к нему.
– Да, да, Клэрибелль, я верю этому. Вы так же исполнили свой долг и по отношению к вашей тетке и вашим опекунам, безжалостно разбили мое сердце и изменили данному мне слову, чтобы стать женою сэра Реджинальда Лисля.
– Я так мучилась тогда… мне наговорили столько ужасных вещей…
– Ну да, вам говорили, что я влюблен в ваше богатство, не так ли? Говорили, что бедный индийский офицер добивается руки сироты, дочери богатого негоцианта, единственно ради миллионов, оставленных ей ее отцом. Вот что напевали вам, и вы, зная меня лучше, чем кто-либо, зная искренность моей любви к вам, могли верить этому, Клэрибелль!
– Я боялась полагаться на собственное суждение…
– Да, леди Лисль, и это было самой серьезной ошибкой в вашей жизни.
Он вновь взял ее нежные пальчики в свои сильные руками и посмотрел на нее долгим взглядом.
– Великий Боже! – воскликнул он. – Как я мог строить свое счастье на такой слабой, такой зыбкой основе! Что же удивляться, что все рухнуло? Бедная моя Клэрибелль! Вы такое хорошенькое существо, но такое ломкое и бездушное… скорее можно положиться на эти гиацинты, чем на вашу нежность и постоянство.
– О, как вы жестоки, Артур!
– Вы находите? А помните вы еще сентябрь восемь лет тому назад? Кто был тогда жестоким, Клэрибелль? Мы были здесь… О, как живо представлялась мне иногда вся эта печальная сцена и как тоскливо сжималось мое сердце при этом воспоминании! Ужасные, почти невыносимые нравственные пытки! Каждую ночь в течение многих лет видел я во сне этот косогор и малейшие подробности нашего грустного расставания. Я слышал шелест вашего шелкового платья, цеплявшегося за кусты, чувствовал легкое прикосновение вашей маленькой ручки к моей руке, видел ваши слезы… в ушах моих звучали ваши отчаянные, терзавшие мою душу слова, которые вам было так же тяжело произносить, как мне – слушать. Во сне я прижимал вас к сердцу, как при прощании, а после этого просыпался, чтобы смотреть на звезды сквозь крышу шатра и слушать завывание голодных шакалов.
– Я тоже много страдала… я страдала не меньше вас, – сказала Клэрибелль прерывающимся голосом.
– Нет, Клэрибелль, ошибаются те, кто думает, что женщина страдает так же, как мужчина. Она страдает, глубоко переживая свое несчастье, и часто сильное горе действует на нее самым благодатным образом, изменяя ее к лучшему. С мужчиной же не так: видя свои надежды разрушенными, потеряв цель в жизни, он поворачивается спиной к несчастью и начинает искать себе развлечение в обществе… Я не стану объяснить вам, леди Лисль, какое широкое значение имеет слово «развлечение», единственно хочу сказать вам, что восемь лет назад я был достоин вас, а сегодня – недостоин.
– Следовательно, вы не любите меня больше? – спросила она.
– Люблю, Клэрибелль, люблю, сердце мое не способно полюбить другую. Я встречал женщин прекраснее вас и более достойных любви, но в своем безумии, к моему несчастью, я не смог забыть вас, не мог разлюбить… Я проклинал вас за вашу бесхарактерность, презирал за измену, но в течение восьми лет, полных горя, труда и отчаяния, я ежедневно признавался самому себе, что все еще люблю вас. Скажите, я заслуживаю хоть какого-нибудь вознаграждения? Вы теперь вполне самостоятельны, тетка ваша, которая имела на вас такое сильное влияние, давно умерла. Опекуны ваши не имеют больше над вами никакой власти, Клэрибелль. И я спрашиваю вас теперь, когда вы свободны, на том же месте, где вы оставили меня восемь лет тому назад в таком отчаянии: хотите ли вы исполнить обеты вашей молодости?
Леди Лисль несколько минут молчала, а потом прошептала, вытирая слезы, которые с самого начала этого разговора катились по ее лицу:
– Да, Артур, если это может составить ваше счастье.
Она произнесла эти слова скорее под влиянием какого-то страха, чем подчиняясь чувствам. Артур обнял ее, прижал к себе и поцеловал в лоб, а затем молча довел до экипажа.
– Мама, мама! – своим слабым голоском закричал ребенок. – Я тебя заждался. Я очень голоден, и уже становится темно, а Брук устал рассказывать мне сказки.
– Потому что вы слышали их уже много раз, сэр Руперт, – почтительно заметил грум.
– Так Брук рассказывает вам сказки, сэр Руперт? – весело спросил капитан. – Вероятно, он рассказывал о Джеке, убийце великанов и мальчике-с‑пальчик? Я думаю, будет недурно, если я расскажу вам какую-нибудь индийскую сказочку.
– В таком случае я буду вас любить и желать, чтобы вы стали моим новым папой!
– Садитесь, сэр Руперт, – сказал Брук. – Теперь восемь часов, а вам пора кушать.
Легкий фаэтон быстро покатил по дороге и уже через полчаса оказался у ворот Лисльвуд-Парка, одного из самых больших и красивых поместий графства Суссекс.
Маленький баронет был в восхищении от своего нового знакомого и до позднего вечера не давал ему уйти, требуя все новых и новых сказок. Но как только часы пробили девять, в гостиной появилась важная, чопорная гувернантка и уговорила сэра Руперта, хоть и с величайшим трудом, следовать за ней в его комнату.
– Вы балуете своего сына, – заметил капитан, когда мальчик ушел.
– А как же иначе? Мне некого больше любить.
– Он очень милый малыш, но слаб телосложением.
– Да, он не слишком крепок, и это одна из причин, почему я позволяю ему делать почти все, что он захочет. Доктора утверждают, что ему не следует противоречить, поскольку он чрезвычайно впечатлителен.
– Он умный мальчик?
– О нет, я не думаю, что он обладает ясным умом, – ответила леди Лисль, поколебавшись, – он учится вяло, неохотно. Господин Мэйсом, пастор, ежедневно дает ему двухчасовой урок, и я опасаюсь, что он находит его слишком ленивым.
– Он когда-нибудь на него жаловался?
– Да, жаловался несколько раз, – проговорила леди Лисль задумчиво.
– Это ничего не значит, Клэрибелль, Руперт будет богат, и ему нет нужды становиться ученым. Это только нам, беднякам, осужденным на вечную борьбу за существование, необходимо развивать свой ум.
Капитан произнес эти слова с горькой улыбкой и, подойдя к камину, облокотился на него и устремил взгляд на огонь. Пламя озарило его смуглое лицо каким-то фантастическим светом, засверкало в грустных черных глазах и резче обозначило строгие очертания красивого рта, полускрытого усами, которые он то и дело разглаживал рукой. Леди Лисль, сидевшая по другую сторону камина за маленьким столом, пристально смотрела на него.
– Вы изменились, капитан, – сказала она наконец.
Он пожал плечами, подтолкнул концом сапога уголья и после короткой паузы спокойно произнес:
– Так вы находите, что я изменился? И очень изменился?.. Удивительно ли это после того, как я провел восемь лет в Индии? После того, как я восемь лет пил эль и водку… упражнялся на бильярде, играл в кости, в экартэ, в различные азартные игры, в крикет… совершал набеги на неприятеля, охотился на вепрей и тигров, ссорился, заводил любовные интриги… О леди Лисль! Мне кажется, уж лучше не вспоминать все свои деяния: они могут не прийтись вам по вкусу.
– Артур, – сказала Клэрибелль, рассеянно накручивая длинные золотистые локоны на свои беленькие пальчики, – знаете ли вы, что вы стали настоящим медведем?
– Медведем! – насмешливо повторил капитан. – Только эту перемену вы и видите во мне после восьми лет разлуки? Обращение мое уж не такое вежливое, голос мой стал грубым, я говорю дерзости и смеюсь прямо в глаза людям. Я сделался нервным, раздражительным, у меня несносный характер, и я не стараюсь понравиться окружающим, как делают люди благовоспитанные. Я обедаю в пальто и в цветной жилетке, я явился к женщине, восемь лет тому назад изменившей данному мне слову, в шесть часов пополудни и, не застав ее дома, отправился вслед за нею, нашел ее в пустынном месте и предложил ей выйти за меня замуж, меж тем как еще не истек год ее траура… одним словом, леди Лисль, вы правы: употребляя ваше же выражение, я стал медведем.
При этих словах он взглянул в зеркало, висевшее над камином, и откинул назад черные волосы. Леди Лисль не сводила с него полного недоумения взора, но не сказала ни слова. Его влияние на нее было огромным, и в ее обращении с ним проглядывала робость, вероятно, возникшая из сознания его силы и ее собственной слабости.
– Леди Лисль, – продолжал он, – я уже не кажусь вам таким, каким был восемь лет назад? А если я скажу вам, что я с тех пор стал во всех отношениях другим человеком?
– Артур!
– Взгляните на меня в зеркало… идите сюда, Клэрибелль, встаньте рядом со мною, и будем вместе изучать мое лицо. В нем нет каких-то особенных перемен: две-три едва заметные морщинки под глазами, несколько резких линий вокруг рта да смуглая кожа, ставшая такой под индийским солнцем. Великий Боже! Как мало отражает лицо внутреннее состояние человека, и каким иссохшим, старым, безобразным было бы мое, если б на нем отразились все пережитые мною душевные бури! А теперь посмотрите, как прекрасна моя маска, и удивляйтесь, как искусно умеет человек – эта величайшая из всех загадок – скрывать под нею свое истинное лицо!
– Артур, я отказываюсь слушать вас, если вы будете продолжать в том же тоне.
– Ах да, я ведь говорю медвежьим языком, не так ли? Я должен был бы лежать у ваших ног и рисовать самыми радужными красками картину моего восьмилетнего пребывания в Индии: как я, из любви к вам, никогда не пил двойной эль, как по той же причине не прикасался ни к игральным костям, ни к картам и как избегал общества женщин, чтобы мечтать о вашем хорошеньком личике. Это звучало бы приятно для ваших маленьких ушек, не так ли? Нет, Клэрибелль, я всего этого не скажу. Я медведь, как вы сами заметили, и потому буду говорить вам правду и одну только правду. Выслушайте же меня! Я ненавижу вас столь же, сколь и люблю, сердце мое разрывают две эти противоположные страсти, так что я даже еще не уяснил, которая из них привела меня к вам сегодня? Вы по незнанию восемь лет назад совершили убийство и теперь видите перед собой только дух сэра Артура Вальдзингама, которого вы тогда убили. По вашей милости и из-за вашей измены я стал игроком, пьяницей и развратником. Воспоминание о вас преследовало меня неотступно, и чтобы избегнуть этой пытки, я старался забыться в вине, в игре, в оргиях… Вот что я обязан сказать вам, леди Лисль, если уже я должен сказать вам что-нибудь.
– Артур, вы разбиваете мне сердце, – сказала Клэрибелль. Он отвернулся и закрыл лицо руками. – Артур, я обещала сделать все, что будет в моих силах, чтобы вознаградить вас за прошлое. Я обещала это, да? – повторила она, стараясь приподнять его голову своими маленькими руками.
– Да, да, вы добры, Клэрибелль. Вы даже обещали стать моей женой. О, моя возлюбленная, моя мучительница, моя дорогая и жестокая Клэрибелль!.. Пусть ужасное прошлое забудется раз и навсегда, и да не падет ни малейшая тень от него на эту прелестную головку!
Он приподнял ее прекрасные локоны и посмотрел на нее с нежностью, грустью и с глубоким состраданием.
– Клэрибелль, – начал он снова, – вы обещали быть моей женой: не раскаиваетесь ли вы в этом? Не страх ли вынудил вас сдаться на мою мольбу? Обдумайте это еще раз, моя дорогая, пока не поздно, скажите одно слово, и сегодня же вечером я оставлю этот дом, и через два дня снова буду на пути в Индию. Одно слово, Клэрибелль, и вы будете избавлены от меня навеки.
Она подняла на него полные слез глаза и, положив свои нежные пальчики на его широкую ладонь, проговорила чуть слышно:
– Никогда, никогда не любила я никого, кроме вас. Я поступила очень дурно, когда изменила данному вам слову и вышла замуж за сэра Реджинальда Лисля, но я была слишком слабой, чтобы противиться воле моих родных. Как часто сидела я с мужем напротив этого камина и думала о вас, пока не исчезали и эта комната, и лицо мужа… Я видела вас раненым на поле битвы или спящим в каком-нибудь мрачном, непроходимом лесу… видела вас одиноким, покинутым, больным, умирающим. Но слава Богу, вы здоровы и невредимы, вы вернулись ко мне и вы все еще любите меня!
– Люблю и буду любить всегда… Это мое безумие, Клэрибелль. Так вы выйдете за меня, чтобы ни случилось по Божьей воле дурного или хорошего?
– Да!
Она задрожала, взглянув опять на его мрачное лицо, и с ужасом повторила медленно его последние слова: «Дурного или хорошего».
II. Взгляд на прошлое
Почтенные жители Лисльвуда, что в Суссексе, вероятно, помнят, как восемь лет тому назад некий капитан Вальдзингам, служивший в индийской армии, приехал погостить к сэру Реджинальду. Быть может, в их памяти еще сохранились его свежее лицо, изящные манеры и воинственная осанка, не забыли они, конечно, и бряцанье его шпор, когда он проходил по длинной, дурно вымощенной улице деревни, свист хлыстика, который он так грациозно вертел в руках, и лоск его прекрасных черных усов (капитан служил в кавалерии), его добрую улыбку, с которой он обращался к детям, подбегавшим к нему, чтобы полюбоваться на бравого вояку и услышать его звонкий голос, когда он останавливался перед «Золотым Львом», ожидая прибытия лондонского дилижанса, или когда заходил к кузнецу или ветеринару, чтобы посоветоваться насчет своей лошади.
– Весьма благородный и любезный джентльмен, великодушный и откровенный, – говорили о нем жители Лисльвуда.
Помнят они также и о том, как он отчаянно, до безумия влюбился в мисс Клэрибелль Мертон – сироту и наследницу одного богатого негоцианта, жившую под опекой своей тетки – старой девы, сестры экс-ректора прихода. Добрые люди помнят об этой любви, потому что капитан Артур Вальдзингам, который вовсе не принадлежал к числу скрытных людей, тысячу раз угрожал застрелиться или утопиться, если любовь его будет отвергнута. Мартин, его слуга (превосходный малый!), сказал однажды служанке из «Золотого Льва», что он спрятал пистолеты своего господина и очень жалеет, что не может сделать то же с рекой. Капитан Вальдзингам выказал себя чересчур неосторожным и нескромным в своей любви к прекрасной наследнице со светло-русыми волосами, детскими манерами и с полнейшим отсутствием энергии и характера. Капитан возражал и протестовал, когда его обвиняли в том, что он ухаживает за нею только ради ее богатства, и просил отдать ее за него без всяких денег, а на ее миллион основать богадельню. Весь Лисльвуд знал повесть этой любви, чрезвычайно интересовался ею и сочувствовал страданиям капитана. О каждом тайном свидании, происходившем на широкой равнине или на косогорах, окружавших село, было известно всем без исключения. Каждый вечер, когда он проходил мимо сада ее тетки, чтобы видеть слабый свет лампы, пробивавшийся сквозь оконные занавесы, каждое письмо, украдкой доставленное горничной, гинея, которую кузнец по просьбе капитана рассек пополам и половинки которой вручил влюбленным, бурные сцены между капитаном и опекуншей мисс Клэрибелль – все это было предметом толков и пересудов в домах в Лисльвуде. Толковали об этом и молодые женщины, которые находили прекрасного капитана слишком завидным обожателем для этой «глупой, взбалмошной мисс» – так непочтительно отзывались они о мисс Мертон, толковали и старые женщины, которые утверждали, что капитан добивается единственно денег, присоединялись к этим толкам также холостяки с седыми головами, называвшие капитана сумасшедшим за его бурную и откровенную любовь. Одним словом, весь Лисльвуд в мельчайших подробностях обсуждал увлечение Вальдзингама, перемывая ему все косточки.
Думаю, что единственной особой, остававшейся абсолютно спокойной, была молодая героиня этой сентиментальной драмы. Клэрибелль Мертон не делала никаких признаний и не искала сочувствия. Никто и никогда не слышал, чтобы она устроила сцену, или упала без чувств к ногам своей неумолимой опекунши, или совершила опрометчивый шаг, отвечая на страстные послания своего обожателя. Да, она ходила на свидания на отдаленные косогоры, но все были уверены, что с ее стороны эти свидания имели самый безгрешный характер, и объясняли их тем, что капитан, бродя вокруг ее дома, видел, как она выходит оттуда, и следовал за нею. Словом, о мисс Мертон упоминали редко. Красивая, бледная, с длинными золотистыми локонами, которые, как ореол, окружали ее грациозно наклоненную головку, она каждое воскресенье приковывала к себе в церкви внимание всего Лисльвуда, но никто и никогда не замечал, чтобы ее лицо вспыхнуло или побледнело под жгучими взглядами Артура Вальдзингама, который с досады грыз переплет своего молитвенника. Он – небритый, с тусклым неподвижным взором – мог стоять все время, пока пели псалмы, опираясь на деревянную решетку, и со свирепым видом упорно смотреть на Клэрибелль, мог в самой середине проповеди выбегать из церкви, скрепя сапогами и звеня шпорами по каменным плитам храма, мог сколько хотел беспокоить прихожан и привлекать внимание воспитанников, так что они нередко невольно восклицали: «Негодный Вальдзингам!» – но, чтобы он ни делал, ему не удавалось нарушить незыблемое спокойствие мисс Мертон. По окончании проповеди, когда ректор благословлял присутствующих и народ начинал покидать церковь, мисс Клэрибелль выходила на кладбище и спокойно проходила мимо капитана, сидевшего на какой-нибудь могиле и смотревшего на нее в мрачном отчаянии. Если она нечаянно задевала его своим шелковым платьем, из-за чего он начинал трепетать всем телом, то как будто не замечала этого и в ее холодных голубых глазах не отражалось ни удивления, ни волнения, ни смущения, ни досады, ни любви, ни даже сожаления.
– Вы считаете меня сумасшедшим, потому что я до безумия люблю восковую куклу? – однажды вечером воскликнул капитан в Лисльвуд-Парке, когда выпил больше обыкновенного, и баронет с друзьями начали смеяться над его страстью. – Я знаю не хуже вас, что это глупость, простительная только школьнику, но этот вздор способен довести меня до могилы.
Однако, сколь бы много общего, как утверждали ее враги, ни имела мисс Мертон с теми прекрасными произведениями искусства с голубыми глазами и золотыми волосами, которые можно видеть в игрушечных магазинах, все же она была богатой наследницей и вдобавок прелестнейшей женщиной, вследствие этого обстоятельства или по причине сплетен, вызванных бешеной страстью капитана – но через шесть недель после появления в Лисльвуде индийского офицера, она, как говорится, вошла в моду. Будь она даже страшнее, чем смертный грех, это не помешало бы ей теперь выйти замуж за первого красавца околотка. Она могла бы выйти за самого богатого, даже если бы была бедна. Даже если бы она была идиоткой, некрасивой и горбатой, войдя в моду, она неизбежно должна была сделаться предметом восторга, удивления и поклонения. Чудесная перемена произошла неожиданно, вдруг, и кавалеры, которые прежде едва замечали ее, начали сходить с ума от желания жениться на ней – то есть не на ней, собственно, а на ее известности: им хотелось понежиться в лучах этой яркой планеты, попировать на чужом пиру. Мисс Мертон сделалась в Лисльвуде такой же знаменитостью, какой делается в Лондоне страшный преступник или человек, написавший роман о классовом устройстве общества.
Итак, мисс Клэрибелль Мертон стала центром внимания Лисльвуда, и через два месяца сэр Реджинальд предложил ей руку и сердце единственно из удовольствия отбить ее у другого, благодаря подстрекательствам тетки предложение это было принято. В это-то время на вершине косогора, носившего название Бишер-Рида, и разыгралась ужасная сцена. Не дождавшись капитана к обеду, из замка за ним послали его слугу Мартина, и тот нашел своего господина распростертым на мокрой траве в состоянии совершенного оцепенения. После этого Вальдзингам хотел вызвать на дуэль сэра Реджинальда, между соперниками вышла отчаянная ссора, которая закончилась только с отъездом капитана. Он оставил замок, пожелав баронету быть счастливым со своей бездушной невестой, и поскакал, как сумасшедший, в Индиа-Гуз – просить, чтобы его послали куда-нибудь, где враги отечества из жалости поспешили бы его прикончить.
В Лисльвуде судачили о том, была ли мисс Клэрибелль Мертон огорчена, что ей пришлось отвергнуть сумасбродного обожателя. Но, как всегда, лицо девушки не выдало ее тайн, оно было прекрасным, но абсолютно безмятежным. Она вышла замуж за сэра Реджинальда без любви, сделав это так же бесстрастно, как она брала уроки музыки, не имея слуха, и училась рисованию, не обладая эстетическим вкусом. Она выполняла все, что ей предписывали делать. Она вышла бы и за капитана, прикажи он ей сделать это, так как не была в состоянии противиться силе, если б не противодействие тетки, которая издавна имела над нею неограниченную власть. Она полностью зависела от тех, кто руководил ею, смотрела их глазами, думала их умом и употребляла в разговоре только их выражения. Капитан мог быть совершенно искренним в своей любви к ней, но если ее тетке было угодно выставить его обманщиком, то и мисс Клэрибелль начинала сомневаться в нем. Она говорила ему своим тихим, нежным голосом тысячу несправедливостей, которые были простым повторением слов ее опекунши. Ее можно было сравнить с кораблем без руля и якоря, отданным на произвол изменчивого ветра, и не успел еще капитан, отправляясь в Индию, достичь Мальты, как крестьянские дети уж усыпали цветами путь, по которому должны были идти из церкви сэр Реджинальд и леди Лисль.
Прошло без малого восемь лет с того прекрасного октябрьского утра, в которое Клэрибелль Мертон стала женой молодого баронета, когда сэр Реджинальд Мальвин Бернард Лисль вновь стал главным действующим лицом в другой церемонии в той же сельской церкви. Эта церемония проходила без всякого блеска и шума: тело молодого человека покоилось в гробу под тяжелым бархатным покровом, обитом черным сукном и украшенном серебряными гербами и рельефными инициалами, который несли благороднейшие сыны Лисльвуда. После этого на кладбище возле испещренных стихами статуй кавалера Мармэдюка Лисля, почетного камергера ее величества королевы Елизаветы, и Марты, его супруги, стоявших в коленопреклоненной позе друг против друга, появился новый надгробный памятник из дорогого мрамора. Этот памятник свидетельствовал о том, что под ним погребен прах последнего баронета Реджинальда Мальвина Бернарда, сына Оскара. Сэр Реджинальд умер от наследственной болезни, которая преждевременно свела в могилу большинство членов рода Лисль. В продолжение трех поколений глава этого дома умирал по достижении тридцатилетнего возраста, оставляя после себя единственного сына – наследника титулов и богатства. Если бы сэр Реджинальд умер бездетным, баронство наследовал бы один его дальний родственник, любитель музыки и живописи, живший в Неаполе, но сэр Реджинальд последовал примеру отца и деда, оставив шестилетнего сына, бледного и нежного, очень похожего на мать и нравственно, и физически. Сэр Реджинальд и леди Лисль не были несчастны в браке. Супруг любил спорт, лошадей, собак, стрельбу в цель и конные прогулки – все те развлечения, которым так охотно предаются джентльмены, имеющие много денег и не имеющие никаких дел. У него была ферма, и он начал применять на ней новые системы земледелия, что потребовало громадных расходов и в результате и не дало ничего, однако эти попытки занимали его, и он заставлял молодую жену ходить с ним через вспаханные поля и сенокосы в дождь и жестокий зной, против чего она не протестовала.