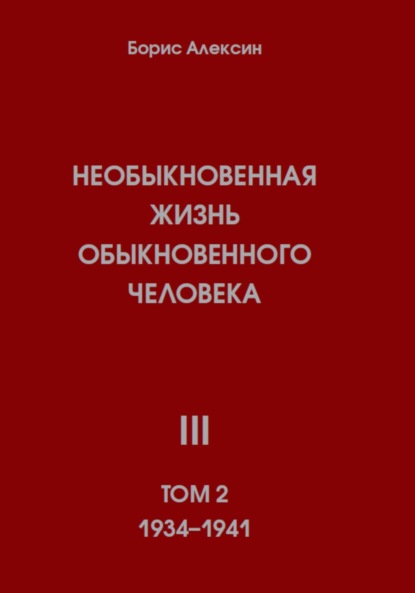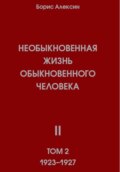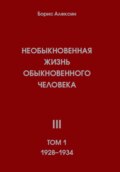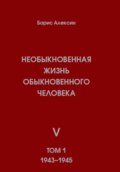Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 2
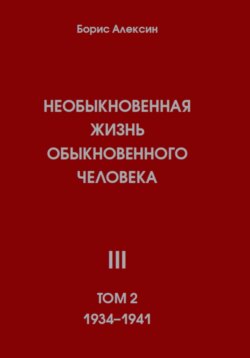
000
ОтложитьЧитал
Кроме лаборатории, довольно значительное место в лечебной работе Алёшкина занимало наблюдение за онкологическими больными. Таких пациентов, главным образом с запущенными случаями рака желудка и молочной железы, к моменту приезда в Александровку Бориса имелось семь человек. Все они лежали в своё время в больнице, но так как активному лечению не подлежали, то были выписаны для амбулаторного наблюдения на дому. К ним приходилось ходить не менее двух-трёх раз в неделю, осматривать, выписывать необходимые медикаменты и перевязывать. Так как медсёстры больницы были загружены, то эту работу брал на себя или фельдшер Чинченко, или сам Алёшкин.
Кроме сочувствия к тяжело страдающим больным, тем более что некоторые из них по характеру своего заболевания очень напоминали Борису его бабусю, он испытывал чувство огромного стыда и обиды за врачебную науку, за своё бессилие перед этой страшной болезнью. Он теперь хорошо представлял себе, как болела и страдала и его так рано ушедшая из жизни мать. Посещение этих больных было тем более ужасно, что многие из них уже знали, чем они болеют, знали о своей обречённости и просили не об излечении, а о том, чтобы приходивший к ним доктор, хоть немного, хоть ненадолго, облегчил те неимоверные страдания, которые они испытывали.
Конечно, Борис Яковлевич без колебания применял доступные ему средства обезболивания, а это был морфий и его препараты.
После возвращения из Москвы Алёшкин, по примеру клиники Вишневского, стал и в своей больнице раз в неделю проводить совещания медиков, на которых разбирались происшедшие в течении недели ошибки и недостатки в работе, выслушивались жалобы и претензии медиков по тем или иным вопросам. Борис Яковлевич рассказывал о тех задачах, которые ставились перед врачебным участком на следующую неделю. Иногда на этих совещаниях зачитывались письма, получаемые из райздравотдела.
После первого же посещения онкологических, или, как их тогда обычно называли, раковых больных, Борис потребовал от всех, кто вёл приём в амбулатории, в здравпункте, в роддоме и посещал заболевших на дому, самого серьёзного выявления всех случаев, подозрительных на рак, и направление таких больных к нему. В течение первого полугодия 1941 года удалось выявить двух женщин с подозрением на рак молочной железы. Они были направлены в г. Нальчик, там прооперированы и вернулись в Александровку с благодарностью к медикам станицы. За время лечения в Нальчикской республиканской больнице, женщины успели насмотреться на большое количество запущенных случаев этой болезни и поняли, что ожидало их, если бы лечение не было начато своевременно.
Был выявлен один случай рака желудка, пациента также направили для лечения в Нальчик, но его судьба Алёшкину осталась неизвестной.
Ну и, конечно, самым любимым и самым главным, что Борис считал в своей работе, оставалась хирургия. До открытия хирургического отделения Алёшкин приспособил для производства простейших операций свой маленький процедурный кабинет. Инструментарием, с учётом того, что Борис приобрёл в Москве, он был обеспечен в достаточной мере, но все операции (чистые и гнойные) ему приходилось делать в этой крошечной процедурной. Не хватило смелости проводить в ней полостные операции, но и без того работы было хоть отбавляй, ведь на долю врача участка, помимо всяких абсцессов, панарициев, маститов и тому подобных заболеваний, приходилось и большое количество травм, всевозможных резаных и рваных ран, ушибов, вывихов и переломов. Большинство этих травм ранее отправлялись в Майское или Муртазово. Из-за отсутствия транспорта пострадавшие, как правило, получали помощь с опозданием, что приводило к значительным осложнениям. Из-за этого такие травмы часто лечились домашними средствами, которые иногда приводили к тяжелейшим последствиям.
Главным специалистом по переломам и вывихам в Александровке был признан старик Евсей, работавший сторожем колхозного сада. К нему для вправления костей иногда приезжали даже из Майского. На первых порах он составлял серьёзную конкуренцию Алёшкину, но уже через два-три месяца после того, как Борис успешно вылечил открытый перелом большеберцовой кости у одного тракториста, слава деда Евсея пошла на убыль, и пострадавшие стали активнее обращаться к доктору.
Из этого периода времени Борису запомнился один особенно трагический случай. Однажды вечером в начале апреля, в субботу, Борис и Катя собрались идти в заводской клуб – привезли какую-то новую картину. Дети были выкупаны, накормлены и чинно сидели на крылечке. Эла читала вслух «Сказку о царе Салтане» Пушкина, а младшие, подперев кулачками щёчки, были целиком поглощены описываемыми событиями и, глядя на сестру блестящими глазёнками, временами вскрикивали от возмущения и испуга, иногда хлопали от восторга в ладоши и раскатисто хохотали. Нюра сидела возле них и тоже была увлечена сказкой. Поцеловав ребятишек, Катя сказала:
– Пошли, Борис, хоть один вечер побудем вместе, а то за последнее время я тебя и видеть перестала. Отвыкну ещё, пожалуй, – улыбнулась она.
– Так я тебе и дам отвыкнуть! – возмутился супруг. – Только попробуй!
С этой шутливой пикировкой они спустились во двор. В этот момент открылась калитка, и в ней показалась запыхавшаяся испуганная санитарка:
– Ой, Борис Яковлевич, идите скорей в больницу! Там раненую девчонку привезли, вся голова в крови. Они её дома полотенцем обмотали, так оно всё промокло…
Борис взглянул на жену и, разведя руками, сказал:
– Ну, видишь, Катя, ничего не поделаешь, надо идти в больницу. Посмотрю, что там такое, перевяжу и приду в клуб. Ты пока иди одна. Предупреди контролёра, что я подойду.
Катя нахмурилась, но, понимая, что её Борька иначе поступить не может, ответила:
– Одна я не пойду. Пойдём вместе в больницу, ты окажешь больной помощь, и оттуда отправимся в клуб. Времени ещё достаточно, не опоздаем.
Весь этот разговор происходил уже по пути в больницу, куда Алёшкин и его жена шли быстрыми шагами, почти бежали. Санитарку Борис отправил за медсестрой Нюсей, которая, кроме дежурства по больнице, исполняла обязанности и операционной сестры. Делала эту работу она с охотой и становилась для хирурга всё более полезной помощницей. Нюся довольно быстро усвоила действия сестры во время операции, хорошо выучила названия инструментов и, хотя ещё самостоятельно не могла предугадать, какой из них понадобится в данный момент, но по просьбе врача быстро разыскивала нужное на инструментальном столике и правильным образом подавала в протянутую хирургом руку.
Придя в больницу и надев халат, Борис зашёл в женскую палату, где временно положили пострадавшую. На веранде сидели её родители, которые успели рассказать появившемуся врачу, что произошло с их дочкой. Они были на кухне, а дети – Юля 15 лет и Коля 12 лет – сидели в комнате. То ли ребята поссорились, то ли играли во что-нибудь, но только Коля внезапно схватил висевшее на стене охотничье ружьё и, направив его на сестру, крикнул:
– А вот я тебя сейчас застрелю!
Услышав этот возглас, отец бросился в комнату, но было уже поздно. Мальчик нажал на спусковой крючок, и ружьё, заряженное дробью, выстрелило. Дуло было направлено в сторону девочки, расстояние до неё – несколько шагов. После выстрела она упала, из её лица хлынула кровь. Испугавшийся мальчишка бросил ружьё и с криком выскочил на улицу. Вбежавший отец, увидев, что из левой половины лица дочери хлещет кровь, схватил висевшее на спинке кровати полотенце, обмотал им голову находившейся без сознания девочки, схватил её на руки и побежал в больницу, до которой идти было минут 10–15.
Дежурная медсестра, увидев окровавленную, бессильно свесившуюся голову девочки и кровь, продолжавшую сочиться из-под полотенца и тяжёлыми каплями падавшую вниз, велела положить пострадавшую на кровать и послала санитарку за Алёшкиным. Сама, не рискуя разматывать полотенце, положила сверху грелку, наполненную холодной водой.
Когда Борис вошёл в палату и увидел посиневшие пальцы рук девочки, понял, что произошло очень сильное кровотечение и, видимо, ранение было более серьёзным, чем полагал отец. Все ещё не снимая полотенца, хирург вместе с палатной сестрой перенёс раненую в перевязочно-операционную комнату и уложил её на перевязочный стол. Сняв с головы ребёнка полотенце, Борис увидел страшную картину. Весь заряд дроби угодил в левую половину лица девочки, был выбит глаз, вырвана щека. Часть кожи этой половины лица висела вокруг рваными лохмотьями, а сгустки крови, заполнявшие всю рану, видимо, закрывали носоглотку – она дышала с большим трудом. При виде этой раны у медсестры закружилась голова, на её помощь рассчитывать было нельзя. Нюся ещё не пришла, а раненая нуждалась в немедленном лечении. Нужно было обследовать рану, обработать её, остановить кровотечение и, конечно, хорошо было бы перелить кровь. О том, чтобы девочку куда-либо отправлять, не могло быть и речи.
Борис выслал из перевязочной еле державшуюся на ногах медсестру и, увидев на веранде Катю, крикнул:
– Надевай халат, иди сюда, будешь мне помогать, пока Нюся не придёт! А вы пошлите кого-нибудь за завхозом, быстрее!
К счастью, за прошедшее время в больнице уже привыкли к внезапному появлению больных с травмами, и поэтому в перевязочной были всегда наготове и стерильный материал, и инструмент. К тому времени, когда туда зашла Катя, Борис, вымыв руки, успел открыть бикс, стерилизатор и, расстелив стерильную простыню, раскладывал на ней необходимые инструменты. Увидев вошедшую и в нерешительности остановившуюся в дверях жену, он сердито крикнул:
– Ну, чего же ты стоишь? Мой руки сперва под умывальником, а потом вон в тазу с нашатырным спиртом. Да побыстрее, канителиться некогда!
Он умышленно говорил грубо и сердито, не давая опомниться жене. Борис очень боялся, что и эта его помощница потеряет присутствие духа или, чего доброго, упадёт в обморок. Но его Катя была молодцом, выполнив распоряжение мужа и вымыв руки, она подошла к столу. Он подал ей марлевую салфетку, велел вытереть руки, а затем – смоченный в спирте тампон:
– Катя, протри как следует пальцы и ногти, а затем смажь их йодом, надо быстрее начинать, девочка задыхается.
Пока Катя мылась и готовила руки, Борис успел набрать в шприц раствор новокаина и начал обезболивать края раны – торчавшие кровавыми лохмотьями мышцы щеки и скуловой области. Далее работать стало легче: у инструментального стола стояла Катя и, хотя она была бледна, вздрагивала, глядя на страшную рану, и при каждом всхлипывающем стоне раненой, однако все распоряжения мужа выполняла толково и быстро.
Убрав сгустки крови из полости раны и носоглотки пострадавшей, Борис увидел, что повреждена одна из крупных артерий лица, он её немедленно пережал зажимом. Кровотечение значительно ослабло, а после удаления сгустков и дыхание больной стало свободнее. Она продолжала оставаться без сознания.
Алёшкин приступил к обработке раны. Осторожно извлекая осколки костей и отсекая обрывки мышц и кожи, он обнаружил, что вся левая верхняя челюсть была разбита на мелкие осколки, левая скуловая кость и нижняя часть глазницы были раздроблены, глазное яблоко разрушено. Когда он заканчивал эту работу, то пришёл в ужас от величины раны: размеры её только теперь выявились в полном объёме. По существу, отсутствовала вся левая половина лица вместе с глазом. Только чудо могло спасти больную, да и то в том случае, если дробины не пробили заднюю стенку глазницы и не проникли в мозг, но даже и тогда состояние больной было бы почти безнадёжным. Затампонировав обработанную и переставшую кровоточить рану, бинтование её Борис поручил прибежавшей, наконец, Нюсе и Кате, а сам вышел на веранду.
Встревоженные, но ещё не знавшие всей опасности родители умоляюще смотрели на врача. Он не смог им сказать правды, но и обнадёживать их напрасно тоже не хотел. Поэтому тихо произнёс:
– Рана очень серьёзна и велика, постараемся сделать всё, что возможно.
– А она будет очень обезображена? – спросила мать.
Алёшкин внутренне вздрогнул: «Эх, о чём спрашивает эта женщина… Ведь сейчас решается вопрос совсем не о красоте, а о жизни её дочери», – подумал он и ничего не ответил.
В это время на веранду вошёл завхоз, Борис направился с ним в свой кабинет:
– Вот что, Василий Прокопыч, седлай нашего конягу и скачи в Муртазово. Пусть немедленно приедет сюда их районный хирург и невропатолог, а с собой возьмут хотя бы пол-литра крови первой группы. Скачи быстрее.
Проводив завхоза, Борис тяжело опустился на свой стул и закрыл глаза. Ему всё ещё виделась эта ужасная рана на лице девочки. Он мысленно определял те огромные разрушения, которые причинил злосчастный выстрел. Он не хотел об этом думать, но в глубине души понимал, что выжить после такого ранения девочка не сможет.
Таким, с бледным лицом, покрытым капельками пота, с закрытыми глазами и стиснутыми пальцами рук, лежавшими на столе, и застала его Катя, которая после того, как голову девочки забинтовали, вместе с Клавой перенесла и уложила её в чистую постель. Видя состояние, в котором находился муж, сердцем понимая, как ему тяжело сознавать своё бессилие, и догадавшись, что положение раненой почти безнадёжно, Катя тихонько сняла халат, подошла к Борису и, положив ему свою прохладную ладонь на лоб, тихо сказала:
– Ты, кажется, всё возможное сделал. Надо бы ещё врачей вызвать, может быть, что-нибудь можно ещё сделать? Я пойду на завод, и мы позвоним в Нальчик, вызовем специалистов оттуда…
– Я уже послал за врачами в Муртазово, они раньше успеют приехать. Но всё равно, пусть приедут и из Нальчика, – как-то безразлично ответил Борис.
– А потом я пойду домой, посмотрю, что ребята делают, уложу их. А ты ведь пока здесь останешься? – полуутвердительно-полувопросительно сказала она.
Борис поцеловал руку жены, открыл глаза и вдруг совсем неожиданно для неё сказал:
– Эй, Катеринка, Катеринка, зачем ты не работаешь медиком? Как бы мне с тобой славно работалось! Ну, хорошо, иди. Иди, звони, хотя, по-моему, это бесполезно, а потом иди к ребятам, да и сама ложись. Меня не жди, видишь, не могу…
Через два часа Василий Прокопыч привёз кровь, Нюся ещё раньше простерилизовала систему для переливания (она была приобретена Борисом в Москве). У них не было сывороток для определения группы крови, поэтому он не мог узнать, какая у пострадавшей, но первую группу, как известно, можно переливать всем.
Часов в шесть утра в больницу прибыли вызванные из Муртазова специалисты. Они не смогли добраться раньше, дело было в том, что село от станицы Александровки отделялось рекой Терек. Из-за бурного и неспокойного нрава этой реки, переправа через неё была очень затруднена, постоянного настоящего моста не существовало. Делался наплавной, из брёвен, связанных верёвками. По нему с трудом проезжали верхом и проходили пешком; на подводе, а тем более на машине, проехать было невозможно. Поэтому врачей на санитарной машине довезли до реки, а после того, как они переправились через Терек, до больницы им пришлось добираться пешком.
Прибывшие врачи – пожилые мужчины со значительным стажем работы и большим опытом славились в районе и, хотя лично их Алёшкин не знал, но слышал, что это очень хорошие специалисты. Ему приходилось уже пользоваться их консультациями по поводу больных, посылаемых из амбулатории. Заключения этих докторов всегда были ясными, точно определяющими диагноз заболевания и дававшими рациональные советы по лечению.
Внутренне Алёшкин был рад познакомиться с такими опытными медиками и, хотя всё-таки и побаивался их критики (ведь формально он мог просто замотать девочке голову бинтом и отправить её в Муртазово, не занимаясь обработкой на месте), но надеялся, что специалисты его поймут и действия одобрят. Он также надеялся, что они опровергнут его пессимистический прогноз, и, дав какие-нибудь дополнительные советы, помогут спасти жизнь раненой. К сожалению, этого не произошло.
Осмотрев девочку, хирург нашёл все действия Бориса Алёшкина правильными и даже немного удивился, что в сельской участковой больнице сумели настолько квалифицированно, как он сказал, обработать такое тяжёлое ранение. Он озвучил и то, о чём думал, но пока не решался произнести вслух Борис: ранение подобного характера несовместимо с жизнью.
Ещё более удручающим явилось заключение невропатолога, который пришёл к выводу, что повреждено мозговое вещество (очевидно, несколько дробин попало в мозг). Он удивился, что после такого серьёзного поражения больная не погибла на месте. Борису было очень тягостно это слушать. Это была его первая огнестрельная рана в практике. Много, очень много ему пришлось увидеть и лечить огнестрельных ран в будущем, причём не менее тяжёлых, чем только что описанная, но эту он не мог забыть никогда.
Консультанты, позавтракав в кабинете Алёшкина, сели писать своё заключение и рекомендации по лечению. Вопрос о транспортировке больной отпал сразу же. Её предстояло лечить здесь, в Александровке. Оба врача, одобрив действия Алёшкина, дали ему дополнительные советы и заявили, что вызывать для консультации каких-либо других врачей нет необходимости. Теперь остаётся ждать, как организм сумеет справиться с тяжёлым повреждением. Перед отъездом в Муртазово они пообещали связаться с Нальчиком и предупредить, что выезд специалистов не требуется. Напоследок ещё раз осмотрев пострадавшую и выйдя от неё, в один голос сказали, что часы жизни девочки сочтены. При осмотре присутствовал и Борис, он тоже видел это. Когда в больницу пришли родители раненой, он так им и сказал.
Действительно, муртазовские врачи не успели доехать до Терека, как девочка умерла. Несмотря на это, никто из родных, никто из жителей станицы ни одним словом не упрекнул врача. Все поняли, что и он, и остальной медперсонал больницы сделали всё, что могли.
В памяти Алёшкина сохранились и другие случаи травматологической помощи за этот период времени. Запомнил он, потому что они были первыми в его жизни или необычными, потребовавшими от него немало сообразительности, хладнокровия и, конечно, медицинской грамотности.
Оказывая помощь тому или иному пострадавшему, Борис не раз вспоминал как свою работу в клинике профессора Керопьяна в Краснодаре, так и замечательную учёбу у Вишневского в Москве. А травматических случаев было много. Так, в апреле один из колхозников упал с сеновала и грудью напоролся на стоявшие зубьями вверх железные вилы. В грудной клетке было две сквозных раны. К счастью, они прошли вдоль рёбер и не проникли в полость грудной клетки. Этот случай был удачно вылечен в Александровской больнице.
В марте в больницу поступил четырёхлетний мальчик, которому колесом телеги была сорвана вместе с волосами кожа головы примерно с третьей части черепа. После тщательной обработки, скальпированный участок кожи, державшийся на сравнительно узкой ножке, был пришит на место и, хотя избежать нагноения не удалось, тем не менее, через полтора месяца ребёнок поправился, и оторванный лоскут кожи прижился.
В середине мая в больницу попала внучка костоправа деда Евсея. Каким-то образом косой у неё были перерезаны икроножные мышцы. После перевязки крупных сосудов и сшивания мышц эта больная тоже поправилась, к началу июня уже смогла передвигаться и была выписана из больницы.
Все эти случаи приносили Борису Яковлевичу большое моральное удовлетворение и определённую известность как в самой станице и её ближайших селениях, так и в Муртазове, и во всём Майском районе.
Заведующая районной больницей в посёлке Майском, где пока так и не было хирурга, всё чаще и чаще ставила вопрос перед зав. райздравом Симоняном о переводе Алёшкина на работу к ним в районную больницу. Последний ничего менять не торопился, формально оттягивая решение вопроса до получения нового врачебного пополнения из выпуска 1941 года. Ну, а сам Алёшкин ехать на работу в Майское совсем не хотел, он всё более осваивался в станице Александровке, его жена приобрела уже весомый авторитет на заводе, дети были хорошо устроены. Климатические условия Александровки были отличными. Материальное положение семьи с каждым днём становилось всё более прочным. Помимо заработной платы – своей и жены, Алёшкины, как уважаемые в станице люди, почти самыми первыми получали все дефицитные товары из сельпо и со склада завода, причём без каких-либо усилий с их стороны. Кроме того, как это было принято в сельской местности, в том числе и в Александровке, выздоровевшие пациенты стремились чем-то отблагодарить врача за лечение. Благодарность эта выражалась, прежде всего, в подношении чего-либо натурой: сливочного масла, сала, яиц, курицы и т. п. Колхозник, раненый вилами, после своего излечения пригнал овцу. Борис Алёшкин и его жена Екатерина Петровна еле-еле сумели уговорить его забрать свой дар обратно. Вероятно, они многое из того, что им приносили, не брали бы, но их домработница Нюра, казачка, уроженка этой же станицы, подобной щепетильностью не отличалась, всё приносимое безотказно принимала, иногда даже не сообщая своим хозяевам о том или ином подарке.
Правда, поговорив с Матрёной Васильевной и фельдшером Чинченко, Борис выяснил, что приношения в знак благодарности здесь в порядке вещей, и отказ от них может даже обидеть дарителя, так как он решит, что врач слишком гордый и что принесённое ему кажется малым. После этого Алёшкины на подарки махнули рукой, но эти дары, конечно, улучшали материальное положение семьи.
Мы ещё не сказали об одной хирургической деятельности Бориса: кроме травм и различных гнойных заболеваний, ему пришлось сделать немало так называемых чистых операций – удаление самых разнообразных кожных и подкожных опухолей: атером, липом, фибром, хондром и т. п. Пациентов с такими опухолями в Александровке имелось очень много. Чинченко называл их все одним именем – жировики, и зная, что, как правило, они для жизни не опасны, успокаивал станичников, сравнительно редко посылая их на oперацию в Майское или Муртазово. Эти опухоли не тревожили больных, большинству они доставляли только косметические неудобства, что местных жителей не особенно беспокоило.
Первой пациенткой, у которой Борис Алёшкин удалил довольно крупную, величиной с куриное яйцо, липому на лопатке, была сестра Матрёны Васильевны – Надежда Васильевна. Операция прошла удачно, женщина не чувствовала боли, зашитая операционная рана быстро зажила первичным натяжением. Конечно, Надежда Васильевна о своей удачной операции рассказала своим знакомым, а их у неё в Александровке было немало. Да и сам Борис, видя подобную доброкачественную опухоль у кого-либо из своих пациентов, предлагал её убрать. В результате желающих оперироваться по этому поводу, набралось несколько десятков человек. Пришлось установить очерёдность, так как более двух-трёх операций в день в условиях станичной больницы делать было нельзя, а операционных дней больше двух дней в неделю выделить не удавалось.
Вот так, загружаясь работой по 13–14 часов в сутки, видясь с женой и детьми только рано утром и поздно вечером, Борис и проводил своё время. Почти все выходные дни он тоже вынужден был отдавать больнице, поэтому время летело быстро. Незаметно прошла зима, весна и началось жаркое южное лето.
Наступил июнь 1941 года.