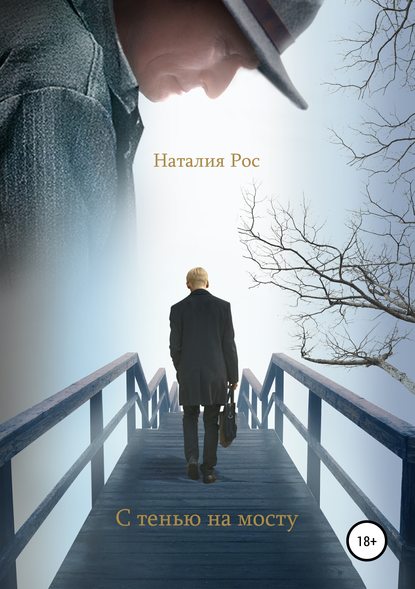002
ОтложитьЧитал
5
Всю ночь Орик жалобно подвывал и скулил, а я не мог заснуть. Тяжелое, щемящее чувство подсказывало: я сделал что-то плохое, нечто очень плохое. Дрожа от липкого, отвратительного страха, накрывшись с головой одеялом, я ожидал рассвета.
Утром, когда мы с Бахменом выгоняли стадо, Орик, как обычно, не суетился возле нас. Я нашел его в будке: он лежал и печальными глазами смотрел на меня. «Видно ты приболел, – сказал я и погладил собаку, – выздоравливай друг, вечером проведаю».
Я решил ничего не рассказывать Бахмену, поэтому на его вопросы, отчего я такой задумчивый, отвечал, что просто плохо спал, сны дурные снились.
– Обращай внимание только на сны, которые повторяются. Они важны, а остальное – это пустое, только голову морочат, – сказал он, улыбаясь и щурясь на осеннее теплое солнце. – Чай с травами и сухими ягодами, и все пройдет.
Когда я пришел домой, меня ждало плохое известие: мать сообщила, что днем Орик сдох, и отец закопал его. Я заплакал, я не мог поверить в это, ведь мой пес был еще слишком молод и еще день назад он был абсолютно здоров! И как же отец так мог поступить со мной? Это был мой лучший друг, я должен был его проводить в последний путь, а не кто-то другой. Моему горю не было предела. Я вышел из дома и пошел в сторону дома Ладо, по пути мне встретился его старший сын, Тито, который вез в небольшой деревянной телеге дрова. Обычно приветливый Тито на это раз был мрачен и неразговорчив. Он понял, что я по привычке снова иду к ним домой, остановился и сказал:
– Послушай, Иларий, ты хороший парень, но тебе не стоит к нам больше ходить. У нас из-за тебя могут быть неприятности. Извини, – он махнул рукой на прощание, давая мне понять, что мне больше не рады в его доме.
Но, побродив немного по пустырю, мои ноги все равно понесли меня в сторону их дома. Я сел возле старого тополя и глядел в их окна, откуда слышался веселый смех. «Наверное, они играют в «пожелайку», – подумал я, вытерев рукавом рубахи подступающие слезы.
Возвратившись домой и открывая входную дверь, я услышал громкие крики отца и инстинктивно втянул голову в плечи. Случилось что-то плохое, и интуиция подсказывала мне, что в этом был виноват я. На кухне стоял отец и, грозно размахивая руками, бранился на бледную мать, а брат сидел на лавке, вжавшись в стену. «Дело плохо», – успел подумать я до того, как отец, заметив меня, рявкнул:
– Кто тебя, мелкий подлец, научил шляться по чужим домам и жаловаться на свою жизнь? А?! Ты что себе выдумал? Можешь напеть какому-то остолопу грузину, и тебе жить станет лучше? Говори мне!
– Я ничего не говорил ему, – прошептал я, и тут же отец пересек в два шага расстояние до меня, схватил за плечи и начал трясти, как тряпичное огородное пугало, словно его целью было вытряхнуть всю солому.
– Не ври, щенок! Что ты ему говорил? Я хочу, чтобы все здесь знали, как ты поносишь свою семью перед чужими, неблагодарная ты падаль!
В моем плече что-то хрустнуло, и отец, словно этот звук удовлетворил его, отшвырнул меня к стене, и я упал, ударившись головой.
– Ты клянчишь у проклятого грузина помощи и очерняешь свою семью? – его глаза налились кровью, и я подумал, что он наверняка убьет меня. – Ты ублюдок, я кормлю тебя, даю тебе крышу над головой, ты ни в чем не нуждаешься, а ты оговариваешь отца?
– Я кормлю вас тоже, – тихо сказал я, и ужаснулся своему бесстрашию. «Пусть убивает», – промелькнула мысль. Разом мне все равно стало на свою жизнь, и я решил сказать все, что думал, и пусть что будет.
– Что? Что ты сказал? – прошипел он.
– Я говорю, что кормлю вас тоже. Каждый день пасу овец, выполняю тяжелую работу. За овец вы получаете деньги, и Богдан учится, ты покупаешь ему книги. И я… я не жаловался Ладо. Я спросил только, может ли он научить меня читать. Это все, что я хочу! Я буду пасти овец до тех пор, пока не состарюсь и умру, но я хочу уметь читать. Что в этом плохого? И моя собака… почему ты похоронил ее без меня? Это был мой пес, мой друг! Только я имел право его хоронить! Ты знал об этом и специально не дал мне возможности даже попрощаться с ним. Почему ты хочешь отобрать у меня все? Я и так выполняю все твои приказы, почему мне нельзя дать хоть немного из того, что ты дал Богдану? Почему ты меня так не любишь? – дикая злость, подступавшая к горлу откуда-то с глубин, затмила весь мой разум, и я уже ничего не соображал.
Отец подскочил ко мне, поднял с пола и отвесил мощную оплеуху, что я еще раз отлетел и упал. Следом последовала еще одна оплеуха, и еще одна. Он все поднимал меня, а я все отлетал и падал. Мать завыла, брат тоже что-то кричал, но я уже не слышал. Страшный звон колоколов стоял в ушах и разрывал мою голову, которая, как мячик прыгала в разные стороны. И каждый раз, когда рука отца со всей мощи била меня, я думал, что вот-вот сейчас наступит смерть, но я почему-то не умирал, гулко шмякался на пол и снова поднимался.
Из моего носа уже текла жидкая кровь, когда за спиной отца, нагнувшегося ко мне, чтобы снова поднять и ударить, я заметил старика. Он, сверкая глазами, смотрел на меня, а потом шагнул вперед.
– Я убью тебя, щенок, – прорычал отец, схватив меня за ворот рубахи. – Ты будешь делать то, что я скажу, если… – вдруг мускулы его лица подернулись, и он, выпучив безумные глаза, захрипел. Потом схватился за грудь, согнулся, шатаясь, дошел до стула и рухнул. Я тоже упал и, прислонившись головой к стене, закрыл глаза: «Старик в доме».
Несколько дней я провел лежа в кровати в странном, полусознательном состоянии: все тело болело и ныло, и я с трудом переворачивался в постели. Мне казалось, что все моя голова представляла сплошной раскаленный чугун, готовый лопнуть от боли, а левая рука плохо двигалась, заклинив где-то в том самом хрустнувшем плече. Мать приносила мне еду, обтирала голову мокрыми тряпками и, чуть посидев возле меня, уходила.
– Иларий, что же ты наделал? – сокрушенно качая головой, сказала она. – Ты же знаешь, что ему нельзя перечить? Ты молчал бы, и ничего не случилось бы. Ты только не сердись на него, он не такой уж и плохой. Он ведь старается. Посмотри, как другие живут? У нас-то и дом есть, и еда каждый день, и не нуждаемся ни в чем, а у других-то намного хуже. И ничего, что у него нрав тяжелый, ты только слушайся его и не серди, – приговаривала она, но я не хотел ничего и никого слушать. Я отвернулся лицом к стене, и мать ушла.
На день четвертый головная боль немного стихла, но я все еще был слаб и, вставая, чувствовал, как под ногами плывет земля. Я ожидал, что утром ко мне заглянет мать и принесет завтрак, но утром она не пришла, как не пришла и в обед, и я решил сам пройти на кухню и даже не знал как себя вести, если увижу там отца. Но на кухне я увидел брата, он сидел за столом ко мне спиной и смотрел на подоконник, где в горшке стоял распустившийся цветок.
– Ты живой и даже не так плохо выглядишь, как я думал, – сказал он как-то отстраненно, даже не посмотрев на меня.
– А ты разве не должен быть сейчас в школе? – спросил я, заглядывая в кастрюли в поисках приготовленной пищи.
– Я туда больше не пойду. Мне там не нравится.
– Что? – я несказанно удивился. – Неужели тебе отец разрешил это?
– Да, он совсем не возражает, – Богдан повернулся ко мне и сказал: – Можешь не искать еду, ее нет со вчерашнего дня.
И тут я только внимательно посмотрел на его лицо. Его обычно смуглая, пышущая здоровьем кожа, приобрела бледно-желтоватый оттенок, под глазами залегли плотные, синие тени, будто он не спал несколько дней, а на голове, среди волос, затаись подозрительно серебристые паутинки.
– Что с тобой? Ты заболел? – спросил я.
– С чего ты взял? Я отлично себя чувствую. Лучше, чем всегда.
– А где мама? С завтрака ничего не осталось?
– Она сказала, что ей надоело готовить.
Удостоверившись, что брат не обманывает, так как ни в одной кастрюле я не нашел остатков утренней каши, молока или супа, я взял с полки уже начинавший черстветь кусок хлеба и с удовольствием грызя его, пошел искать мать. Я нашел ее сидящей на заднем дворе. Она глядела на засохшие и почерневшие круги подсолнуха и тоже, как и брат, болезненно выглядела. Безразлично посмотрев на меня водянистыми, голубыми глазами, она подтвердила слова Богдана. Я, проглотив голодную слюну, и ничего не понимая, вернулся к себе на чердак.
На следующее утро я решил, что непременно, несмотря на слабость и боль, я должен выйти на пастбище. Спустившись на кухню, я разжег печь и поставил горшок с водой: нужно было сварить хоть что-нибудь – есть хотелось невыносимо. Мать утром не появилась на кухне, впрочем, как и отец с братом. Наспех поев недоваренную перловку с сухарями, я вышел на улицу встречать Бахмена. Он удивился, увидев меня с красноватыми подтеками на лице, и спросил, что со мной приключилось.
– Бахмен, я кое-что скрыл. Боюсь, с моей семьей происходит что-то плохое. Они все ведут себя странно и выглядят плохо, – не выдержав, сказал я и рассказал о встрече с таинственным стариком и том, что произошло после.
– Значит, ты, говоришь, впустил его в дом и теперь можешь читать? – спросил он, нахмурившись.
Солнце еще не выглядывало из-под серых туч, плотным покрывалом застеливших все небо. Легкий, чуть прохладный ветер раздувал длинную седую бороду Бахмена, когда мы погнали овец на холмы.
– Да, впустил, только я думал, что все будет по-другому. Я думал, что я такой же как отрок Варфоломей, а он святой, который творит чудеса. И я не знаю, умею ли читать, но в первый раз точно мог.
– Чудеса… – протяжно пропел Бахмен, задумавшись. – Иларий, ты хороший, добрый мальчик, но ты не отрок Варфоломей. Закон природы таков – нельзя ничего получить просто так, не отдав что-то взамен. Как мы взращиваем хлеб, отдавая за это свое время, силы, как птица ищет пропитание, взмахивая тысячи раз за день крыльями, так и ты должен был стараться и трудиться, чтобы постигнуть азбуку. Грамота никому никогда не давалась еще легко. Это тяжелый, нелегкий труд. За все нужно платить на этом свете. Это я сейчас, старый, толкую так. А когда я был такого возраста как ты, когда началась война на моей родине, моей семье пришлось бежать, и я столько много работал, что об учении и не мечтал. Я хотел только, чтобы на завтрашний день у меня был кусок хлеба. И я тоже, как и ты, если бы мне встретился чудной старик, пообещавший, что я никогда больше не испытаю страшного голода, от которого сворачиваются все внутренности, в обмен на кров, я бы тоже дал бы ему кров. Я бы тоже поверил… Вот, неискоренимая человеческая вера в чудо, в доброту незнакомцев… Это мне потом аукнулась моя вера в доброту людей, а пока беда нас не коснулась, все мы глупцы. Чудеса, чудеса, – повторил он, поглаживая бороду. – Ты пока не отчаивайся, авось, этот старик не тот, о ком я подумал.
– А о ком ты подумал?
– О джиннах. Это злые духи. Там, откуда я родом, их боятся. Говорят, они могут творить как добро, так и зло. Это все зависит от того, что им больше по душе будет. Надо признаться, что я в них тоже не верю. Все это не больше, чем слухи, но если допустить, что джинны существуют, то…
– Что то? – испугался я.
– А то, что ты пригласил его в дом. Дал согласие. Вы заключили сделку – дар в обмен на жилье. Значит, выгнать его нельзя. Да и как выгонишь джинна, того, кого нельзя увидеть, если он этого не захочет? Но ты не отчаивайся пока, надо понаблюдать, если он появится снова, то мы, авось, что-нибудь придумаем.
В холмах мы помянули нашего словного пса Орика, разделив скудный обед Бахмена.
Вечером, зайдя в пустую кухню, я обнаружил непривычный беспорядок: грязные миски лежали, нагромоздившись друг на друге, на полу валялась ложка с остатками каши, а самой каши, которую я сварил утром, уже не было. Я услышал шаги и обернулся. Мимо проходил отец, я так и не видел его с того самого дня. Он зашел, и я невольно вздрогнул. Вздрогнул, как и от страха, так и от того, в каком виде он предстал. Его всегда гладко выбритый подбородок покрывала жесткая поросль, а на висках проступила седина. Одежда выглядела крайне неопрятно, будто засаленная и испачканная в чем-то. И более всего пугающими были его глаза. Если бы в них я увидел привычный недобрый огонек или сухую жесткость, то я бы понял, что с отцом все в порядке. Но нет, в его глазах не было жизни, они были пусты, безразличны и будто меня и вовсе не было перед ним.
– Ну-ну, – сказал он надтреснутым голосом и вышел, шаркая ногами.
6
Обстановка в доме с каждым днем становилась все хуже. Мать изредка все же готовила что-то, но это было трудно назвать едой, но, впрочем, это не мешало отцу и брату поглощать без разбора ее стряпню. Всех перестали интересовать дела по дому. Отец не спрашивал ничего про овец, не заходил в сарай и загон, когда мы с Бахменом выгоняли и пригоняли стадо, не поехал в субботу на рынок продавать молоко и сыр. Мать перестала прясть пряжу, доить овец и убираться в доме. В воскресенье никто не пошел на службу. Дом пришел в запустение. Даже брат перестал меня дразнить и обзывать, он все чаще просто сидел, запершись у себя в комнате. Я пытался делать кое-какие дела по дому, но мои силы были ограничены. И я с ужасом понимал, что моя семья меняется не только внутри, но и внешне: у них странно заострились носы, а глаза будто впали, и вокруг них появились бороздки, характерные пожилым людям. Вечером, в понедельник, когда я зашел на кухню, чтобы приготовить еду, там сидела растрепанная мать, одетая в ночную рубашку, и смотрела на стол, поверх грязных, загромоздивших все, мисок.
– Мам, ты плохо выглядишь. Что с тобой? – спросил я.
– Со мной все хорошо, даже очень хорошо, – сказала она, едва улыбнувшись, и ее бледная кожа сморщилась. – Я переосмысливаю и готовлюсь.
– К чему готовишься?
– К новой жизни, – она посмотрела на меня так жутко, что я отстранился и, забыв про голод, убежал на чердак.
Мою семью поразила болезнь. Непростая болезнь. То, что в этом был замешан старик, я не сомневался, как и в том, что смерть Орика тоже была делом его рук.
Во вторник Бахмен зашел к нам. Отец не вышел с ним поздороваться, а только отвечал на вопросы неохотно, сидя в неосвещенной комнате. Когда он все же вышел, глаза Бахмена округлились, и он прошептал: «Не может быть».
– Иларий, плохо дело, плохо, – озадаченно проговорил Бахмен, когда мы вышли из дома. – Отец твой-то на старика становится похожим, да и разумом повредился, а ему-то всего, насколько я знаю, нет и сорока. Это джинн здесь постарался. Ну и дела, в жизни ничего подобного не видел, а тут такое, – забормотал он. – И как же дурно в доме твоем находиться, будто дышать нечем, – он расстегнул ворот рубахи.
– А что же делать, Бахмен?
– Я подумаю, мой друг, подумаю, – он закашлял и, ободряюще похлопав меня по плечу, спешно поковылял домой.
«Он сам не знает, чем помочь», – подумал я и, тоскливо окинув взглядом свой дом, мрачный, залитый будто чернилами, решил, что не хочу там находиться. Я не хотел признаваться самому себе, что мне было страшно. Я боялся дома и родителей, и медленно побрел в сторону дома Ладо. Там было место, которое успокаивало меня, и разом мне стало все равно, хотели ли меня там видеть или нет. Я сам в тот момент был нищим, одиноким и глубоко несчастным стариком, так отчаянно нуждающимся в добром, полном любви доме.
Какое-то время я бродил возле тополя, ходил туда-сюда бесцельно, потом шел дальше и снова возвращался. Вдруг, я увидел, как из дома вышел Ладо, держа в руке ночник, и, отворив калитку, направился к тополю, где я сидел.
– Иларий, это ты? Ты чего так поздно здесь бродишь? У тебя что-то случилось? – его голос был таким мягким и заботливым, что я готов был расплакаться: никогда со мной так не разговаривал отец. Он, разглядев мое лицо, сказал: – Пойдем в дом, там расскажешь.
Домашние Ладо не удивились, увидев меня, а повели себя так, будто ожидали, что к ним заглянут гости. Они как раз запозднились и собирались ужинать. Я знал, что они жили беднее, чем мои родители, и часто им самим не хватало еды, но они усадили меня и налили такую же порцию супа, как и всем. Отчего я снова чуть не прослезился, так милы и добры были эти люди ко мне, к чужому мальчишке. «Проклятые слезы», – подумал я, черпая ложкой невероятно вкусную похлебку, ведь я уже несколько дней не ел ничего лучше, чем недоваренную или подгорелую кашу – мои познания в кулинарии были слишком ничтожны. После ужина Ладо провел меня в комнату и, нахмурившись, сказал:
– Я знаю, что Тито тебе говорил, но ты не обижайся на него, он хотел всего лишь защитить всех нас. С твоим отцом у меня произошла ссора, на базаре, когда мы продавали стулья. Я не думал, что он так разозлится, когда я всего лишь спросил о тебе и начет твоего обучения. Твой отец начал кричать и грозить, что выселит нас с Холмов. Он всячески обзывал мою семью, и даже собралась толпа, которая начала поддерживать его. Я надеюсь, тебе не сильно досталось из-за моей глупости?
Я соврал, что ничего страшного со мной не случилось, хотя мысленно содрогнулся, вспомнив оплеухи отца. Потом, собравшись с духом, я рассказал о старике. Во время моего рассказа, Ладо, накручивая на палец длинный ус, задавал уточняющие вопросы и хмурился, его карие большие глаза то округлялись, то озадаченно суживались. Потом он резко встал со стула, взял книгу с полки и, протянув мне, сказал:
– Прочитай что-нибудь.
Взяв книгу в руки, я вдруг испугался, что Ладо обвинит сейчас меня во лжи: вдруг я не умел читать и, значит, он может посчитать, что и все остальное тоже вранье. Я побледнел и, открыв первую страницу, приблизился ближе к навесной керосинке. В глазах потемнело: я ничего не видел, а только чувствовал, как выжидающе смотрел на меня Ладо. «Надо что-нибудь сказать», – подумал я и трясущимися губами произнес:
– В начале июля… – я замер, облизнул пересохшие губы и продолжил: – в чрезвычайно жаркое время, под вечер…
Когда я дочитал предложение и поднял голову, Ладо ошарашено взирал на меня, потом забрал книгу и сам пробежался глазами.
– Невероятно! – воскликнул он. – Но как такое возможно? – он зашагал кругами по комнате. Я все смотрел на него и ждал, когда он опомнится. Потом вдруг он остановился и сказал: – Иларий, я сейчас даже не смогу тебе ничем помочь, мне нужно подумать. Все это не поддается никакому логическому объяснению.
От Ладо я вышел, когда стрелки уже приближались к десяти вечера. Подходя к своему дому, я почувствовал волну нахлынувшего холода: меня никто там не ждал, в окнах не горел свет. Нащупав на полке, возле входа, керосинку я зажег ее, и какой-то безотчетный, давящий страх медленно пополз под моей рубашкой. Скрипнула половица. Тихо, стараясь не шуметь, я прошел через залу и направился к лестнице на чердак. Никогда раньше я не боялся теней, отбрасываемых от огня, но в этот момент больше всего я страшился заметить, в одном из пляшущих на стене бликов, лицо старика. И если бы я увидел его, я точно знал, мое сердце разорвалось бы от ужаса. Но как только я поднялся на чердак, я замер, и липкий, холодный пот выступил на моем лбу. На моей, освещенной лунным светом, кровати сидела темная сгорбившаяся фигура. Прежде чем я успел открыть рот, фигура сказала голосом моего брата:
– Где ты так долго был?
– О, боже, Богдан – это ты? – на дрожащих ногах я подошел ближе, чтобы свет от керосинки осветил лицо брата. Да, это был он. – Что… что, ты здесь делаешь? Ты ужасно напугал меня, я чуть с ума не сошел от страха.
– Жду тебя. Где ты был?
– Да, ждешь? Но зачем ждешь? Почему ты не у себя, почему не спишь?
– Я захотел поговорить с братом. Ты же не против поговорить с братом? Так, где ты был? – настойчиво повторил он.
Мои зубы так громко и бешено стучали, что мне показалось, он наверняка понял, что мне страшно. «Это не мой брат», – проскочила мысль, и я задрожал еще сильнее.
– Я? Я гулял. Просто гулял.
– Ты замерз?
– Да, немного.
– Давай поговорим. Садись, – он показал рукой на место возле себя. Я кивнул, поставил керосинку на пол, и сел на стул напротив. Лицо брата от лампы осветилось снизу вверх и стало напоминать искривленную гримасу покойника.
– Как у тебя дела с овцами?
– Хорошо. Почему ты спрашиваешь?
– Твой же пес сдох. Ты так любил его, наверняка тяжелее приходится.
– Да, так тяжелее. Ты перестал ходить в школу. Почему?
– Мне никогда не нравилось ходить туда. Это все отец. Он хотел, но не я. У меня нет способностей к учебе. И я знаю, что ты хотел бы быть на моем месте.
– Да, хотел бы, не буду скрывать.
– Теперь у тебя представится такая возможность.
– С чего ты взял?
– С того, что я скоро уйду отсюда. Мне нужно будет уйти.
– Но куда ты пойдешь?
– Пока не знаю. Но уйти придется точно, я это чувствую, – фигура брата наклонилась вперед и прошептала, – во мне что-то живет.
– Что? Что в тебе живет? – тоже прошептал я, замирая от ужаса.
– Пока не знаю, но это с каждым днем становится все сильнее. Я с каждым днем умираю, а оно растет. Я старею, Иларий. Мне пятнадцать лет, но я старею. Этого же быть не может? Моя кожа обвисает и морщится. У меня растет какой-то горб. Мои ногти желтые и слоящиеся, как у старика. Скоро я уже не буду похож на себя. Понимаешь? Все это началось после твоего дня рождения. Ты что-нибудь знаешь об этом?
– Богдан, прошу, послушай меня внимательно, – вскрикнул я, упав на колени перед ним и обхватив его ледяные, шершавые руки. – Нам всем нужно уехать отсюда. Мы все в опасности. Это я виноват во всем. Я пригласил одного старика в наш дом. Я просто хотел научиться читать! Я не хотел никому зла. Прости меня. Я разговаривал с Бахменом, он сказал, что мы что-нибудь придумаем. Мы найдем способ изгнать его из нашего дома. Я подумал, что можно позвать священника.
– Хи-хи-хи…
Я поднял голову: брат скорчил гримасу, похожую на улыбку, и выставил желтые зубы. Его смех стал еще громче, и он уже хохотал, как каркающий ворон.
– Я же знал, что это ты! Ты всегда был недоумком, и теперь еще больший недоумок, точь-в-точь как задница барана Прошки! А Бахмен твой старый, жалкий и безграмотный тупица. Что он может знать об этом? Священника ты позовешь, – Богдан зашелся в новом приступе хохота, – твой священник здесь бесполезен. Так как он теперь – это весь дом. Весь дом ему принадлежит. Он пропитался в него, как масло в хлеб, в каждую стену, в каждую деревяшку и половицу, – вдруг брат резко прекратил смеяться и вытянул худую шею с заострившимся кадыком, похожим на куриный коготь, в сторону лестницы. – Слышишь? Кажется, он идет.
Действительно послышался тихий скрип лестницы, словно наступила нога человека. Еще один скрип. Скрип.
Не помня себя, я бросился к окну. Богдан схватил меня за ногу и закричал:
– Помоги мне! Мне нужно знать, кому скоро исполнится тринадцать?
Уцепившись за раму, я попытался оттолкнуть брата.
– Скажи мне имена, и я отпущу!
– Нет! – закричал я, разглядев тощую руку, появившуюся в проеме чердачного входа. Кто-то полз наверх и вот-вот должен был подняться. Со всей силы оттолкнув брата, я распахнул окно и прыгнул, упав на черепицу, покрывавшую коридорный навес, перекатился, и рухнул на землю. Покатая крыша навеса спасла меня: я упал с небольшой высоты. Быстро поднявшись, я посмотрел в чердачное окно. Там было уже темно, свет от лампы больше не горел. Я побежал в сторону сарая. Почему-то я чувствовал, что там буду в безопасности. В сарае я упал на стог сена, которое тогда мне показалось мягче любой постели, зарылся в него и незаметно для себя заснул, точно провалился в глубокую яму.