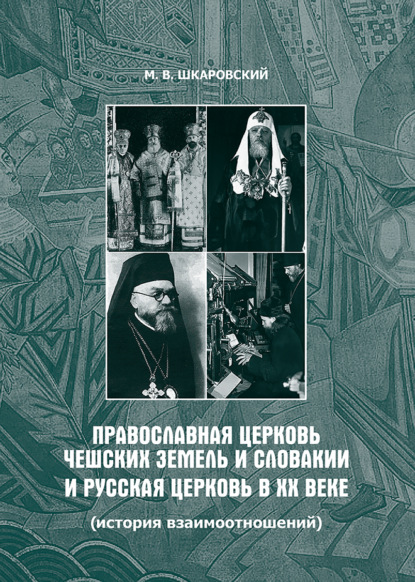Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Русская Церковь в XX веке (история взаимоотношений)
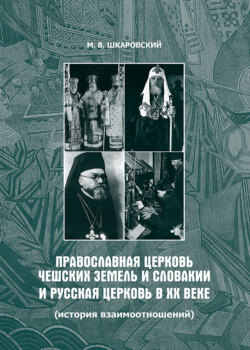
000
ОтложитьЧитал
Синод Сербской Церкви также активно поддерживал епископа Горазда в его столкновениях с архиепископом Савватием. Так 8 января 1941 г. Синод одобрил решения епископа Горазда и Епархиального совета, которые осудил попытки Владыки Савватия захватить церковную власть в Протекторате, и поручил им и далее защищать права и интересы Православия в Чехии в рамках юрисдикции Сербской Православной Церкви. В это же время Синод написал в югославский МИД ходатайство с просьбой защитить Православие на территории бывшей Чехословакии и обратиться к германским властям за разрешением на приезд еп. Горазда на заседание очередного Архиерейского Собора (5 февраля). Вопрос о покушениях архиеп. Савватия на захват церковной власти в Протекторате и его неудачных попытках отстранить еп. Горазда еще дважды рассматривался на заседаниях Сербского Синода – 5 февраля и 1 апреля 1941 г.[85]
Между тем, используя некоторое благоволение к нему Рейхсминистерства церковных дел, епископ Горазд 28 августа 1940 г. попросил у него разрешения на учебу пяти чешских кандидатов в священники на Богословском факультете Белградского университета, так как Сербский Синод 28 июня ответил, что примет этих кандидатов на факультет, если германское правительство разрешит им учиться в Белграде. Министерство отправило 18 сентября свое разрешение рейхспротектору, однако тот 26 сентября ответил отказом, сославшись на существующий принципиальный запрет получения высшего образования чешскими студентами. Не смирившись, церковное министерство 12 октября обратилось за поддержкой в Рейхсминистерство науки, воспитания и народного образования, прося учесть особое положение маленькой епархии. Но и это ведомство 16 ноября ответило отказом.[86]
До оккупации Югославии в апреле 1941 г. епископ Горазд оставался в непосредственном подчинении Священному Архиерейскому Синоду Сербской Церкви. К этому времени, согласно сообщению сербского церковного календаря, Чешско-Моравская епархия, насчитывала 27002 верующих. Из них 16037 (10655 чехов и 5382 русских) проживало в Чехии и 10965 (9927 чехов и 1038 русских) – в Моравии.[87]
Епархия состояла из 22 общин, имевших 11 церквей и 9 богослужебных мест, в которых служили 22 священника. Предпоследней – в сентябре 1940 г. протоиереем Иосифом Резеком в сослужении 12 священников была освящена новая церковь свв. Вячеслава и Людмилы в г. Тржебичи (построенная в 1939–1940 гг. о. Всеволодом Коломацким).[88] Последним же – в марте 1941 г. был образован приход в Градце Кралове в Восточной Чехии. 16 марта первое богослужение в новом храме совершил иерей Вацлав Чикл, в приходской совет вошли четыре русских эмигранта.[89]
Кроме того, во второй половине 1941 г. о. Всеволодом была построена церковь Пресвятой Троицы в с. Челеховице-на-Гане (Моравия). Там ранее существовала православная община, но богослужения проводились в помещении местной школы. По воспоминаниям Д. Травничковой: «Десять семей в Челеховицах никак не могли рискнуть начать строительство собственного храма, но отец Коломацкий был настолько убедительным, он настолько сильно верил в постройку церкви, что в 1940-ом г. даже ходатайствовал в гестапо, чтобы получить разрешение. Мы все, конечно, уже думали, что его скорее арестуют, чем дадут разрешение, но он, вернувшись, принес его». В феврале 1941 г. был куплен участок земли, в июне состоялась закладка новой церкви, 31 августа на здании установили три креста, которые после совершения литургии освятил о. Иосиф Резек. К концу года церковь была оштукатурена, и о. Всеволод расписал ее потолок.[90] Однако это был последний храм, который успели построить до разгрома Чешской епархии.
6 апреля 1941 г. нацисты без объявления войны начали бомбить Белград, и в течение недели с небольшим вся Югославия оказалась оккупирована немецкими и итальянскими войсками. Патриарх Гавриил был интернирован в монастыре Раковица, а Священный Синод Сербской Церкви на несколько месяцев фактически лишился возможности проводить свои заседания. После взятия Белграда, в руки нацистов попал архив Сербской Патриархии, в котором имелись и документы, присылавшиеся сюда епископом Гораздом с 1921 г. В частности, здесь хранились письма, отправленные им в Белград через югославское консульство в Праге в 1940 г. В них Владыка высказывал надежду на скорое падение III рейха.[91]
Через три недели после оккупации Югославии епископу Горазду стало известно о готовящихся арестах православного духовенства в Протекторате, и 28 мая 1941 г. он обратился к архиепископу Берлинскому и Германскому Серафиму с прошением о том, чтобы он принял Чешскую и Моравскую епархию «под свое архипастырское попечение, заботу и защиту, как в церковном, так и в государственно-политическом отношениях», поскольку «всякий епископ должен подчиняться высшему органу». Епископ отмечал, что написал прошение без согласия Матери-Церкви, поэтому он выражал желание и надежду, что после окончания войны вопрос его епархии будет урегулирован каноническим образом, по соглашению с Сербской Церковью, и она санкционирует этот шаг.[92] Оккупация Югославии сделала невозможными существовавшие прежде церковные связи, и решение еп. Горазда полностью являлось его собственной инициативой.
Как видно из немецких документов, массовые аресты священников Чешской епархии не планировались, но негативное отношение к ней рейхспротектора после разгрома Югославии проявилось очень ярко. Так 4 июня 1941 г. он написал представителю германского МИДа в Праге, что Сербская Церковь в последнее время действует с особой враждебностью к Германии, а подчиняющаяся Сербскому Патриарху Чешская Православная Церковь «бросается в глаза своей с каждым годом растущей деятельностью и открыто панславянской программой. Сегодня Церковь имеет в Протекторате большой успех. Так недавно в Кёниггретце состоялось учредительное собрание чешской православной общины, на котором православный священник Чикл из Праги представил Православную Церковь, как единственное возможное вероисповедание всех славянских народов». Рейхспротектор делал вывод, что в будущем существует возможность враждебной Германии панславянской совместной работы чехов и сербов под религиозным покровом.[93]
Между тем архиепископ Серафим развернул активную деятельность, направленную на то, чтобы добиться согласия различных германских ведомств на включение чешских общин в свою епархию. 19 июня согласие на это выразило ведомство шефа полиции безопасности и СД, 7 августа – германский МИД, Рейхсминистерство церковных дел естественно также было согласно, так как само ранее проявляло инициативу в этом вопросе.
Как видно из интервью одного из членов Синода Сербской Церкви немецким журналистам 11 сентября 1941 г., он тогда принципиально не возражал против подчинения Чешской епархии архиепископу Серафиму, а лишь выражал сомнение, что это в германских интересах: «Если бы Немецкая Православная Церковь была автокефальной, то у Чешской Православной Церкви была бы возможность объединиться с автокефальной Немецкой Церковью… Если германское государство не учредит автокефальную Православную Церковь при жизни архиепископа Серафима, то еще не известно, каким образом это сможет произойти после его смерти, и какую позицию займет Русская Православная Церковь».[94]
Местные власти также не были против перехода, о чем рейхспротектор Богемии и Моравии 1 сентября написал в Берлин, а 11 сентября – председателю Совета Министров Протектората, предписав ему организовать все, что необходимо для юридического оформления указанного присоединения.[95] В Протекторате (как до этого и в Чехословацкой республике) вопросы конфессиональной политики курировало управление культов при Министерстве образования и народного просвещения. Поэтому правительство поручило этому министерству заняться подготовкой присоединения Чешской православной епархии к Берлинской. 26 сентября Министерство образования направило Епархиальному совету Чешской епархии письмо, в котором епархия рассматривалась, как присоединенная к «диоцезу архиепископа в Берлине и в Германской империи», в связи с чем предлагалось, как можно быстрее разработать необходимые изменения в Уставе епархии 1929 г., чтобы юридически оформить указанное присоединение.[96]
Полученное предписание стало неожиданностью для епископа, поскольку официального ответа на свое письмо от 28 мая он от архиепископа Серафима не получал. В письме же Министерства образования речь шла о присоединении к Берлинской епархии, как о вопросе решенном, при чем было очевидно, что государственные органы именно епископа Горазда считают инициатором этого присоединения. Поэтому Владыка направил еще одно письмо архиепископу Серафиму, в котором просил дать разъяснения по поводу сложившейся ситуации.[97]
7 октября 1941 г., во время приезда в Прагу, Владыка Серафим встретился в здании Епархиального Управления с еп. Гораздом, священниками Вацлавом Чиклом и Владимиром Петршиком. На вопрос епископа, почему Владыка Серафим не ответил на письмо от 28 мая, архиепископ сказал: «Я взял Чешскую епархию под свою охрану до конца войны, также как и Православную Церковь в Словакии». После этой встречи в письме Министерству образования от 10 октября епископ Горазд выразил согласие разработать специальное приложение к Уставу своей епархии, которое бы отразило новое положение дел.
11 октября Владыка Серафим письмом (полученным в Праге 15 октября) сообщил епископу Горазду о согласии Рейхсминистерства церковных дел и протектора Богемии и Моравии на планируемое присоединение, которое будет иметь временный характер «до тех пор, пока не будет решен вопрос о юрисдикции православной епархии в Чехии и Моравии». В ответном письме от 18 октября епископ спрашивал, как может быть на практике осуществлено планируемое объединение епархий, чтобы оно не вошло в противоречие с каноническим правом, и просил добиться разрешения рейхсминистерства именно на временное включение своей епархии.[98]
20 октября епископ Горазд известил Министерство образования о получении официального ответа от архиепископа Серафима и подчеркнул: «Я распоряжусь, чтобы Епархиальный совет предпринял ускоренные шаги, дабы… присоединение православной епархии Чешско-Моравской к епархии архиепископа Берлинского и Немецкого было законным образом отражено в Уставе православной Чешско-Моравской епархии». Получив это письмо, Министерство образования сообщило в Совет Министров Протектората, что как только из Епархиального совета будет получен обещанный проект внесения изменений в Устав епархии, сразу же будет подготовлен и проект соответствующего правительственного постановления.[99]
В литературе высказывались разные мнения по поводу личного отношения епископа Горазда к присоединению его епархии к Берлинской. Так доцент гуситского богословского факультета Карлова университета в Праге монах Горазд (Вопатрны) полагает, что указанное присоединение было совершено по желанию самого епископа и вовсе не являлось результатом давления на него государственной власти.[100] Другой исследователь жизни и деятельности Владыки Горазда – протоиерей Ярослав Шуварски считает, что епископ был противником присоединения. Подтверждение своей точки зрения о. Ярослав находит в письме, направленном архиепископу Серафиму 11 октября 1941 г. В нем епископ Горазд писал, что его письмо от 28 мая следует расценивать не как изъявление желания войти в состав Берлинской епархии, а лишь как просьбу о помощи в деле предотвращения арестов чешского духовенства. По словам о. Ярослава, Владыка Горазд якобы неоднократно и после этого протестовал против присоединения его епархии к епархии Берлинской.[101]
Найти письмо, на которое ссылается о. Ярослав, не удалось. Известные же архивные документы свидетельствуют об обратном – они показывают, что епископ Горазд, получив 15 октября письмо от архиепископа Серафима, лично активно занялся подготовкой присоединения своей епархии к Берлинской. Епископ беспокоился лишь о том, чтобы это присоединение «не было в противоречии с всеобщим каноническим правом Православной Церкви». Именно такое опасение он высказал в письме архиепископу Серафиму от 18 октября 1941 г.[102] Однако, это был вовсе не протест.
13 ноября архиепископ Серафим написал о просьбе Владыки Горазда в рейхсминистерство, указав, что правительство рейхспротектора хочет осуществить включение, как окончательное урегулирование вопроса юрисдикционной принадлежности Чешской Православной Церкви, а епископ Горазд на это своего согласия не дал: «Я также не в состоянии, окончательно включить епархию Горазда в Германскую епархию, до того, как Сербская Церковь даст своего согласия. Возражения епископа Горазда – справедливы». Берлинский архиепископ полностью поддержал высказанную Владыкой Гораздом просьбу и в личной беседе смог убедить в своей правоте чиновников министерства.[103]
Уже 14 ноября Владыка Серафим сообщил в Прагу, что он познакомил одного из заместителей министра церковных дел с мыслями, высказанными Владыкой Гораздом, и указанный чиновник ничего не имеет против соблюдения канонических норм в данном деле. Архиепископ полагал, что планируемое присоединение юридически лучше всего оформить в виде приложения к Уставу Чешской православной епархии. Во избежание недоразумений архиепископ предложил еп. Горазду самому составить текст этого приложения.[104]
В письме от 25 ноября Владыка Серафим ознакомил епископа с предписанием Рейхсминистерства церковных дел от 21 ноября, смысл которого сводился к тому, что православный архиепископ Берлинский и Германский должен отныне занять по отношению к Чешской епархии такое положение, которое ранее занимали Сербский Патриарх и Священный Синод Сербской Православной Церкви. Таким образом, министерство хотело, не нарушив канонические нормы, создать видимость соблюдения своей договоренности с Гейдрихом о том, что государственное согласие в Протекторате на включение Чешской епархии в Берлинскую последует при условии окончательного юрисдикционного урегулирования. Следует отметить, что 21 ноября Рейхсминистерство церковных дел известило об окончательном решении вопроса германский МИД.[105]
Никаких протестов епископа Горазда против указанного предписания не было. Более того, в письме от 29 ноября он сообщал в Министерство образования, что проект приложения к Уставу епархии 1929 г. уже готов. На 2 декабря было назначено специальное заседание Епархиального совета для обсуждения текста приложения.[106]
Действительно, в этот день Епархиальный совет обсудил и одобрил подготовленное епископом приложение к Уставу, согласно которому Чешская епархия присоединялась к Берлинской. Затем текст приложения был отправлен в Берлин на утверждение Владыке Серафиму, который передал его в Рейхсминистерство церковных дел, выразившее свое согласие 19 января 1942 г. Только 16 февраля приложение переслали рейхспротектору Р. Гейдриху, да и то по его специальному запросу от 4 февраля.[107]
4 марта 1942 г. текст документа был утвержден председателем Совета Министров Протектората, а 3 мая Министерство образования и народного просвещения в Праге издало распоряжение о внесении в Устав Чешской православной епархии приложения, состоящего из четырех статей: «Ст. I. Права, которые в соответствие с Уставом Чешской православной епархии… принадлежат Его Святейшеству Сербскому Патриарху, Архиерейскому Собору и Священному Синоду Сербской Православной Церкви, принадлежат на время действия настоящего приложения православному епископу Берлинскому и Германскому, преосвященному архиепископу Серафиму. Ст. II. В тех местах, где в Уставе говорится о «высшей церковной инстанции», на время действия настоящего приложения следует подразумевать православного епископа Берлинского и Германского, преосвященного архиепископа Серафима. Ст. III. Права Епархиального собрания Чешской православной епархии… на время действия настоящего приложения исполняет Епархиальный совет указанной епархии. Ст. IV. Действие настоящего приложения прекратится, когда будет окончательно решен вопрос юрисдикции православной епархии в Чехии и Моравии».[108]
Из текста приложения видно, что связь, которая устанавливалась между Берлинской и Чешско-Моравской епархиями, была значительно теснее, чем отношения между архиепископом Серафимом и «евлогианскими» приходами, подчинявшимися епископу Сергию. Если в соглашении от 3 ноября 1939 г. говорилось о сохранении юрисдикционной зависимости эмигрантских приходов от митрополита Евлогия, то в приложение к Уставу Чешско-Моравской епархии речь шла о временном прекращении канонической связи с Сербской Церковью и о переходе всех прав высшей церковной власти к архиепископу Серафиму. Третий пункт приложения также внес существенное изменение во внутреннюю жизнь Чешской епархии. Отныне Епархиальное собрание, как периодически созываемый орган, фактически прекратило свое существование.
Следует отметить, что рейхспротектор фактически оказался поставлен перед свершившимся фактом, помешать произошедшему объединению епархий на отвергаемых им ранее условиях, он уже был не в силах. 4 мая 1942 г. Р. Гейдрих вынужденно написал в Рейхсминистерство церковных дел и Министерство образования и народного просвещения, что он согласен с добавлениями к Уставу Чешской епархии.[109]
Весной 1942 г. официальный печатный орган «Вестник Чешской православной епархии» так сообщил о состоявшемся присоединении: «Православная Церковь в «Великонемецкой Империи» состоит из епархии Берлинской, нашей епархии Чешско-Моравской и нескольких общин, из которых половиной управляет епископ Сергий и половиной (две греческих церковных общины в Вене и греческая община в Кёльне над Рейном) архиепископ Савватий. Во главе Берлинской епархии стоит архиепископ Серафим, который находится под юрисдикцией Священного Синода Русской Заграничной Церкви в Сремских Карловцах… Нашей епархии в соответствие со всеобщим церковным правом и в соответствие с нашим епархиальным Уставом гарантировано во всем его объеме существовавшее до сих пор самоуправление как в отношении внутренней жизни, так и в отношении богослужебного языка».[110]
В результате унификаторской деятельности немецких властей к 1942 г. Берлинская епархия РПЦЗ существенно расширила свои границы. В ее состав входили приходы на территории Германии, Протектората Богемия и Моравия, Бельгии, Венгрии, Люксембурга, Польши, Словакии. На рубеже 1941–1942 гг. епархия включала в себя 77 приходов, 14 богослужебных мест и один монастырь. Проходившее в Берлине 29–31 января 1942 г. Епархиальное собрание приняло решение ходатайствовать перед Архиерейским Синодом РПЦЗ о преобразовании епархии в Средне-Европейский митрополичий округ. Это ходатайство было удовлетворено, – 26 мая Синод принял постановление о создании Средне-Европейского митрополичьего округа во главе с Владыкой Серафимом (Ляде), которого было решено возвести в митрополиты. 4 июня Рейхсминистерство церковных дел высказало свое согласие с этим постановлением, и 13–14 июня в Берлине состоялись торжества по случаю учреждения митрополичьего округа.[111]
Следует отметить, что, несмотря на некоторую неопределенность формулировок соглашения от 3 ноября 1939 г. и приложения к Уставу Чешской епархии, фактическое вхождение епископов Сергия и Горазда в состав Берлинской епархии означало установление полного евхаристического общения с митрополитом Серафимом (Ляде), а значит и со всей Русской Православной Церковью за границей. Оба епископа приняли участие в упомянутых торжествах, состоявшихся в Берлине 13–14 июня 1942 г. 13 июня за всенощным бдением был зачитан указ Архиерейского Синода РПЦЗ о возведении архиепископа Серафима в сан митрополита, после чего епископ Сергий, как старейший из присутствовавших за богослужением иерархов возложил на главу Владыки Серафима белый клобук. На следующий день за литургией состоялась хиротония архимандрита Филиппа (Гарднера) во епископа Потсдамского. Ее возглавил митрополит Серафим, которому сослужили епископы Сергий и Горазд.[112]
Епископ Горазд установил довольно тесную связь с Владыкой Серафимом, – несколько раз приезжал в Берлин и служил в местном русском Воскресенском соборе. Вечером 14 июня 1942 г., – на праздничном приеме по случаю хиротонии епископа Филиппа Владыка Горазд произнес речь, в которой «подчеркнул, что ему особенно радостно передать благодать Духа Святаго на новопоставленного Епископа, так как он сам в 1921 году получил Ее через руки своего духовника и наставника Блаженнейшего Митрополита Антония».
Епископ также отметил: «…русская эмиграция, которая предана Православной Церкви, всегда жила в Церкви и дала возможность Средней и Западной Европе ознакомиться с Православной Верой. Двадцать лет тому назад… в Европе смотрели на Святое Православие, как на нечто низшее. А за последние двадцать лет вышел целый ряд книг и ученых трактатов со стороны протестантов и римо-католиков, которые признают светлые и положительные стороны Православной Церкви и выражают надежду, что Святое Православие поможет Западным церквям освободиться от рационализма и индивидуализма и прийти к первохристианской религиозности».[113] В свою очередь, Владыка Серафим (Ляде) оказывал разнообразную помощь Чешской епархии.
Создание Средне-Европейского митрополичьего округа РПЦЗ вызвало обеспокоенность Сербской Православной Церкви. 3 июля председатель ее Синода митр. Иосиф в письме Первоиерарху РПЦЗ митр. Анастасию выразил просьбу: иметь ввиду права Сербского Патриархата на Чешскую и Моравскую епархию, отметив, что сербская юрисдикция не должна быть повреждена в новообразованном митрополичьем округе. В ответе Владыки Анастасия от 11 июля говорилось, что Архиерейский Синод РПЦЗ не рассматривает епархию еп. Горазда в качестве составной части Средне-Европейского округа, и сербская юрисдикция над ней сохраняется, хотя епископ и подчиняется временно митр. Серафиму.[114]
На соответствующие запросы митрополита Анастасия от 11 и 15 июля Владыка Серафим 12 августа 1942 г. сообщил, что на Чешскую и Моравскую епархию он никогда не покушался: «Инициатива в этом деле исходила от епископа Горазда, который, принимая во внимание тяжелое положение своей епархии, просил меня взять его и его епархию под мое покровительство впредь до восстановления нормальных сношений с Свящ. Синодом Сербской Православной Церкви. Входя в чрезвычайно трудное и сложное положение епископа Горазда, я дал свое согласие. Все мое покровительство заключалось в том, что я предоставил в распоряжение епископа Горазда Св. Миро и Св. Антиминсы, в которых он нуждался, да и укрепил пошатнувшееся его положение в протекторате».[115]
Митрополит также пояснил, что целью его деятельности было оказание братской помощи Сербской Церкви, которая в условиях войны лишена «возможности защищать интересы своих заграничных приходов», и просил Владыку Анастасия разъяснить Сербскому Синоду «совершенную необоснованность его опасений, так как я далек от мысли захватить его достояние, понимая прекрасно антиканоничность подобных поступков. Бескорыстная братская помощь не может и не должна быть истолкована в смысле захвата чужой церковной области, особенно в такое время, когда каноническая церковная власть не в состоянии управлять своими приходами и оказывать им существенную поддержку. Я полагал, да и ныне полагаю, что мой долг – делать все от меня зависящее ради спасения Православия. Неужели это преступление?».[116]
Ко времени ответа митрополита Серафима епархия Владыки Горазда уже фактически перестала существовать, эта трагедия была связана с участием православного духовенства в одном из самых значительных событий чешского сопротивления нацистской оккупации. 27 мая 1942 г. заброшенные из Великобритании чехословацкие парашютисты десантной группы «Антропоид» смертельно ранили рейхспротектора Богемии и Моравии обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха – одного из высших чиновников III рейха, возглавлявшего также Главное управление имперской безопасности.
С просьбой укрыть покушавшихся представители пражского подполья сначала обратились к настоятелю католического Страговского монастыря, но получили категорический отказ. Спрятать семь парашютистов согласилось православное духовенство. Младший священник кафедрального пражского собора свв. Кирилла и Мефодия доктор Владимир Петршик (Петржек) с ведома настоятеля храма протоиерея Вацлава Чикла и председателя церковного совета Яна Сонневенда предоставил 30 мая борцам сопротивления убежище в крипте собора, где они укрывались 20 дней. Я. Сонневенд также отыскал врача для раненого осколком бомбы одного из покушавшихся.
Узнав об этом, Владыка Горазд одобрил действия своего духовенства, но был очень обеспокоен, понимая, что если нацисты раскроют тайник, то вся Чешская Православная Церковь подвергнется репрессиям. Перед отъездом 11 июня в Берлин, куда его пригласил митрополит Серафим для участия в хиротонии епископа Филиппа, Владыка Горазд просил, чтобы парашютисты были, как можно скорее, переправлены в другое убежище.
Покушение на Гейдриха стало поводом для массовых казней невинных, в течение пяти недель погибло 1357 человек. Новый рейхспротектор Курт Далюге объявил вознаграждение в 10 млн. крон тому, кто укажет место нахождения диверсантов. Через одного из парашютистов, лично не участвовавшего в покушении, гестапо 17 июня удалось найти убежище. Рано утром 18 июня к собору прибыли 400 эсесовцев, около двух часов продолжался неравный бой, в котором все парашютисты погибли. Укрывавшие их священники были арестованы еще до штурма. После окончания боя нацисты поставили о. Владимира Петршика в храме у иконы Спасителя и стали для забавы стрелять в его сторону из пистолета. Образ Спасителя со следами пуль и сейчас хранится в соборе.[117]
Согласно сведениям биографа епископа Горазда Я. Шуварски, Владыка вернулся из Берлина в Прагу утром 16 июня и узнал, что новое место укрытия для парашютистов не найдено. Это сильно обеспокоило епископа, в тот же день он посетил Йозефа Шемберу и поговорил с ним о необходимости найти новое укрытие. 17 июня епископ Горазд (еще не знавший об арестах) уехал в Пльзень, где получил известие о пражских событиях и поспешил вернуться в столицу.[118]
По другой версии о трагических событиях в Праге епископ Горазд узнал 18 июня во время богослужения в берлинском русском соборе. Доктор Игорь Никишин в своих воспоминаниях о Владыке Сергии (Королеве) писал: «Во время Малого Входа к епископу Горазду на кафедру подходит кто-то в штатском и передает записку. Епископ Горазд зашатался, страшно побледнел, спустился с кафедры и ушел в алтарь. Владыка стоял рядом. «Пойди, мальчик, может быть, надо помочь», – говорит, наклоняясь ко мне, Владыка. (Тогда я уже был хирургом). Прошел в алтарь. Епископ Горазд лежит на чем-то, как бы на кушетке. Пульс и дыхание в порядке. Очень взволнован. Разоблачился, но не ушел из алтаря. Как мы потом узнали, в записке епископу Горазду сообщали, что в его храме, на Рессловой улице нашли скрывавшихся в нем чехов-парашютистов, убивших Райхспротектора Гайдриха».[119]
В любом случае Владыка Горазд не пытался спасти свою жизнь, а во имя спасения Чешской Православной Церкви, взял всю ответственность за происшедшее на себя. 19 июня он послал главе правительства Протектората, министру образования Протектората и в канцелярию нового рейхспротектора три письма, в которых просил сохранить Православную Церковь в чешских землях и брал всю вину на себя: «Я предаю себя в распоряжение подлежащих властей и готов понести любое наказание, вплоть до смертной казни». 25 июня епископ был арестован и два месяца подвергался изнурительным ночным допросам и пыткам. Его уводили на допрос в 10 часов вечера, а возвращали в камеру в 5 часов утра, днем Владыке не давали отдыха и часто оставляли без еды.[120]
3 сентября вместе с протоиереем В. Чиклом, священником В. Петршиком и Я. Сонневендом епископ Горазд был приговорен Пражским военным судом к смертной казни. 4 сентября 1942 г. Владыка и еще два осужденных были расстреляны на военном стрельбище в Праге, на следующий день расстреляли о. В. Петршика. Тела трех мучеников были сожжены, а тело о. В. Чикла отдано для вскрытия и научного изучения.[121]
Немецкая пресса, сообщая о казни осужденных, отмечала: «Особенно отвратительную роль играл епископ Чешской Православной Церкви Горазд. Прекрасно зная, что убийцы спрятались в его церкви, он поехал в Берлин к митрополиту Серафиму, юрисдикции которого Чешская Православная Церковь подчинилась из соображений осторожности».[122]
Правительство Чехословакии высоко оценило патриотический подвиг епископа Горазда и других представителей Чешской Православной Церкви, наградив их посмертно 28 октября 1945 г. военным крестом «В память». Именем Владыки Горазда были названы площади и улицы в Праге, Брно, Оломоуце и других городах. 17 мая 1961 г. Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви причислил епископа Горазда к лику святых, установив день его памяти 28 (15) июня.[123] 5 сентября 1987 г. и Чехословацкая Православная Церковь совершила канонизацию Владыки Горазда (церемония состоялась в храме св. Горазда в Оломоуце в присутствии архиереев Константинопольского и Сербского Патриархатов). В Поместной Православной Церкви Чешских земель и Словакии днем его памяти считается 4 сентября (22 августа по старому стилю, день мученической кончины святителя).[124]
На момент своей смерти епископ Горазд фактически состоял в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, и это обстоятельство не стало препятствием для его канонизации ни в Сербской, ни в Чехословацкой Церквах. Почитание Чешско-Моравского епископа-мученика в лике святых было также распространено и в Русской Православной Церкви еще до восстановления канонического общения РПЦЗ с Московским Патриархатом.
Митрополит Серафим (Ляде) старался смягчить удары, обрушившиеся на чешское духовенство его округа, и по некоторым сведениям даже вступился в защиту епископа Горазда.[125] В середине июля митрополит, пытаясь спасти православные приходы Чехии от ликвидации, направил запрос правительству Протектората, но он остался без ответа. В письме митрополиту Анастасию от 12 августа 1942 г. Владыка Серафим упоминал об этом запросе и о том, что после ареста епископа Горазда несколько приходов Чешской епархии обратились к нему «с просьбой взять их в свою юрисдикцию, чтобы таким образом спасти их от ликвидации». Так как эта просьба поступила в Берлин уже после получения письма митрополита Анастасия от 11 июля, в котором говорилось об упоминавшемся недовольстве Сербского Синода, то митр. Серафим оставил просьбу без удовлетворения.[126]