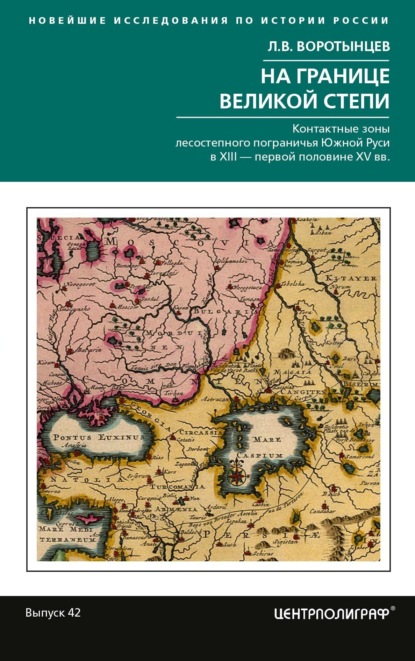На границе Великой степи. Контактные зоны лесостепного пограничья Южной Руси в XIII – первой половине XV в.

000
ОтложитьЧитал
В частности, на восточной периферии Византийской империи такими контактными зонами являлись северо-восточные регионы Ромейской державы (Восточный Понт и предгорья Южного Кавказа), а также акритские лимитрофные территории византийско-арабского и византийско-сельджукского пограничья, с неустойчивыми, проницаемыми границами, полиэтничным населением и сложившейся традицией этнокультурных и хозяйственно-экономических контактов[46].
В европейской и американской историографии превалирующей является точка зрения о возникновении первых контактных зон в эпоху поздней Античности, на территориях, непосредственно примыкавших к Рейнскому и Дунайскому лимесам Римской империи. Согласно данным археологических исследований, в результате продолжительных этнокультурных и экономических контактов, происходивших в пограничных регионах Pax Romanica, сформировалась синтезная материальная культура лимеса, включавшая в себя как римские, так и «варварские» (германские, фракийские, сарматские и др.) элементы[47].
Не вызывает сомнений существование контактных зон и на обширных пространствах Евразийского континента в эпоху так называемого Монгольского мира (Pax Mongolica). Административно-территориальная структура Чингизидских государств, вкупе с бурным развитием торговых коммуникаций, способствовала появлению зон межэтнического взаимодействия, располагавшихся, как правило, на периферии Монгольской ойкумены, или на путях прохождения международных торговых маршрутов. В XIIIXIV вв. формируется ряд контактных зон на территории Улуса Джучи, прежде всего в городских торгово-ремесленных агломерациях Поволжья, Крыма, Северо-Восточном Причерноморье и Приазовье, а также на северной, лесостепной периферии Золотоордынского государства[48].
Согласно гипотезе американского историка Чарльза Гальперина, именно на эпоху ордынской зависимости приходится окончательное формирование на южных границах Руси этнорелигиозной контактной зоны, возникшей еще в домонгольское время[49].
Аналогичная точка зрения присутствует в работе украинского археолога и историка В.В. Колоды, характеризующего лесостепные регионы Днепровско-Донского водораздела как территорию оживленных этнокультурных и экономических контактов между восточнославянскими (южнорусскими) земледельческими общинами и тюркоязычными кочевниками Великой степи на протяжении всей эпохи раннего Средневековья (VIII–XIV вв.), включая период ордынского владычества[50]. В работах известного молдавского историка Н.Д. Русева регион Днестровско-Дунайского междуречья обозначается как контактная зона пересечения коммерческих интересов Востока и Запада[51].
Таким образом, под термином «контактная зона» следует понимать территорию интенсивного хозяйственно-экономического и культурного взаимодействия двух и более этносов или этнических групп, происходившего в течение продолжительного времени (жизни нескольких поколений). Зачастую такое взаимодействие приводило к возникновению новых народов или субэтнических групп (акриты на азиатском лимесе Византийской империи, секеи Венгерского королевства, караны восточного пограничья государства Ильханов, чараймаки и хазарейцы чагатайско-хулагуидского порубежья, казаки и севрюки южнорусского лесостепного пограничья).
Возникновение такого рода зон, как правило, тесно связано с существованием и деятельностью на этих территориях носителей открытых культур и имперской структуры управления, обеспечивающей отсутствие длительных конфликтов по национальному и конфессиональному признаку.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что термины «русско-ордынское пограничье», «фронтир» и «контактная зона» являются взаимодополняющими, частично синонимичными и не вызывают смысловых противоречий при их совместном использовании.
Помимо рассмотренных терминологических аспектов исследования, представляется целесообразным обратить внимание на разницу терминов, используемых в научных исследованиях для обозначения Джучидского государства.
Если для дореволюционного и советского периодов развития отечественной исторической науки характерно абсолютное преобладание термина «Золотая Орда»[52], то в постсоветскую эпоху, в условиях становления национальных научных школ, появляется вариативность обозначений владений Джучидов[53]. Данное обстоятельство ставит вопрос об обоснованности государственных терминов, использующихся историками в исследованиях, посвященных теме русско-ордынских отношений.
Рассматривая вышеобозначенную проблему, прежде всего следует отметить, что преобладающий в древнерусских летописных источниках XIV–XV вв. термин «Орда» в большинстве случаев использовался как обозначение ханской кочевой ставки («большой орды», ордубазара)[54], и не имел конкретной территориальной привязки. По всей вероятности, аналогичное значение имели и присутствующие в русских нарративных источниках более позднего времени названия «именных» ставок отдельных джучидских ханов или беклярбеков («Мурутова Орда», «Ахматова Орда», «Мамаева Орда»)[55]. Вместе с тем в более поздней русской летописной и историко-литературной традиции отмечается употребление термина «Орда» в качестве географического обозначения определенной территории («Синяя Орда», «Заяицкая Орда», «Орда Залесская»)[56].
Согласно гипотезе В.П. Юдина, появление на Руси «золотоордынской» политической терминологии имеет достаточно раннее происхождение, являясь, по мнению исследователя, отражением визуальных впечатлений представителей правящей элиты русских княжеств, сложившихся в результате посещений ставок правителей Джучидского государства[57]. Источниковым базисом представленной гипотезы известного советского востоковеда является ряд сообщений Мухаммада ибн Баттуты, посетившего в 1334 г. как кочевую ставку хана Узбека, так и столицу Улуса Джучи – Сарай. По описаниям марокканского путешественника, парадная юрта ордынского правителя носила название «золотого шатра» (орды)[58]. Аналогичное («золотое») обозначение имел и стационарный дворец Узбека в Сарае[59]. Впечатление «золотого» сооружения производила также располагавшаяся в ханской ставке передвижная «палата» для проведения судебных разбирательств (барака)[60].
Наличие подобных архитектурных шедевров, являвшихся материальными символами власти Джучидов, не могло не оставить следа в политическом лексиконе государств, имевших интенсивные дипломатические контакты с правителями Улуса Джучи. В частности, согласно сведениям Е.И. Кычанова, в китайских исторических хрониках, относящихся к периоду династии Юань, владения Джучидов обозначались термином «Цзинь чжан хань» или «Цзинь чжан го» («Государство золотой юрты»)[61]. Вместе с тем следует отметить полное отсутствие упоминаний «золотых» орд и иных дворцовых сооружений джучидских правителей в русских письменных источниках XIV–XV вв., равно как и обозначения ханских владений термином «Золотая Орда». Данное обстоятельство ставит под сомнение тезис о раннем появлении данного термина в политическом лексиконе элитных групп древнерусского общества.
В этой связи более вероятной представляется версия об относительно позднем появлении золотоордынской терминологии, заимствованной русскими летописцами из историко-культурной традиции постордынских государственных образований. Несмотря на то что сами «золотые дворцы» джучидских ханов, согласно сообщениям источников, были уничтожены в период «Великой замятни»[62] и нашествия Тимур-ленга (Тамерлана)[63], память об их существовании сохранялась в среде кочевников Дешта на протяжении всей постордынской эпохи. В частности, в «татарском» историческом эпосе (дастане) «Идигей» (появление которого как единого произведения датируется XV–XVI вв.[64]), наряду с прямым обозначением Джучидской державы термином «Золотая Орда»[65], присутствуют образы «Золотого дворца» и «Золотого чертога» в качестве символов ханской власти и олицетворения ордынской государственности эпохи наивысшего расцвета Улуса Джучи[66].
Определенная символичность употребления политонимов «Орда» и «Златая Орда» прослеживается и в русских историко-литературных произведениях. Так, автором «Казанской истории» («Казанского летописца», «Истории о Казанском царстве») «золотоордынская» терминология применяется как для обозначения Джучидского государства периода зависимости от него русских княжеств[67], так и для территории подвластной ханам Большой Орды[68], а также используется в качестве одного из названий Казанского юрта[69].
Учитывая факт продолжительного пребывания автора «Казанской истории» «при дворе» казанских ханов[70], то есть в среде потомков кочевой аристократии и придворных сказителей, являвшихся главными хранителями культурно-исторического наследия золотоордынской эпохи, а также упоминаемую им работу с казанскими хрониками[71], наиболее вероятной выглядит гипотеза о достаточно позднем (не ранее второй половины XVI в.) лингвистическом заимствовании русскими «книжниками» политонима «Златая Орда» (от тюрк. «Алтын Орду») из позднеордынских письменных источников и/или устной исторической традиции и дальнейшем его распространении в русских летописных сводах и историко-литературных произведениях[72].
В мусульманских письменных источниках XIII–XIV вв. также прослеживается значительное разнообразие терминов, применявшихся составителями исторических хроник и трактатов для обозначения владений потомков Джучи. Их можно разделить на две группы. К первой относятся названия, имеющие скорее этногеографическое, нежели государственное значение (Дешт, Кыпчакское царство, Дешт-и-Кыпчак, Кыпчак)[73]. Тогда как ко второй группе имеют отношение термины, смысловое наполнение которых носит преимущественно политико-династийный характер («дом Джучи», «престол Джучи»[74]). Исходя из данного обстоятельства можно сделать вывод о том, что этимология термина «Улус Джучи» («Джучи улусы») базируется на многочисленных упоминаниях в аутентичных источниках сына Чингисхана – Джучи (Туши-хана), как первого правителя северо-западного улуса Монгольской империи[75].
Таким образом, источниковедчески обоснованными являются все вышеперечисленные терминологические обороты (Орда, Золотая Орда, Улус Джучи) присутствующие в современнных научных исследованиях. В связи с чем представляется допустимым использование в работе различных обозначений Джучидского государства в целях лексического и стилистического разнообразия.
§ 1.2. Основные теоретические аспекты изучения темы в отечественной и зарубежной историографии
Рассматривая тему изучения этнокультурной и этнополитической истории регионов южнорусского лесостепного пограничья в ордынскую эпоху, невозможно обойтись без обращения к работам предшествующих поколений историков, работавших в данной тематике, а также всего спектра новейших исследований соответствующего направления.
Историю изучения регионов русско-ордынского пограничья можно разделить на несколько периодов или этапов. Начальный этап – вторая половина XIX – начало XX в. Среди наиболее значимых исследований этого периода необходимо выделить работы Д.И. Иловайского, Д.И. Зубрицкого, М.А. Максимовича, Н.П. Дашкевича, П. Голубовского, М. Владимирского-Буданова, Д.И. Багалея, М.К. Любавского, М.С. Грушевского, С.Н. Введенского[76].
В XIX в. выходят и первые фундаментальные труды русских историков, посвященные систематизации и изучению восточных источников, в числе прочего содержащих информацию об Улусе Джучи (Золотой Орде), а также вопросам, относящимся к политической истории Монгольской империи. В этом плане прежде всего следует выделить работы Н.Я. Бичурина[77], В.Г. Тизенгаузена[78], И.Н. Березина[79] и В.В. Бартольда[80], заложившие основы российской ориенталистики и восточного источниковедения.
В 20—30-х гг. XX в. появляются значимые работы русских историков Н.И. Веселовского[81] и В.В. Мавродина[82], украинских исследователей Ф. Петруня[83] и О. Федоровского[84], а также польского историка С.М. Кучинского[85], посвященные изучению некоторых аспектов политической истории Золотой Орды, а также административно-территориальному статусу южнорусских земель.
Основополагающими работами, давшими серьезный толчок к изучению русско-ордынских отношений, стали монографии А.Н. Насонова[86], В.В. Мавродина[87], коллективный труд Б.Д. Грекова, А.Ю. Якубовского[88], а также работы В.Т. Пашуто[89]. Важным шагом в изучении политической истории Золотой Орды, а также административно-территориальных изменений периода дезинтеграции и упадка государственных институтов Улуса Джучи стала вышедшая в 1960 г. монография М.Г. Сафаргалиева[90].
Одной из немногих работ советских историков, посвященных изучению вопросов экономического и этнокультурного взаимодействия славянского и тюркского населения на территории Улуса Джучи, а также проблеме положения различных социальных групп древнерусского общества в государственной системе Золотой Орды является научное исследование М.Д. Полубояриновой, опубликованной в 1978 г.[91]
В 1985 г. выходит в свет фундаментальное исследование В.Л. Егорова, посвященное изучению вопросов исторической географии Золотой Орды[92]. Новым подходом в изучении пограничных со Степью регионов Южной Руси стал выдвинутый В.Л. Егоровым тезис о существовании так называемых «буферных зон», отделявших собственно ордынские кочевья от русских княжеств. К таковым зонам исследователь относил Болховскую землю, Поросье, полосу земель между Киевом, Каневом и Переяславлем-Южным, районы Курско-Рыльского Посеймья, а также земли Верхнего Подонья и так называемого Тульского баскачества, располагавшиеся в среднем течении р. Упы[93]. К сожалению, В.Л. Егоровым не было четко сформулировано определение понятия «буферной зоны». В историко-географическом контексте данный термин обычно трактуется как территория, разделяющая враждебные государства или этнические группы[94]. Вместе с тем в современной исторической науке существует и иное определение «буферной зоны» как территории, расположенной на стыке культурно-исторических пространств, в пределах которой создавались условия для их продуктивного контакта[95].
Изучению дискуссионных вопросов административно-территориального устройства Подольского, Волынского и Киевского удельных княжеств как периферийно-пограничных регионов, расположенных на южных рубежах ВКЛ, посвящены работы известного советского (украинского) историка Н.Ф. Шабульдо[96].
Знаковой работой, положившей начало новым подходам к изучению истории южнорусских земель в ордынскую эпоху, становится вышедшая в 1987 г. монография А.А. Шенникова, посвященная изучению одного из регионов русско-ордынского пограничья, располагавшегося в лесостепной полосе Донского левобережья и носившего в русских летописных источниках название Червленого Яра[97].
Исследование А.А. Шенникова стало первой работой, в которой один из регионов русско-ордынского пограничья был обозначен как зона этнокультурных и хозяйственно-экономических контактов (контактная зона). Позднее проблема административно-территориального статуса среднего Подонья в эпоху Золотой Орды неоднократно рассматривалась в работах воронежских исследователей Ю.В. Селезнева и А.О. Амелькина, а также казанского историка Б.Р. Рахимзянова[98].
Вместе с тем, несмотря на появление отдельных работ, представляющих нестандартные гипотезы и методы исследовательского поиска, господствующим подходом к изучению проблем русско-ордынских отношений в советской историографии являлось их рассмотрение исключительно через призму концепции антагонизма между двумя хозяйственными укладами – оседлым земледелием и кочевым скотоводством[99]. В основе данного подхода лежал крайне субъективный и научно несостоятельный тезис К. Маркса о механизмах хозяйственной деятельности монголов на завоеванных территориях[100].
В постсоветской историографии, вследствие исчезновения идеологических установок и отхода от марксистской парадигмы, изучение русско-ордынских отношений переходит на новый уровень. Помимо работ, посвященных политической истории Улуса Джучи[101] и истории русско-ордынских отношений[102], появляются исследования, рассматривающие историческое развитие Руси, Золотой Орды и отдельных «татарских» юртов с позиций формационного и цивилизационного подходов, системного анализа, а также с применением методологии социоестественной истории[103].
Также следует отметить четко прослеживающийся в работах современных историков отход от теории «монголо-татарского ига» как системы политического и экономического угнетения, якобы вызвавшего затяжной системный кризис русских земель. Опираясь на новейшие данные археологии, палеоклиматологии и других смежных дисиплин, а также проведя тщательный анализ письменных источников, ряд исследователей аргументированно оспорили тезис о монгольском нашествии как о неком катастрофическом рубеже в общеисторическом развитии древнерусской цивилизации[104].
Характерно, что вышеобозначенные точки зрения российских и украинских исследователей фактически являются аргументированным подтверждением тезиса английского историка Дж. Феннела, высказанного им несколько ранее в одной из работ, посвященных истории средневековой Руси[105].
В последние десятилетия прослеживается возрождение интереса к вопросам русско-ордынского взаимодействия на территории лесостепных регионов северной периферии Улуса Джучи в украинской исторической науке[106].
В 2010-х гг. выходит несколько работ российских историков, посвященных изучению отдельных регионов русско-ордынского пограничья[107].
Проблемам возникновения и географической локализации владений «служилых татар» и казачьих сообществ на пограничных со Степью землях ВКЛ и Московского княжества посвящены исследования И.В. Зайцева, Е.Е. Русиной и А.В. Белякова[108].
К новейшим российским исследованиям по теме русско-ордынского пограничья относятся работы Е.В. Нолева[109] и Б.Д. Ряхимзянова[110].
Получение как можно более полной и объективной картины исторического развития регионов южнорусской лесостепи в ордынскую эпоху невозможно без привлечения материалов археологических исследований и их синтеза с данными, содержащимися в нарративных источниках.
В данном контексте применение метода междисциплинарных исследований, представляющего собой синтез информации, содержащейся в письменных и археологических источниках, открывает ряд новых и перспективных направлений научного поиска.
В XX в. системному археологическому изучению подвергаются территории, составлявшие западную часть территории Улуса Джучи, включая регионы южнорусского лесостепного пограничья. По итогам этих исследований выходит ряд работ исследователей, синтезировавших сведения письменных источников с данными археологии[111].
С 80-х гг. XX в. интенсивному археологическому изучению подвергались территории Курско-Рыльского Посеймья. Результаты исследований, относящиеся к ордынской эпохе (XIII–XV вв.), нашли отражение в работах В.В. Енукова, Г.Е. Шинакова, В.В. Приймака, А.В. Зорина, А.Г. Шпилева и А.А. Чубура[112].
Результаты исследований археологических объектов тульских земель и района Куликова поля отражены в ряде работ В.П. Гриценко, А.Н. Наумова и М.И. Гоняного[113].
Значительные материал по изучению истории Среднего Подонья в XIII–XIV вв. предоставили археологические исследования, проводившиеся в 80—90-х гг. XX в. кафедрой археологии и истории древнего мира ВГУ под руководством М.В. Цыбина в Хоперско-Донском междуречье[114].
В 90-х гг. XX в. начинаются масштабные археологические исследования земель Верхнего Подонья и бассейнов притоков Дона (Быстрой Сосны, Красивой Мечи, Вязовки и др.), составлявших основную территорию Елецкого княжества. Изучению истории этого государственного образования посвящен ряд работ Н.А. Тропина[115].
Немаловажным аспектом в изучении истории регионов южнорусской лесостепи в эпоху Средневековья является проблема влияния ландшафтно-географического и климатического факторов на специфику развития изучаемых территорий. Из числа новейших исследований, посвященных вопросам влияния климатических изменений на процессы хозяйственного освоения различными этническими группами евразийской лесостепной зоны, следует особо выделить ряд работ, относящихся непосредственно к палеогеографической и палеоклиматической истории ряда регионов русско-ордынского пограничья[116].
§ 1.3. Основные источники темы
Для решения поставленных в исследовании задач был привлечен широкий круг как отечественных, так и зарубежных источников, содержащих прямые или косвенные сведения по политической истории, экономике и исторической географии Улуса Джучи и южнорусских княжеств.
Письменные источники, использованные в работе, можно разделить на несколько групп:
1. Древнерусские, включающие в себя летописи, историко-географические трактаты, духовные и договорные грамоты князей, грамоты митрополитов;
2. Западные, включающие путевые записки представителей дипломатических миссий, историко-географические сочинения, акты дипломатической переписки, нотариально-коммерческие акты;
3. Восточные, состоящие в основном из мусульманских, армянских, грузинских и китайско-монгольских исторических хроник и историко-литературных произведений, а также географических трактатов и записок путешественников.
Наибольший объем информации о событиях, происходивших на землях Южной Руси в эпоху становления административно-территориальной системы Улуса Джучи (1242— 1280-е гг.), содержит Ипатьевская летопись[117].
События, связанные с административно-территориальными изменениями в землях Курско-Рыльского Посеймья в 80-х гг. XIII в. (баскачество Ахмата), наиболее полно изложены в Лаврентьевской летописи[118].
Летописями XV в., содержащими информацию о событиях, происходивших в регионах русско-ордынского пограничья, являются Рогожский летописец, Ермолинская и Типографская летописи, а также Московский летописный свод 1479 г.
В Рогожской летописи достаточно подробно отражены события военно-политической экспансии ВКЛ в южнорусские земли, включая территорию Верховских княжеств, вплоть до бассейна Быстрой Сосны[119].
Ермолинская летопись, названная так по упоминанию в ней деятельности известного русского архитектора Василия Ермолина, была создана в конце XV в.[120]
Уваровский список московского великокняжеского летописания, обнаруженный М.Н. Тихомировым и изданный им под названием «Московский свод конца XV в.»[121], содержит уже несколько более позднюю редакцию свода 1479 г., доведенную до 1493 г.[122] Особую ценность представляет сообщение Московского летописного свода конца XV в. о широкомасштабных торговых связях Московского княжества с Большой Ордой в последней трети XV в., по сухопутному маршруту, проходившему, по всей вероятности, через пограничные земли Донского правобережья[123].
Одним из крупнейших летописных сводов XVI в., содержащих информацию о событиях второй половины XIIIXV в., является Никоновская летопись[124], составленная при дворе митрополита Даниила в конце 1520-х – начале 1530-х гг. и получившая свое название от принадлежности одного из списков патриарху Никону. По мнению А.Г. Кузьмина, сообщения Никоновского свода, относящиеся к истории Рязанского княжества XIII–XV вв., восходят к утраченному рязанскому летописанию[125]. Следует отметить, что историко-фактологический материал Никоновской летописи подвергался существенной литературной и идеологической обработке, в силу чего сведения этого летописного источника нуждаются в дополнительной перепроверке[126].
В изучении событий истории Южной и Юго-Западной Руси второй половины XIV – начала XVI в. важное значение имеет информация, представленная в ряде летописных сводов Великого княжества Литовского (далее ВКЛ).
Слуцкая, или Уваровская, летопись[127] – источник западнорусского летописания XVI в. Летопись делится на две части. В первой отражены события со второй половины XIV в. до 1446 г., происходившие на территории ВКЛ. Вторая часть – летопись общерусского характера с описанием событий 970—1240 гг. Данный летописный источник достаточно подробно описывает систему управления землями Бужско-Днестровского междуречья в государственной системе Улуса Джучи, а также содержит сообщения об изменениях административно-политического положения в таком регионе русско-ордынского пограничья, как Подолия в период литовской экспансии во второй половине XIV в.[128]
Густынская летопись, получившая название по месту своего составления (Густынский монастырь под Черниговом), была создана в начале XVII в.[129] Автор использовал древнерусские, польские, литовские, византийские и другие доступные ему письменные источники. Особую ценность в информативном плане представляют содержащиеся в Густынской летописи достаточно подробные описания событий военно-политической экспансии ВКЛ в 60— 70-х гг. XIV в. в земли русско-ордынского пограничья[130].
Определенная информация о событиях, происходивших на землях южнорусских княжеств в ордынскую эпоху, содержится в таком позднем западнорусском источнике, как «Хроника Литовская и Жмойтская», составленном в середине XVII столетия[131].
Еще одним западнорусским нарративным источником, содержащим определенную (в ряде случаев уникальную) информацию об отношениях Великого княжества Литовского (ВКЛ) с Крымским ханством и Большой Ордой в XV–XVI вв., является Литовская метрика (ЛМ). Она представляет собой собрание специфических материалов (тетрадей, книг) канцелярии ВКЛ XV–XVIII вв. с копиями документов, издаваемых от имени великого князя, рады, сеймов, а также актов дипломатической переписки крымских ханов и литовских князей[132].
Важным источником по истории земель галицкого Понизья в XIV – первой половине XV в. является свод Славяно-Молдавских летописей[133]. В частности, в данном источнике содержится уникальная информация о взаимодействии различных этнических групп (русинов, волохов, татар), населявших регион Днестровско-Прутского и Прутско-Серетского междуречий[134].
Некоторые сведения, относящиеся к истории южнорусских княжеств, содержатся в Новгородских летописных сводах[135].
Важным историко-географическим источником, содержащим информацию об административно-территориальной структуре южнорусских земель в конце XIV в., является «Список русских городов, дальних и ближних»[136]. Согласно наиболее обоснованному тезису современного украинского историка Г.Ю. Ивакина, «Список» мог быть составлен в 1396–1397 гг., когда Киприан находился в Киеве, где вел политические переговоры с литовскими князьями Ягайло и Витовтом[137]. В то же время следует отметить, что данные «Списка…» содержат ряд сведений, относящихся к более раннему времени, устаревших к моменту его создания. Так, в «Списке…» указан г. «Коршев на Сосне», тогда как уже существовавший в 90-х гг. XIV в. Елец не упоминается.
Информацию об изменениях в административно-политическом статусе пограничных районов Рязанского княжества и сопредельных с ним территорий золотоордынских улусов в конце XIV–XV в. содержат духовные и договорные грамоты московских и рязанских князей[138].
К нормативно-правовым источникам относятся также и грамоты московских митрополитов Феогноста и Алексия, обращенные к православному населению ордынского улуса, располагавшегося на землях Донского левобережья[139]. В русских источниках он обозначался как Червленый Яр. Тексты послания митрополитов фиксируют наличие на территории Среднего Подонья представителей как ордынской администрации (баскаков, сотников), исповедовавших православие, так и довольно многочисленного земледельческого населения, включая представителей знати (бояр) и духовенства[140].
Значительный объем сведений, относящихся к исторической географии лесостепного пограничья Российского государства эпохи позднего Средневековья, содержится в географическом трактате – «Книге Большому чертежу», содержащей подробное описание территории Московского царства и соседних с ним государств в XVI–XVII вв. Особую ценность представляет информация о «татарских дорогах» – «сакмах» или «шляхах», возникших в золотоордынский период и частично проходивших по территории пограничных со Степью регионов[141]. Помимо этого в «Книге» содержатся сведения о расположении ряда населенных пунктов золотооордынской эпохи, прекративших свое существование к моменту составления трактата[142].
К числу историко-литературных источников, содержащих некоторые сведения историко-географического характера о располагавшимся на границе с Ордой Елецком княжестве, а также территории ордынских кочевий в Среднем Подонье, следует отнести «Хожение митрополита Пимена в Царьград». Составленное Игнатием Смолянином по итогам поездки московского церковного посольства в Константинополь в 1389 г., «Хожение…» было включено московским летописцем в текст Никоновской летописи[143].
Определенная информация, относящаяся к вопросам административного статуса и датировки возникновения таких пограничных феодальных образований, как Елецкое княжество, владения Мансура-Кията (официального родоначальника князей Глинских), содержится в родословных книгах Росийского государства XVI–XVII вв.[144]
Ценным источником по определению административно-политического положения областей русско-ордынского пограничья в конце XIV – первой трети XV в. являются ярлыки ордынских и крымских ханов, выдаваемые литовским князьям и польским королям на управление южнорусскими землями[145]. К их числу следует отнести тарханные ярлыки хана Токтамыша (1392 и 1393 гг.), тарханный ярлык хана Тимур-Кутлуга, ярлык крымского хана Менгли-Гирея (1507 г.). Анализ этих нормативно-правовых актов позволяет более точно определить административно-правовой статус ряда территорий русско-ордынского пограничья в эпоху упадка Орды и военно-политического доминирования ВКЛ в южнорусских землях.
Из числа западноевропейских источников наибольший объем информации по административно-политическому статусу южнорусских земель в период становления ордынского государства содержится в «Истории монголов» католического священника и дипломата Иоанна де Плано Карпини[146]. Сведения о северной границе ордынских кочевий в Правобережном Подонье и присутствии русского населения в этом регионе содержат путевые записки французского дипломата Гильома Рубрука[147].
Важное свидетельство о существовании труднопроходимой границы, отделявшей русские княжества от сопредельных государств, содержится в «Книге о разнообразии мира» венецианского путешественника Марко Поло[148].
К числу используемых в работе источников также следует отнести путевые заметки европейских путешественников Амброджио Контарини и Гильбера де Ланоа, а также «Записки о московитских делах» австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна[149]. Кроме того, в исследовании использовалась информация, относящаяся к истории изучаемого региона, представленная в ряде дипломатических актов восточноевропейских государств[150].
- Военная разведка Японии против СССР. Противостояние спецслужб в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке. 1922—1945
- Иностранные войска, созданные Советским Союзом для борьбы с нацизмом. Политика. Дипломатия. Военное строительство. 1941—1945
- Пламя над Волгой. Крестьянские восстания и выступления в Тверской губернии в конец 1917–1922 гг.
- «Центурионы» Ивана Грозного. Воеводы и головы московского войска второй половины XVI в.
- Северная Русь: история сурового края ХIII-ХVII вв.
- Генерал Иван Георгиевич Эрдели. Страницы истории Белого движения на Юге России
- Очерки истории Ливонской войны. От Нарвы до Феллина. 1558—1561 гг.
- Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826—1866 гг.
- Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг.
- Донское казачество позднеимперской эпохи. Земля. Служба. Власть. 2-я половина XIX в. – начало XX в.
- Крах политической доктрины императора Павла I, или Как нельзя управлять страной
- От Чернигова до Смоленска. Военная история юго-западного русского порубежья с древнейших времен до ХVII в.
- Загадка завещания Ивана Калиты. Присоединение Галича, Углича и Белоозера к Московскому княжеству в XIV в
- Посольство монахов-кармелитов в России. Смутное время глазами иностранцев. 1604-1612 гг.
- Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV – середине ХV в.
- Военное дело Московского государства. От Василия Темного до Михаила Романова. Вторая половина XV – начало XVII в.
- Русско-литовское пограничье
- «Князья, бояре и дети боярские». Система служебных отношений в Московском государстве в XV–XVI вв.
- Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. Противостояние командных кадров. 1917–1922 гг.
- От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье. IX– XII вв.
- Советское государство и кочевники. История, политика, население. 1917—1991
- Белорусские земли в советско-польских отношениях
- Полоцкая война. Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570
- Рождение Древней Руси. Взгляд из XXI века
- Император Николай I и его эпоха. Донкихот самодержавия
- Средневековая Москва
- Феномен Александра Невского. Русь XIII века между Западом и Востоком
- Великая княгиня Владимирская Мария. Загадка погребения в Княгинином монастыре
- Князь Иван Шуйский. Воевода Ивана Грозного
- Готы и славяне. На пути к государственности III-IVвв
- Генерал В.А. Сухомлинов. Военный министр эпохи Великой войны
- Служилые элиты Московского государства. Формирование, статус, интеграция. XV–XVI вв.
- Королевство Русь. Древняя Русь глазами западных историков
- Междукняжеские отношения на Руси. Х – первая четверть XII в.
- Владимир Мономах. Между историей и легендой
- Московское царство. Процессы колонизации XV— XVII вв.
- Генерал Деникин. За Россию, Единую и Неделимую
- Казачество и власть накануне Великих реформ Александра II. Конец 1850-х – начало 1860-х гг.
- Воздушный фронт Первой мировой. Борьба за господство в воздухе на русско-германском фронте (1914—1918)
- Московский поход генерала Деникина. Решающее сражение Гражданской войны в России. Май – октябрь 1919 г.
- Казаки на «захолустном фронте». Казачьи войска России в условиях Закавказского театра Первой мировой войны. 1914—1918 гг.
- Иван Грозный. Начало пути. Очерки русской истории 30–40-х годов XVI века
- Петр Столыпин. Последний русский дворянин
- На границе Великой степи. Контактные зоны лесостепного пограничья Южной Руси в XIII – первой половине XV в.
- Военная разведка Японии против России. Противостояние спецслужб на Дальнем Востоке. 1874-1922
- Битва на Калке. 1223 г. Русские княжества накануне монголо-татарского нашествия
- СССР и Гоминьдан. Военно-политическое сотрудничество. 1923—1942 гг.
- Главные люди опричнины: Дипломаты. Воеводы. Каратели. Вторая половина XVI в.