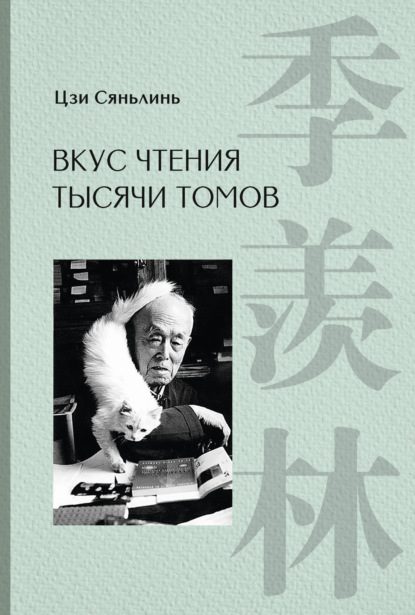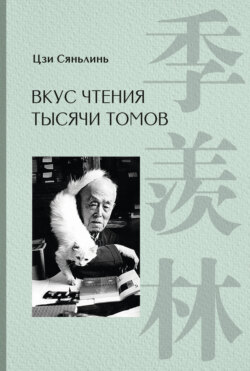
000
ОтложитьЧитал
Нам нужно больше изучать иностранные языки
Необходимость изучения иностранных языков не подлежит сомнению, особенно это утверждение актуально для нас, китайцев. Боюсь, что мы в некотором смысле завидуем нашим предшественникам, жившим пятьдесят-шестьдесят лет назад. Тогда, чтобы стать высокопоставленными чиновниками, требовалось выучить наизусть классические каноны и примечания к ним, написать несколько сочинений и сдать экзамен на степени цзюйжэнь и цзиньши[6]. Даже если некоторые особенно одаренные ученые твердо помнили оригиналы канонов и комментарии к ним или постигли некоторые «неканонические науки», их знания все равно ограничивались одной только китайской литературой. Им был доступен только один язык.
Однако вместе с путешественниками из чужих стран в Китай проникли европейские и американские научные знания. Разумеется, в некоторых областях их уровень недосягаем для нас, это превосходство не могут не признать даже самые упорные поборники китайской культуры. «Использовать западные достижения на китайской основе» – в этом лозунге звучит и беспомощное оправдание, и желание утешиться. Положение сложилось действительно дурацкое, вероятно, и в прошлом многие чувствовали то же самое. Поэтому прогрессивные представители поколения наших дедов с энтузиазмом взялись за «иностранные дела» и, помимо заучивания китайских канонов, пытались наловчиться в чтении «эй-би-си-ди-и» (a-b-c-d-e).
Судить об их успехах непросто. Минуло больше полувека, и китайское общество сильно изменилось за это время – все больше людей одеваются на западный манер и предпочитают западную кухню (как говорили раньше, «заморские блюда»). «Эй-би-си-ди-и» по-прежнему изучаются. Кое-кто освоил иностранную азбуку, но не слишком торопится применить новые знания, а у многих и вовсе руки до книг не доходят. В университетах ситуация лучше, здесь в сфере изучения иностранных языков, в особенности английского, наметился явный прогресс: на факультетах филологии, помимо учебников на китайском языке, используются и пособия на английском, также существует практика привлечения к сотрудничеству профессоров из других стран.
Казалось бы, мы должны радоваться, но все эти положительные изменения происходят крайне медленно. Полвека в наше все ускоряющееся время – очень большой срок. Вспомним, были ли автомобили пятьдесят-шестьдесят лет назад? Самолеты? Сейчас они мчатся по улицам и разрезают небеса, а тогда и вовсе не существовали. Не выглядит ли ничтожным по сравнению с этим наш прогресс в изучении «эй-би-си-ди-и»? К тому же при глубоком исследовании данной темы возникает вопрос – сколько студентов или выпускников вузов, кичащихся учебниками и лекциями на английском, смогли бы написать на нем научную работу? Думается мне, они с удовольствием используют английский, чтобы произвести впечатление на свою девушку, которая все равно ни слова на нем не понимает, но при встрече с носителем языка моментально теряются.
Академические стандарты изучения иностранных языков в других странах значительно превосходят китайские. Зная это, легко поддаться пессимистическим настроениям, однако несмотря ни на что наши студенты изо всех сил стараются добиться максимальных результатов. Во многих европейских государствах не считается чем-то особенным знать на определенном уровне пять или даже шесть языков. Например, немецкая программа среднего образования, помимо восьми лет изучения латыни и шести лет греческого, включает также английский и французский языки, а в качестве дополнительных курсов предлагает русский и итальянский. После такой серьезной подготовки трудностей с чтением книг, пособий и справочников на самых разных языках возникнуть не должно. Конечно, если в качестве главного направления выбрана лингвистика, придется изучить еще несколько языков. Например, студент, изучающий славянское языкознание, должен по меньшей мере владеть русским, сербохорватским, а также польским или чешским языками, а для сравнительной лингвистики требования еще выше. Следует отметить, что далеко не всякий лингвист владеет каждым языком в совершенстве, однако даже то количество, что я озвучил, выглядит пугающе.
Некоторые европейские государства, например, Дания, Голландия, Швеция, Норвегия обладают серьезным научным потенциалом, а порой и превосходят в этом некоторые «великие державы», но из-за своих малых размеров и незначительной роли в мировой политике не могут рассчитывать на широкое распространение своего языка и получение им статуса международного. Однако, чтобы исследования ученых из этих стран стали доступны всему мировому научному сообществу, их публикуют на английском, французском, немецком языках или даже на всех трех сразу. К слову, небольшие европейские государства подарили миру множество крупных ученых в разных областях науки. Таковы, например, великий датский лингвист Отто Есперсен[7] и его шведский коллега, специалист по китайской фонетике Бернхард Карлгрен[8]. Научные труды последнего известны и в Китае.
Сегодня уровень развития китайской науки не сопоставим с достижениями ученых из Англии, Германии или Франции. Нам трудно тягаться в этом даже с такими небольшими государствами, как Швеция или Дания. Положение дел с изучением английского в нашей стране я описывал выше, но стоит отметить, что так было до войны. О студентах, поступивших в университет после демобилизации, говорили, что они не очень-то хорошо знают английский язык. Оставив разговоры о причинах этого, рассмотрим факты. Многие студенты не только не могут читать справочники на английском, но даже не представляют, сколько сил для этого требуется. Они непременно столкнутся с трудностями в исследовательской работе после выпуска. Еще более плачевна ситуация с немецким и французским. Сейчас их эти два языка преподают в качестве второго или третьего иностранного и по регламенту Министерства образования на их изучение отводится не более трех лет. Разумеется, этого времени недостаточно для более-менее приличного знакомства с языком, и поэтому чтение книг без словаря выглядит недостижимой мечтой, не говоря уже о невозможности пользоваться результатами зарубежных исследований. С другой стороны, несмотря на то что уровень развития китайской науки не слишком высок, наши исследователи также делают ценные открытия, которые стоило бы продемонстрировать мировому научному сообществу. К сожалению, доступно это лишь ограниченному кругу ученых, владеющих европейскими языками, статьи прочих остаются на китайском – непереведенные и непрочитанные. Это большая потеря для мировой науки.
Как я уже говорил выше, английский, немецкий и французский фактически стали теперь международными языками, но не стоит довольствоваться только ими. Напротив, к ним хорошо бы добавить еще несколько. Мне хочется поговорить о русском языке. Некоторые могут упрекнуть меня в предвзятости или в том, что эти рассуждения связаны с победой Советского Союза в войне. Кроме того, СССР стал одной из сильнейших держав, да и вообще в Китае сейчас модно обсуждать дела этого нашего соседа, и мой интерес можно принять за популизм. На самом же деле я хочу сказать не об этом. Это мнение не только мое, и придерживаться его я начал не сейчас – такие мысли посещали меня и десять лет назад. Никто, независимо от отношения к коммунизму, не станет отрицать важность роли этого огромного государства на мировой политической арене, в особенности это касается Китая. Приводить иные доказательства значимости русского языка излишне, причина, по которой я говорю о нем, – в другом. Я встречался с различными китайскими и иностранными специалистами, все они признавали огромный вклад этой страны в мировую науку. Эта лепта вносилась не только после революции, исследования проводились и в царской России, хотя по значимости они не сравнимы с нынешними. Русские ученые написали множество ценнейших трудов по изучению санскрита и буддологии – «моим» областям научного знания, и эта традиция не нарушается с царских времен и по сей день. Прекрасный тому пример – знаменитые сборники по буддизму. Кроме того, всемирно известные грамматика и словарь монгольского языка написаны на русском языке, не зная которого, почти невозможно изучить монгольский. Приводя здесь эти факты, я всего лишь надеюсь, что китайские молодые исследователи, равно как и старшее поколение ученых, помимо английского, немецкого и французского, будут уделять внимание и русскому языку. Конечно, лучше всего найти в себе смелость изучить язык и стать настоящим специалистом, чтобы прогнать туда, где им следует быть, тех «героев», которые надувают народ.
Думаю, что обязательно найдутся несогласные с моей точкой зрения и будут ссылаться на мои же слова о том, что мы и один иностранный язык не можем толком выучить. Говоря об изучении сразу четырех языков – английского, немецкого, французского и русского – я могу показаться не более чем мечтателем. Однако я стараюсь руководствоваться здравым смыслом, и он подсказывает мне, что иностранные студенты вовсе не превосходят китайских. Результативному изучению иностранных языков в школе препятствуют лишь недостатки методики, низкое качество учебных пособий и слабые, некомпетентные учителя. Все эти проблемы возможно разрешить, и если мы справимся с ними, то изучение еще одного иностранного языка не будет сверхсложной задачей. И пусть меня называют мечтателем – что ж, я не прочь помечтать о прекрасном.
Бэйпин (Пекин), 6 мая 1947 года
Историческая наука и языкознание
Хотя языкознание и история являются отдельными науками, они во многом служат опорой и дополнением друг другу. История способна помочь лингвистике – это ни для кого не секрет. Первым шагом в изучении языка становится знакомство с прошлым народа, который говорит на нем, и таким образом языкознание становится как бы проводником в исторических исследованиях. Скажу больше, ответы на некоторые исторические вопросы могут быть получены только таким способом. В подтверждение своих слов приведу два примера.
Первым примером станет теория о доисторическом переселении индоевропейских народов. Эта научная гипотеза была выдвинута и доказана преимущественно на основании лингвистики, а ее описание основывается на сравнительном языкознании. Европейские ученые впервые соприкоснулись с санскритом только в конце XVIII – начале XIX века. Вскоре они обнаружили, что санскрит во многом схож с греческим языком и латынью. Дальнейшие исследования выявили принадлежность языка индийцев, которые всегда считались «цветной» расой, к той же языковой семье, что и древние европейские языки: несколько тысяч лет назад эти «братья» оказались разделены, а теперь вдруг вернулись к своим «родственникам». Для «белых арийцев» это стало большим и радостным событием. Известная этимологическая «формула»[9] – Dyaus-pitr (санскрит) = Zeus-pater (греческий) = Jupiter (латынь) – считается одним из величайших открытий XIX века; узнав, что санскрит, греческий, латынь и современные европейские языки восходят к одному первоисточнику, ученые обрели возможность реконструировать праиндоевропейский язык, ставший «предком» других индоевропейских языков. В этом праязыке использовались заднеязычные звуки, впоследствии они видоизменились по неизвестной причине и в языках восточной ветви (индийской группы) превратились в щелевые согласные, а в языках западной – в звуки [k], [kh], [g], [gh]. Возьмем для примера слово «собака»: по-гречески это будет «kuon», на латыни – «сanis», эти языки относятся к западной ветви. На санскрите «собака» звучит как «svan», на литовском – «szuo», эти языки относятся к восточной ветви. Числительное «сто» на латинском языке звучит как «centum», на греческом – «Hekaton», на авестийском – «satem», на санскрите – «sata», на литовском – «szimtas», на древнеболгарском – «suto», на русском – «sto». Обычно для исследований берется какое-то общеупотребимое слово, для западной ветви это слово «centum», а для восточной – «satem». Все эти языки развились из одного праиндоевропейского языка, однако приобрели со временем свои особенности. Иногда два языка довольно близки друг к другу, как, например, авестийский язык и санскрит. Многие из перечисленных выше фактов – результаты лингвистических экспертиз. Применив их в исторических исследованиях, мы сможем наметить четкую схему миграции и дифференциации индоевропейской этнической группы: европеоиды, живущие в наши дни в Европе и Азии, за тысячи лет до нашей эры были единой «семьей». Они проживали в определенном районе Старого Света, и их численность едва ли была большой. Впоследствии они разошлись, возможно, из-за несхожести религиозных воззрений или политических взглядов. Одна часть двинулась на запад, и через тысячи лет их потомки образовали там многочисленные государства. Другая отправилась на юго-восток. По пути переселенцы остановились в районе современного Ирана и на некоторое время там задержались. Затем, вероятно, снова наступила фаза внутренних конфликтов, одни переселенцы остались на месте, другие пересекли горы и устремились в Индию, став предками нынешних индийцев. Прочитав мой короткий анализ, любой может понять, насколько значимы эти события для мировой истории, а сообщает нам о них языкознание.
Итак, праиндоевропейцы расселились в некоем районе Старого Света. Что же это за район, спросите вы. Да, вот еще один важный вопрос исторической науки! Археология, история первобытного мира и антропология могут помочь нам отыскать ответ на него, но без лингвистики эти науки могли бы предоставить лишь небольшое количество разрозненных сведений. Только язык способен объединить их и предоставить окончательный ответ, так обратимся же снова к лингвистике. Сперва рассмотрим, какие слова были в праиндоевропейском языке, реконструированном учеными. Особое внимание обратим на существительные, обозначающие животных, здесь можно заметить, что есть слова «корова», «лошадь», «овца», «собака», «свинья», «медведь» и др., но нет слов «тигр», «слон», «лев», «осел», «верблюд». Из обозначений растений можно отметить слова «ива», «береза», «бук» и др. Поскольку в праиндоевропейском языке нет слов, обозначающих тигра, слона и льва, это может означать, что праиндоевропейцы не встречали таких животных, а значит, не могли жить в тропическом климатическом поясе; в то же время нет и слов для обозначения моря, то есть и существование вблизи от морского побережья исключается. Также нет слова для обозначения верблюда, вероятно, они не знали, что такое пустыня. Однако этих данных недостаточно, чтобы с уверенностью сделать вывод о месте, где жили наши общие предки. Посмотрим на существительные, обозначающие растения. Среди них наиболее важное – «бук». Согласно многочисленным наблюдениям и исследованиям ученых, если провести линию из крупного немецкого города Кёнигсберга[10] в Северной Европе на юг, минуя Киев, к Одессе, расположенной на Черном море, бук будет произрастать только западнее, но не восточнее этой линии. Таким образом, родина праиндоевропейцев должна располагаться к западу от нее. Подводя итог, мы можем сказать, что местность первоначального расселения праиндоевропейцев, вероятно, находилась в районе от Центральной Европы до Северной Европы и простиралась дальше на восток. Взяв за основу сведения, предоставленные лингвистами, и учитывая исследования в других научных областях, мы получили очевидный результат. Изучение этого очень важного для истории вопроса опирается на языковую науку, а археология и антропология играют здесь лишь вспомогательную роль. Установить место, откуда расселялись праиндоевропейцы, – задача сверхсложная. Выше я изложил немало данных и пришел к неким выводам, которые могут показаться окончательными. Однако этот вопрос не так прост, как мои рассуждения, поэтому его нельзя считать закрытым. Для дальнейших исследований по-прежнему требуются усилия многих ученых, но вне зависимости от того, каков будет масштаб такой работы в будущем, выводы, полученные благодаря языкознанию, опровергнуть уже не получится. Ученые только дополнят их, чтобы приблизиться к истине.
С первым вопросом связан и второй, который также поднимается лингвистами. Известно, что есть две ветви индоевропейских языков – западная и восточная, их грамматические явления и географическое распределение не противоречат друг другу. Это выглядит абсолютно естественным и не вызывает никаких сомнений, а изучением этого явления занимались сравнительные лингвисты XIX века. В начале XX века ученые открыли в Центральной Азии несколько новых языков, вне всякого сомнения, принадлежащих к индоевропейской семье, среди них оказался и тохарский. Географически тохарский язык должен относиться к восточной ветви, поскольку все письменные свидетельства о нем были обнаружены в китайском Синьцзяне. Грамматика же этого мертвого языка определенно относится к западной ветви. На тохарском числительное «сто» звучит как «kant», что говорит о принадлежности тохарского к разряду «centum». Почему же среди индоевропейцев восточной ветви появилась этническая группа, говорящая на языках западной? Сейчас нет ответа на этот вопрос, разгадка которого смогла бы приблизить нас к пониманию взаимоотношений между культурами.
Третий вопрос также относится к индоевропейским языкам. Господин А. Сталь фон Гольштейн[11] однажды отметил, что в китайском языке есть слова, которые, похоже, как-то связаны с индоевропейскими языками[12]. Например, слово «собака» («цюань»), видимо, имеет то же происхождение, что греческое «kuon» и латинское «canis». Если мы обнаружим больше подобных примеров, не исключено, что у нас получится доказать общее происхождение китайского и индоевропейских языков и объединить китайцев и индоевропейцев в одну семью. Исключать такую возможность я не стану, однако замечу, что сейчас у нас нет никаких доказательств этой теории. Для решения подобной задачи следует брать в качестве примера для подражания методы европейских ученых и с их помощью изучать древнее произношение китайских иероглифов. Так мы реконструируем пракитайский язык, а затем сможем сравнить его с праиндоевропейским. Это, конечно, очень важный вопрос для исторической науки. Здесь мы также должны использовать инструменты лингвистики.
Мой второй пример касается расовой принадлежности людей, населявших в древности земли к западу от Китая. Сейчас в Центральной Азии и китайском Синьцзяне живут в основном тюркские народы, но кто населял эти регионы до прибытия туда тюрков? В некоторых древних китайских исторических книгах описываются происходившие там события, но из этих записей сложно понять, к какой расе принадлежали эти так называемые варвары («хужэнь»). В главе «Государство Юйтянь» «Повествования о Западных землях» («Сиюйчжуань») хроник «Вэй шу» есть описание их наружности: «К западу от Гаочана у жителей всех стран глаза лежат глубоко, а носы выступают вперед. Только в одной из этих стран люди обликом похожи не на ху (варваров), а на хуася (китайцев)». То есть, отличие хужэнь от китайцев состоит в том, что «глаза лежат глубоко, а носы выпирают вперед». Безусловно, у европеоидов «глаза лежат глубоко, а носы выпирают вперед», но тюрки тоже не сильно расходятся с этим описанием, поэтому мы по-прежнему не можем с уверенностью установить расу варваров-хужэнь. После того как в конце XIX – начале XX века на раскопках в Центральной Азии были обнаружены древние литературные памятники и некоторые другие артефакты, у нас появилось больше поводов для исследований. Найденные фрески давали весьма поверхностное представление о том, как выглядели хужэнь, не слишком проясняя картину о выступающих носах и глубоко посаженных глазах. Даже на основе эксгумированных черепов стало ясно лишь то, что до прихода тюрков в этих землях проживали индоевропейские народы, а вот какие именно – мы не знаем до сих пор, и раскрыть этот секрет поможет лингвистика.
Из трех новых языков, следы которых обнаружены в начале XX века в Центральной Азии, тохарский образует самостоятельную ветвь. Ученые по-прежнему расходятся во мнениях по поводу этнической принадлежности народа, говорившего на нем, поэтому мы не можем подробно обсудить эту тему. Два других языка – хотанский и согдийский – после изучения были отнесены к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Люди, говорившие на них, скорее всего, тоже были родственны иранцам. Но вернемся к вопросу, поставленному выше: какие народы жили в Центральной Азии до прихода туда тюрков? По меньшей мере мы можем ответить, что большинство представляли иранцы.
Я привел всего два примера, но на деле их гораздо больше. Моей же задачей было показать, как лингвистика способна помочь историческим исследованиям. Пусть сказанное мною – известные всем прописные истины, но их небесполезно озвучить еще раз. Множество самых разных наук помогают в исторических исследованиях, а вот лингвистике, к сожалению, не уделяется должного внимания. Я поднял этот вопрос, чтобы привлечь к нему взоры всех читателей. Кроме того, я думаю, многие лингвисты ограничивают область своих научных интересов только языкознанием, не желая выходить за его пределы. Это вызывает у меня большое сожаление. Конечно, не все результаты лингвистических исследований можно применить к истории, но некоторые подходят для этого, и выводы, полученные в ходе подобных совместных опытов, вполне достоверны. Чтобы побудить своих коллег к действию, я и написал эту статью.
Пекинский университет, 29 ноября 1947 года