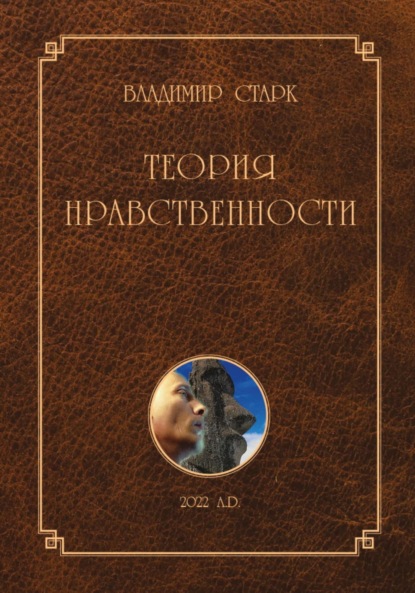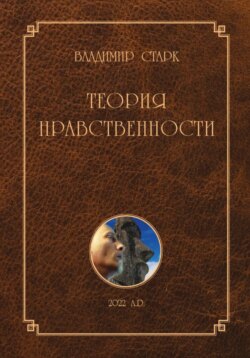
000
ОтложитьЧитал
Умеренность – невоздержанность
Безысходность невоздержанности
Невоздержанность – (неумеренность, жадность, прихотливость, алчность, пристрастие к чему-либо, капризность, сребролюбие). Даже это синонимическое описание комплекса невоздержанности является достаточным свидетельством социальной деструктивности этого человеческого качества.
Невоздержанность удобней всего рассматривать через пристрастие к деньгам. Потому что пристрастие к деньгам – это не пристрастие к «разноцветным фантикам», это пристрастие к тому, что за них можно получить.
А желать богатства человека вынуждают…
1. Страх перед бедностью. Покой обеспеченности.
2. Неудобства бедности. Комфорт обеспеченности.
3. «Постыдность» бедности. Гордость обеспеченности.
Вот собственно и все причины любви к деньгам.
Богатство дает человеку обильную и вкусную пищу, чувство уверенности, комфорт и удовольствия, чувство гордости и «уважение» окружающих, радость за благополучие близких. То есть, богатство, казалось бы, дает человеку все необходимое для счастья, а потому и неудивительно, что богатство – это обычное олицетворение счастья, а стремление к богатству является единственной целью жизни большинства людей.
Но никакое богатство не способно удовлетворить алчного, потому что его желаниям нет предела. Как нет предела совершенству, так нет предела и совершенству того, что человек невоздержанный мог бы хотеть. Исход человеческого стремления к богатству возможен разве что в безраздельной власти над всеми ресурсами мира.
Итог безудержного потребления находит своё олицетворение в известном эксперименте с крысой, в котором грызун, нажимая кнопку, получал удовольствие через вживленный в его мозг электрод. Крыса жала на кнопку до тех пор, пока не умирала от истощения. По сути, человек невоздержанный стремится именно к такому исходу в реализации своих желаний.
Если человек болен или голоден, то он страдает по объективным причинам. Если же человек не болен и не голоден, то желания превышающие эту меру благополучия, уже несут несчастье в самих себе.
Именно желание довольства, счастья и благополучия само по себе и является недовольством, несчастьем и неблагополучием. Желание – это чувство несчастья, и чем сильней желание, тем сильней страдание. То, что мы воспринимаем как неполноту нашей жизни, это обычно лишь страдание нашей неумеренности, которую невозможно удовлетворить, как невозможно потушить пожар соломой.
Чувствовать себя благополучным может только человек, бесстрастно относящийся к мере своего достатка. Не в деньгах счастье, а в их ненужности.
Предметы имущества служат человеку, но когда их становится слишком много, то тогда уже человек попадает в пожизненное услужение к своей собственности. Жизнь человека-стяжателя превращается в ограниченный смертью период накопления и заботы о своём имуществе. Стяжатель живет грядущим благополучием, но не «здесь и сейчас», потому что трудно радоваться сегодняшнему дню непрестанно заботясь о завтрашнем.
«Человек хотящий» иногда замечает безысходность жизни – стяжания, и начинает страдать от бессмысленности своего существования. Но стяжателю больше нечем наполнить свою жизнь, он безразличен к искусному и духовному, ибо прекрасное не несет в себе ни пользы, ни выгоды. Круг интересов стяжателя сужается до проблем прибыли, накопления и экономии, поэтому корыстолюбивый всегда примитивен, ограничен и прозаичен.
Корыстолюбие приносит богатство лишь единицам, но забирает жизнь у всех, кто подчинил ему свою волю. За деньги человек платит жизнью.
Справедливости ради следует отметить, что далеко не у всех человеков есть возможность проявить себя на каком-либо духовно-творческом поприще, в каком-нибудь бесполезном служении музам. А потому и не следует строго судить человека, которому по жизни и заняться-то нечем кроме как положить свою жизнь на алтарь своего благополучия. Нравственная проблема стяжания лишь в том, а не принёс ли человек на этот алтарь в качестве жертвы свою честь, совесть и человечность.
Желания и нравственная деградация
Какой бы безобидной ни казалась естественная человеческая способность хотеть, следует помнить, что именно стремление к тому чего хочется является первопричиной всего зла человеческого – от мелких пакостей и до преступлений.
Неумеренность в желаниях подчиняет и волю, и совесть человека, делает его завистливым, раздражительным, эгоистичным, лицемерным, жестоким, а порой и просто опасным. Страсть к насыщению своих потребностей изживает в человеке доброту, поскольку всякое «да», сказанное другому, это «нет», сказанное себе.
«Человек хотящий» ненадежен как злая собака на тонкой цепи, и если гарантировать всем хотящим полную безнаказанность, то общество будет просто растерзано насилием и беззаконием. Но и без таких умозрительных крайностей очевидно, что господство желаний над совестью определяет меру человеческой недружественности и непорядочности. Как это ни странно, но задачей закона и права является именно ограничение человека в его стремлении реализовать свои желания любой ценой.
Порок неумеренности, как и любой другой, преодолевается всеми по-разному. Иной, чуть только преодолевает опасность голода, как тут же освобождается от пристрастного отношения к деньгам, а иной душится за каждую копеечку даже если у него полные сундуки и банки добра. И это было бы ещё пол беды, но человек алчный за каждую копеечку душит и окружающих. Вспомним что большинство подлостей и преступлений имеют в своей основе именно материально практические интересы. Социальная гармония, мир и согласие в весьма значительной степени разрушаются человеческой неумеренностью, жадностью, прихотливостью.
Человек руководствующийся моралью не совершает зла для реализации своих желаний из страха перед осуждением и наказанием. А такой человек по сути не является честным, но лишь трусливым, слабым и лицемерным. В проявлениях человек показной, в желаниях – истинный. «Праведность страха» в традициях общественной морали истинна, но в рамках нравственности «праведность страха» – это обычное лицемерие.
Богатый обречен нести по жизни чувство неловкости перед теми, кому он мог бы помочь суммой, которая для него ничего не значит. Но нести по жизни моральную ответственность больших денег тяжело, проще скинуть ее вместе с чувством сопереживания. А человек, изживший в себе способность сочувствовать, обречен на нравственную деградацию.
Однако, добродетель умеренности отнюдь не подразумевает отказа от благополучия, добродетель умеренности не в страданиях нищенского существования, но лишь в бесстрастном отношении к мере своего благополучия. Зло не в благополучии, но лишь в том, какой мерой беспринципности, бесчестности и жестокости человек готов заплатить за своё благоденствие.
Нравственно аскетической задачей человека является лишь сохранение своей чести и совести от нравственных издержек пристрастия к удовлетворению своих желаний. Суть аскетического баланса между желаниями и свободой от их диктатуры наиболее точно сформулировал апостол Павел: «Всё нам позволительно, но ни что не должно обладать нами».
В заключение
Лицемерие. – Искренность
Весьма обширная нравственная проблема «лицемерие – искренность» не является нравственно первичной, она является лишь следствием общего нравственного состояния личности. Лицемерие (лукавство, притворство, неискренность, лживость) свойственны человеку лишь в той мере, в какой человеку приходится скрывать свою безнравственность.
Например, человек беспринципный и бессовестный лицемерен лишь настолько, насколько ему приходиться изображать благородство и порядочность.
Человек злой и эгоистичный лицемерен лишь настолько, насколько ему приходиться изображать благожелательность и доброту.
Человек обидчивый и мстительный лицемерен лишь настолько, насколько ему приходится изображать великодушие и снисходительность.
Человек жадный и корыстный лицемерен лишь настолько, насколько ему приходится изображать щедрость и бескорыстие.
Человек высокомерный и тщеславный лицемерен лишь настолько, насколько ему приходится изображать скромность.
Мера лицемерности человека определяется его нравственным состоянием. И если человек, живущий по совести, может себе позволить быть самим собой, то человек нравственно нездоровый вынужден непрестанно практиковать лицемерие. И эти два типажа на первый взгляд ничем не различаются. Потому и бытует мнение, что люди в нравственном плане примерно одинаковы, но это равенство очень обманчиво. Даже Чикатило с виду ничем не отличался от простодушного советского интеллигента.
Если бы страх перед общественным мнением не вынуждал лицемеров представляться людьми порядочными, то общественные нравы вероятно опустились бы до грани уголовного кодекса. Общественная мораль – это формальный кодекс поведения, но он по крайней мере принуждает человека к приемлемому поведению в рамках моральных норм, которые приняты в том или ином сообществе. Плохо что эти приличия обычно воспринимаются как кодекс этической безупречности.
Нравственное состояние человека определяется не тем, что он говорит и делает, а тем, что он не может открыто себе позволить. Человек нравственный удерживается от зла главным образом своими нравственными убеждениями, человек же моральный – страхом перед наказанием и дурным мнением о себе.
Человек не может быть искренним, не изжив тех качеств, которые ему приходится скрывать. Все те проявления характера, которые человек вынужден прятать, накладывают на человеческое поведение отпечаток фальшивости. Мера же этой фальши определяется и искусностью человеческого притворства, и масштабом безнравственности, которую человеку приходится прятать за своей благопристойностью.
Лицемер, производящий впечатление вполне приличного человека, в кризисной ситуации может открыться с очень неожиданной стороны и сильно удивить низким моральным уровнем своих действий и суждений. Злая воля, разрушающая внутренний мир человека приватна, но она неизбежно изливается на окружающих, когда приходит время. Моральность, движимая выгодой и страхом, прекращает своё существование, как только перестает приносить пользу, в этом этическая слабость морали.