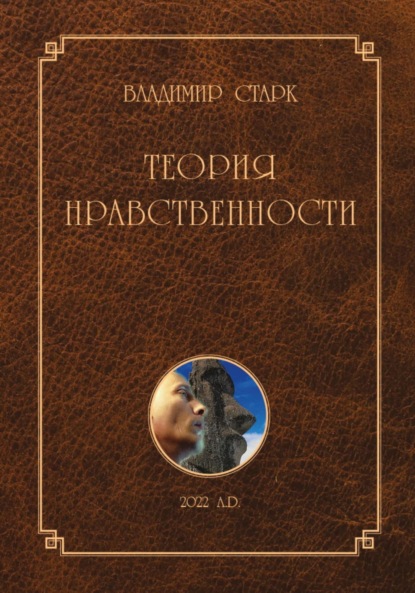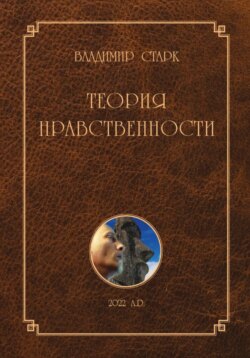
000
ОтложитьЧитал
Клановый эгоизм
Во фразеологической традиции нет словосочетания «клановый эгоизм», и это очень странно, ибо явление это повсеместное, если не сказать – тотальное. Клановый эгоизм проявляется как попрание нравственного закона в угоду близким людям, клановым интересам. Клановые интересы связывают государства, этносы, сословия, сообщества, религиозные конфессии, родственников, знакомых, семьи… Предпочтительность клановых интересов определяется для человека лишь его близостью к тем или иным социальным группам.
Клановый эгоизм легко прощает «своим» любую несправедливость, если конечно она совершена против «чужих», «чужим» же клановый эгоизм не прощает ничего.
Клановые интересы как бы освобождают человека от необходимости соблюдать законы добра и справедливости, они как бы снимают с человека личную нравственную ответственность за бездушность, беспринципность, лукавство и жестокость эгоизма коллективного. Русская пословица определяет механизм этой ложной невиновности следующим образом: «Где все виноваты, там никто не виноват».
Клановые эгоизм, ксенофобия и гордыня ведут к тем же проявлениям зла, что и личные пороки, но в силу их массовости они могут разрастаться до масштабов социальной катастрофы. Клановый эгоизм государства становится уже политической проблемой.
Сложность понимания слова «фашизм» определяется тем, что фашизм отождествляется с нацизмом (этническим клановым эгоизмом). Но фашизм, от итальянского fascio – союз, связка, объединение может быть основан на любой системе воззрений. Сама этимология слова «фашизм» свидетельствует о его тождественности клановому эгоизму.
И либеральная идеология может быть фашистской если она экспансивна, агрессивна и тоталитарна. И футбольный фан-клуб – это тоже небольшая фашистская организация, страстно исповедующая клановое превосходство. Клановый протекционизм (непотизм) как общепринятая традиция может разрастись до такой степени деструктивности, что порой приводит и к деградации государственности, в силу того, что к руководству политическими, экономическими и социальными институтами приходят люди неспособные к должному выполнению своих служебных обязанностей.
Вот что писали о клановом эгоизме некоторые мыслители…
«Имеется не только одиночный или индивидуальный эгоизм, но также и эгоизм социальный, эгоизм семейный, корпоративный, общинный, патриотический».
Л. Фейербах
«Разве эгоизм государства не такой же порок, как эгоизм отдельного человека?»
К. Берне
«Не есть ли единение с десятками – разъединением с тысячами и миллионами?»
Л. Толстой
«Даже шайка разбойников должна соблюдать какие-то требования морали, чтоб остаться шайкой; они могут грабить весь мир, но не друг друга».
Р. Тагор
Ксенофобия – это проявление кланового эгоизма, это нетерпимость по отношению к чужим, иным, другим, к отличающимся, выделяющимся и непохожим. Беспочвенная на первый взгляд неприязнь к «чужим», порождается клановой гордостью, завистью, корыстными интересами, субъективным пониманием чужой неправоты и клановыми представлениями о должном. Но такие причины недружественности по отношению к «чужим» осознавать неприятно, а потому они всегда подменяются клановыми идеями справедливости.
Разумеется, предпочтительность интересов близких людей нельзя в полной мере считать клановым эгоизмом, но, по крайней мере, не следует приносить интересы «чужих» в жертву интересам «своих». Человек не может быть совершенным альтруистом, хотя бы потому, что и ему надо как-то выживать в этом мире, то же можно сказать и об интересах социальной группы. И провести четкую границу между достаточным альтруизмом и неподобающем эгоизмом невозможно. Эту границу проводит каждый сам для себя, как ему совесть подсказывает.
Совесть – бессовестность
Любовь к ближнему – качество нестабильное. Иной раз и человек добрый может несправедливо или даже жестоко попрать интересы и чувства ближнего своего, иногда сгоряча, а иногда соблазнившись предпочтительностью личных интересов. Но после чуть менее страстной оценки ситуации у обидчика, бывает, возникают чувства вины и неправоты. Такова обычная ситуация проявления совести.
Посочувствовать пострадавшим от чужого зла – дело нехитрое, тут даже доброта не требуется, достаточно и гордыни собственной праведности. Но посочувствовать тому, кто пострадал от твоего же собственного зла, возможно только с признанием своей неправоты, с отвержением личных интересов и гордыни, а потому это гораздо более трудная и высокая форма нравственного поведения нежели обычная доброта. Совесть – это та же любовь к ближнему (сочувствие), но отягощенная чувством своей вины перед ним, иногда вины косвенной, или даже последствиями не сделанного доброго дела.
В большинстве случаев совесть пресекает недобрые намерения превентивно, но страх перед осуждением и наказанием останавливает зло чаще. Страх эффективней совести в деле улучшения нравов, потому его и иногда и принимают за нравственное чувство. Но страх перед осуждением и наказанием никак не влияет на нравственное состояние человека, а только на его обычай следовать нормам морали и закона.
Всякое человеческое взаимодействие нравственно окрашено. Даже мимолетное обращение к ближнему окрашено или скрытой неприязнью к нему, или стремлением эту неприязнь преодолеть, равнодушием или участием, благожелательностью или раздражением, деликатностью, пренебрежительностью, лукавством, великодушием, высокомерием… (Без)нравственные проявления – это неотъемлемая составляющая любого социального контакта.
Совесть же позволяет различать в своих чувствах, мыслях, словах и поступках проявления зла, непорядочности, несправедливости, лукавства во всей их глубине и тонкости. Есть мнение, что голос совести – это голос Бога. И это очень похоже на правду, потому что совесть всегда требует поступать по-евангельски.
А ещё, во многих европейских языках слово «совесть» происходит от словосочетания «совместное знание». Со-весть, совместное ведение, общее знание. А какое еще знание должно быть органично присуще человеку, если Господь ничего не требует от человека кроме соблюдения нравственного закона…
Испытывать сопутствующие голосу совести чувства вины и неправоты унизительно для человеческой гордости, а потому человек избегает замечать зло в проявлениях своей воли, легко находит себе оправдания, а как следствие, утрачивает и зоркость нравственного чувства, и способность к нравственному развитию.
Несовестливый может быть столь виртуозен в самооправдании, что может считать себя человеком порядочным, даже если у него руки будут по локоть в крови. Нравственная безнадежность человека несовестливого в том, что его нравственное самодовольство чистосердечно, он честен в своей нравственной слепоте.
У человека нет более доступного объекта для изучения тонких человеческих проявлений, чем он сам. Насколько глубоко человек понимает себя, настолько глубоко он понимает всех. Но человек несовестливый не способен различать в своём поведении все те демагогические уловки, которыми он оправдывает своё зло, свой эгоизм, свою несправедливость и беспринципность.
Несовестливый избегает объективного самопонимания, потому что не желает замечать, что его поведение зачастую определяется такими его качествами, как алчность, беспринципность, бессердечие, бесстыдство, высокомерие, гордыня, двуличие, жадность, жестокость, злопамятность, зловредность, злорадство, зависть, интриганство, корыстолюбие, лживость, лукавство, льстивость, мелочность, малодушие, мстительность, нечестность, недоброжелательность, невоздержанность, недобросовестность, нетерпимость, неблагодарность, несправедливость, притворство, равнодушие, раздражительность, самодурство, самоуверенность, скупость, сварливость, тщеславие, угодливость, упрямство, хвастовство и т. п.
Из-за нежелания замечать в себе эти и тому подобные проявления, человек искажает и ограничивает понимание самого себя, а как следствие он и окружающих воспринимает так же поверхностно примитивно, то есть как глупец.
Несовестливый или не замечает зла в проявлениях своей воли, или воспринимает его искаженно оправдательно, таким образом, человек утрачивает способность объективно понимать огромное количество тонких человеческих мотиваций и проявлений.
То, что человек живущий по совести воспринимает мудрость можно легко заметить на примере людей глубоко порядочных: они неизменно отличаются объективностью и тонкостью мышления. Люди же корыстные, злые, суетные, беспринципные, лукавые, пошлые всегда отличаются мышлением демагогичным и примитивным, ум таких человеков – это их хитроумие.
Человек совестливый, замечает в себе все более сокровенные уровни лукавства, нравственного самообмана и беспринципности, замечает именно те свои побуждения и проявления воли, которые человеку и не хочется замечать, что дает человеку проницательность и в понимании других людей.
Но проницательность совести не ведет к осуждению окружающих, ибо чужая неправедность обязательно напоминает совестливому о своей собственной. Несовестливый же напротив, всегда старается осудить других для того, чтобы выглядеть в своих глазах ещё лучше. Злословящий всегда стремится доказать одну и ту же мысль: «А вот я, хороший!».
Не замечать зло в проявлениях своей воли, поступать против совести и справедливости человека заставляют три фактора…
а) Аэмпатичность – безразличие к интересам и страданиям окружающих.
б) Гордость, для которой унизительны чувства вины и неправоты.
в) Неумеренность, для которой личные интересы превыше правды и справедливости.
Эта, казалось бы, простейшая структура пороков душащая совесть человеческую включает в себя весь спектр недружественного, социально деструктивного поведения. Эти базовые причины зла определяют всё многообразие безнравственных проявлений человека.
Именно аэмпатичность, гордость и неумеренность заставляют человека в ситуациях нравственного выбора подавлять свои нравственные рефлексии и фальсифицировать свою правоту демагогическими уловками самообмана.
В нравственно окрашенных ситуациях императивы совести всегда направлены против интересов, желаний и амбиций человека. Человеку не выгодно слышать голос совести, и в случае острой заинтересованности, человек может совершенно искренне оправдать или вовсе не заметить в своих проявлениях сколь угодно страшное зло.
Совесть – это единственный ориентир, следуя которому характер человека может исправляться сообразно нравственным законам, законам социальной гармонии. Преимущество человека совестливого заключается в том, что проявления его воли, становятся все более сообразными правилам добра, и как следствие, наносят все меньший ущерб социальному согласию.
Из великого множества, обычно незаметных даже самому человеку, нравственных предпочтений воли и формируется вектор нравственного роста человека. А выбор модели поведения в такого рода ситуациях всегда делает совесть.
Совестливость – это единственно возможный способ становиться добрей, честней, дружественней, великодушней. Но дело даже и не в нравственных качествах самих по себе, а в том, что характер человека совестливого становится социально дружественным.
Общество, идеология, Церковь подмешивают к нравственным законам множество моральных норм и правил, эти приличия обязывают «моралистов» стыдится их нарушения. У человека же живущего по совести формируется этически достоверное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и зло. Обычай чувствовать вину в должной мере и за то, за что её действительно следует испытывать, освобождает человека нравственного от ответственности перед обществом за формальную благопристойность своего имиджа.