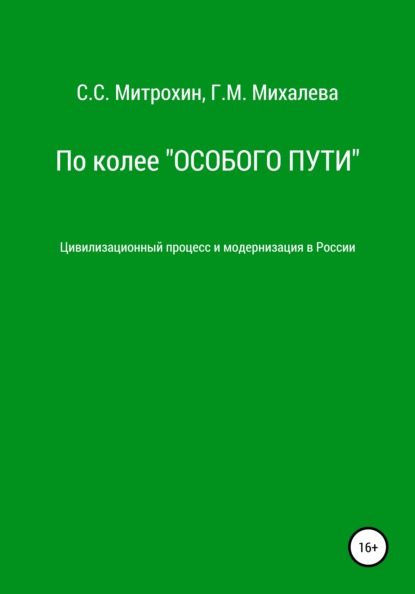По колее «Особого пути». Цивилизационный процесс и модернизация в России

000
ОтложитьЧитал
От мобилизации к сверхэксплуатации
В государстве, не обладающем развитой правовой системой и глубоко укоренившимися традициями обеспечения справедливости, постепенно накапливается и в одно не слишком прекрасное время побеждает соблазн правящей элиты использовать власть не столько ради выживания и/или развития страны, сколько с целью обогащения или даже сверхобогащения – за счет остального населения этой страны.
В современной политологии подобный тип государства хорошо изучен. Д. Асемоглу и Дж. А. Робинсон называют его «экстрактивным» (от англ. to extract— «извлекать», «выжимать»), институты которого «направлены на то, чтобы выжать максимальный доход из одной части общества и направить его на обогащение другой»52.
Экстрактивное государство эти авторы противопоставляют инклюзивному (от англ. inclusive – «включающий в себя», «объединяющий»).
Сравнивая ситуацию в современной Северной Корее и Латинской Америки времен колониализма, они подчеркивают наличие между ними общих экстрактивных особенностей. «Ни здесь, ни там не существовало ни независимой правовой системы, ни равных возможностей для всех. В Северной Корее правовая система является всего лишь одним из инструментов коммунистической партии, в Латинской Америке она в основном использовалась для того, чтобы поддерживать дискриминацию трудового населения»53.
Для стран свободного мира характерны совсем другие институты, которые Робинсон и Асемоглу называют инклюзивными54:
«Они разрешают и, более того, стимулируют участие больших групп населения в экономической активности, а это позволяет наилучшим способом использовать его таланты и навыки… Частью инклюзивных институтов являются защищенные права частной собственности, беспристрастная система правосудия и равные возможности для участия всех граждан в экономической активности…»55.
Однако, как представляется, Асемоглу и Робинсон в чем- то упрощают картину. Это видно даже на приведенных им примерах. Авторы игнорируют историю формирования экстрактивных государств. В Северной Корее она связана с мобилизацией населения компартией на решение различных национальных задач, в первую очередь –противостояние с США и в целом с Западом. В Латинской Америке этот тип государственности возникал в процессе порабощения и прямой эксплуатации коренного населения испанцами.
В Южной Америке государство сразу создавалась как экстрактивное, для чего с самого начала вводился институт энкомьенда, сочетавший налоговое время с барщиной на рудниках.
Другая ситуация была не только в Северной Корее, но и во многих других странах незападного мира, где государство систематически занималось мобилизацией населения, необходимой для решения задач выживания и/или развития. К их числу, безусловно, относится и Россия.
Более близкое (географически) к ней сопоставление можно провести на примере так называемого «вторичного закрепощения крестьян» в Восточной Европе: Пруссии, Польше, части империи Габсбургов. В этих странах закрепощение осуществлялось в основном по экономическим причинам: стимулом к сверхэксплуатации крестьян были сверхвысокие доходы от экспорта зерна в Западную Европу. Россия до 19 века не демонстрировала столь высоких объемов экспорта зерна, в определенные периоды такой экспорт вообще был запрещен. Главной причиной закрепощения здесь была мобилизация крестьянства с целью материального обеспечения военной и иной государственной службы дворян. Применяя терминологию Асемоглуи Робинсона, цели «экстрактивности» были разные. В Восточной Европе цель заключалась в обогащении помещиков, т. е. там экстрактивное государство, как и в Южной Америке, устанавливалось сразу с целью прямой эксплуатации. В Московии главной целью первоначально была мобилизация социума на решение государственных задач: выживания и территориальной экспансии в условиях нескончаемых войн.
Эти задачи решались путем создания системы государственного давления на основного производителя страны с целью выжимания из его труда максимально возможной доли общественного прибавочного продукта, неизбежно скудного в условия зоны рискованного земледелия, в которой находилась Московия56.
При Петре I к задачам выживания и экспансии добавился еще и «рывок развития», связанный со стремлением догнать Европу. Обогащение дворянства за счет крестьян при этом, разумеется, происходило, но было не целью, а следствием мобилизации.
Руководствуясь целями мобилизации социума на достижение «общего блага», Петр исходил из того, что «каждый, независимо от своего социального статуса, должен приносить государству пользу, быть эффективным элементом единого государственного организма». Различные сословия были «нагружены» различными видами государственного тягла, каждое по-своему должно было выполнять свой «общественный» долг.
В этой своей установке Петр не был оригинален и, по сути, не изобрел ничего нового. Новой была только идеология «общего блага», заимствованная у западных философов того времени. Как ни парадоксально, реализовать эту идеологию в России было проще, чем в Западной Европе, так как этому очень хорошо помогали мобилизационные институты, созданные в Московии, прежде всего поместная система и крепостное право.
Но поместная система содействовала решению задач мобилизации постольку, поскольку сочеталась с институтом обязательной государственной службы дворян, который резко усилился при Петре I.
«В 17 веке дворянин был отнюдь не свободен, а его служба была обязательной. Однако при том, что он служил в нерегулярной армии, он был, конечно, гораздо свободнее, а вся его жизнь менее регламентирована, менее подвержена неусыпному контролю со стороны государства»57, который установился при Петре, резко увеличившим объем требований к дворянской службе. «В результате реформ Петра степень несвободы русского дворянства, как и других слоев русского общества, резко возросла»58.
«Петровская политика в отношении дворянства была в сущности закрепостительной», так как свобода дворян резко ограничивалась даже по сравнению с 17 веком. Е. В. Анисимов в связи с этим ставит под сомнение правомерность применения к дворянству термина «господствующий класс»59.
По сути, дворянство при Петре было таким же подневольным классом, как и остальные, включая крестьян. «Дворянин или недворянин, вне зависимости от наличия и отсутствия каких-либо привилегий, каждый житель империи должен был исполнять свою строго определенную функцию, состоящую в служении государству, вносить свой вклад в приумножение его богатства и могущества»60.
Когда работают механизмы мобилизации, главным эксплуататором выступает не какой-либо класс, а само государство во главе с его лидером. Каждый из классов общества при этом является по-своему эксплуатируемым, хотя и в разных формах и при различных размерах присвоения прибавочного продукта.
Однако, как уже отмечалось выше, продолжительность периода мобилизации не может быть слишком долгой: никакой социум не в состоянии выдерживать чрезмерно долгого напряжения сил. В какой-то момент узда государственного контроля ослабевает, от чего одни социальные группы выигрывают, а другие проигрывают.
Те из них, которые находятся в более сильной позиции, прибирают к рукам механизмы извлечения («экстракции») прибавочного продукта, сформированные в период мобилизации, и именно таким образом становятся эксплуататорами.
Подобной ситуации можно избежать только в том случае, когда в ходе мобилизации заимствуются институты, названные выше инклюзивными. Благодаря им в процесс принятия решений включаются все группы населения либо какая-то их критическая масса. «Слабые» становятся сильнее и не дают «сильным» присвоить столько власти, сколько необходимо для удержания под их контролем процесс присвоения совокупного общественного продукта.
Петровские реформы почти совсем не предполагали заимствование из Европы инклюзивных институтов, а значит, и тех «двигателей прогресса», которые были связаны с зонами автономии (см. выше). По сути, главным двигателем этих реформ был только сам Петр. По этой причине после его смерти реформы остановились, и начался долгий застой. Застой приводит к тому, что экстрактивные институты государства, которые раньше работали на достижение «рывка развития», начинают применяться, в первую очередь, с целью присвоения прибавочного продукта правящей элитой, в результате чего она во многом утрачивает свое значение для решения национальных задач и становится паразитической.
Именно это и произошло после смерти Петра. В отношениях государства к различным сословиям наметился явный дисбаланс пристрастий в пользу дворянства. Если раньше крепостное право было не только инструментом эксплуатации, но и мобилизационным институтом, необходимым для выживания и экстенсивного развития государства, то после Петра эта задача утратила приоритетность, а эксплуатация крестьян помещиками стала его основной функцией.
Идеология «общего блага» была забыта, уступив место установке на достижение блага только одной дворянской элитой. Если ранее состояние закрепощения крестьян можно было трактовать и оправдывать как продиктованное «государственной нуждой» мобилизации, то теперь оказывалось, что оно сохраняется исключительно с целью обслуживания «демобилизованного» дворянства – единственного и отдельно взятого сословия, которому государством было решено вручить гражданское общество, местное самоуправление и все остальные подарки Просвещения.
Указом 1730 года запрещалось дворовым, монастырским слугам и всем крестьянам приобретать недвижимую собственность. Межевая инструкция 1754 года запрещала всем недворянам владеть населенными имениями. В 1731 году крепостным крестьянам было запрещено вступать в откупа и подряды. А в 1734 году – заводить суконные фабрики. Указ 1747 года предоставлял помещикам право покупать дворовых для отдачи в рекруты, а также продавать кому угодно для этой цели своих крестьян. «Дворянин становился полновластным судьей в своих владениях, и его действия в отношении крестьян не контролировались со стороны органов государственной власти, суда и управления»61.
Логическим завершением этих «реформ», пронизанных традициями «пренебрежения земной справедливости» (см. предыдущие главы) стали Манифест о вольности дворянства 1761 года, Жалованная грамота 1785-го, которые к освобождению дворян от обязательной государственной службы добавили еще и переход в их полную частную собственность поместий вместе с проживающими на них крестьянами. Иными словами, в 18 веке было сделано максимум возможного для того, чтобы создать такие институты, которые «направлены на то, чтобы выжать максимальный доход из одной части общества и направить его на обогащение другой». Жалованная грамота и другие законы, принятые при Екатерине II, обеспечили формирование экстрактивного государства примерно такого же типа, как в Южной Америке. Никаких принципиальных отличий нет, например, между ситуацией в России после екатерининских времен и на острове Барбадос после его колонизации англичанами. Перепись 1680 года установила, что на острове живут 60 тыс. человек, из которых 38 тыс. – рабы. Большей частью рабов владели 175 сахарных плантаторов. «Их право частной собственности – как на землю, так и на рабов – было отлично защищено». При этом для рабов не существовало никаких инклюзивных политических институтов: две трети населения не имели доступа ни к образованию, ни к возможности заниматься предпринимательством, у них отсутствовали стимулы для того, чтобы усердно работать и развивать свои таланты»62.
Следуя подходам Асемоглу и Робинсона, инклюзивным является только институт всеобщего права частной собственности. Отсутствие частной собственности как таковой – это ситуация, когда процветают экстрактивные институты, связанные с государственной эксплуатацией. Наиболее интенсивная и безжалостная эксплуатация возникает в таких странах, где институт частной собственности является достоянием отдельно взятых социальных групп, а для большей части населения либо не доступен, либо защищен в меньшей степени.
По данному признаку – собственность не для всех – послепетровская Россия может быть поставлена в один ряд с эксплуататорскими режимами не только Барбадоса, но и многих других стран Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.
Особенность российского рабства заключается в том, что оно не является феноменом, навязанным извне, а продиктовано логикой российского цивилизационного развития.
Порожденное в процессе мобилизации социума, необходимой для его выживания во времена Московии, рабство сначала служит хорошим подспорьем при Петре, когда оно облегчает задачу еще большей мобилизации, а после него оказывается просто наследием, помогающим существованию и процветанию правящего класса.
Петербургская цивилизация
Паразитическое (экстрактивное) государство, опирающееся на принудительную частную эксплуатацию, является одной из важнейших «новаций», отличающей петербургскую империю в послепетровский период от Московии. Связь с Московией тем не менее здесь очевидна, поскольку данная «новация» из нее органически вырастает. Прямым продолжением Московии являются православие как господствующая идеология и самодержавие как политическая система.
Однако после петровских реформ эти важнейшие «скрепы» помещаются в новую социально-культурную среду, выпадают из контекста цельности и гармонии, которые были характерны для Московии. Главный водораздел между нею и ее петербургской преемницей проходит по линии утраты целостности и перехода к расколу – между модернизированной элитой, образованной (либо полуобразованной) в европейском духе и основной массой населения, остающейся во власти традиционной крестьянской архаики.
Понятие «расколотая» применима к Петербургской цивилизации еще и потому, что этот фундаментальный раскол был не единственным. В дополнение к нему произошел еще и раскол внутри самой элиты, неизбежный по той причине, что «европеизация» носила крайне непоследовательный и противоречивый характер.
Проводя свои знаменитые реформы, Петр боролся не со всем наследием Московии, а только с его частью. Другую часть он укреплял. Он прорубал окно в культуру, военное дело и бюрократическую организацию Европы, что же касается окна в ее политическую организацию и экономическую систему, он замуровывал его не менее рьяно, чем московские цари, тщательно укрепляя самодержавие и крепостничество.
Один и тот же проект – строительство новой европейской столицы – Санкт-Петербурга – высветил обе стороны этого противоречия. С одной стороны, был ярко обозначен новый европейский вектор развития. С другой стороны, европейская столица строилась путем тотальной мобилизации бесправной крестьянской массы. В одном и том же (1702) году была выпущена первая в России газета и утверждена формула подписания прошений к царю «Вашего величества нижайший раб».
Следствием подобной противоречивости стал неизбежный раскол элиты. Одна ее часть продолжала держаться старых «московских» порядков, превращаясь в «охранителей» и консерваторов, другая следовала представлениям об ином общественном устройстве, почерпнутым из мировоззрения авторов западных книг. В дальнейшем произошел еще один раскол – уже в этой второй подгруппе элиты. Он был продиктован различиями в содержании этих книг.
Петр I несет ответственность не только за этот цивилизационный раскол, но и за два его совершенно несопоставимых результата: первый – это выдающийся вклад в мировую цивилизацию, который внесла русская культура 19 века; второй – крах российской монархии и династии Романовых.
Первый результат стал возможен благодаря тому, что русская креативность обрела себя во встрече с европейской культурой. Второй получился из-за того, что русская ментальность не дала русской креативности реализовать себя в базовых структурах европейской организации жизни – экономической и политической. А самодержавие, вместо того чтобы трансформировать эту ментальность, на нее опиралось. В этом и заключалась главная причина отсталости.
Наиболее последовательной попыткой преодолеть эту трагедию были Великие реформы Александра II, включая не только отмену крепостничества, которая как раз не была последовательной, но и реформы образования и судебной системы, а также земской.
Проще говоря, Александр попытался прорубить окно в ту Европу, которая осталась закрытой для петровских реформ.
В отличие от Петра, который осуществлял выборочную европейскую модернизацию, Александр II пытался сделать ее более последовательной и системной. Его борьба с московским наследием была более бескомпромиссной, хотя политическую основу Московии в виде самодержавия она затронуть не осмелилась.
Самым главным врагом реформ было наследие экстрактивного государства, сформировавшегося в 18 веке. Его основной институт, обозначенный выше словами «права собственности не для всех», наложил свой уродливый отпечаток на концепцию и реализацию самой важной – крестьянской реформы. Главное уродство заключалось в самом понятии «выкупные платежи», которые крестьяне должны были платить за свою землю только потому, что за 100 лет до этого Петр III и Екатерина II отдали ее в формальную собственность помещикам.
Еще одним врагом реформ было время, в течение которого большинство населения страны, т. е. в основном крестьянство, должно было почувствовать их позитивные результаты. В ходе затянувшихся, не демонстрирующих внятного результата реформ основные параметры паразитического (экстрактивного) государства сохранялись, а ненависть к нему росла и обострялась.
Напротив, на фоне длительного негативного восприятия несправедливых аспектов реформ, ускоренными темпами осуществлялся синтез ортодоксального менталитета с утопическим социализмом, заимствованным с Запада, что было неизбежно в результате «хантингтоновского» столкновения Московской и Европейской цивилизаций внутри России.
Советская Россия – «перезагрузка» Московии
Утопический социализм очень органично вписался в матрицу русской ортодоксальной ментальности. Он обновил ее содержание, но тем самым и вдохнул в нее новую жизнь. Коммунизм стал новой ПРАВДОЙ ортодоксального менталитета взамен отброшенного им православия. На этой основе произошла «перезагрузка» и всех остальных параметров русской ортодоксии. Мессианский комплекс получил второе дыхание в идее освобождения всего человечества путем мировой революции. После этого предметом национальной гордости и фокусом мессианского комплекса стала исключительность в качестве единственной в мире страны победившего социализма. По сравнению с этими великими целями, все такое же – далеко не первое – значение в глазах ортодокса имело, а точнее – полностью отсутствовало в качестве ориентира верховенство права.
Потерпев полный крах, проект европейской модернизации России Александра II по основным параметрам отбросил нашу цивилизацию назад – к Московии. Символическим выражением этого возврата стал перенос столицы из Петербурга обратно в Москву.
В отличие от «русских европейцев», создавших блестящую культуру 19 века, большевики скорее были «русскими азиатами», так как установленный ими политический режим оказался по своему типу даже более близким к восточной деспотии, чем Московское царство.
При этом «русские европейцы», олицетворяющие проект европейской модернизации, вырезались «русскими азиатами» с особой беспощадностью.
Русскую революцию очень любят сравнивать с французской, часто не понимая, либо просто не задумываясь о том, что они имеют совершенно разные цивилизационные векторы.
Французская Революция органично вписывается в Европейский цивилизационный процесс. Огромную роль в ней с самого начала играли юристы, причем на той стадии (Национального Собрания), которая имела долгосрочные последствия. В русской Революции стадии юристов не было, если не считать таковым период Временного правительства, в течение которого «русские европейцы» продемонстрировали, насколько маломощны были их силы в борьбе с традициями Московской цивилизации. Олицетворением русского юриста революционного периода следует считать разве что Андрея Вышинского – фигуру, по своему образу гораздо более близкую таким личностям, как Малюта Скуратов, нежели Анатолий Кони и Федор Плевако.
Деятелям большевистской революции юристы были не нужны, потому что право для них не имело никакого значения, а скорее служило препятствием, хотя и легко устранимым. Придя к власти, они первым делом выбросили из кресел «старорежимных» судей, которые как раз и были представителями слабосильной прослойки «русских европейцев» и посадили вместо них своих, «рабоче-крестьянских».
От Московской цивилизации Советская унаследовала свои базовые характеристики: жесткий моноцентризм власти, диктат ортодоксии и комплекс мессианского превосходства по причине обладания единственно истинной ПРАВДОЙ, изоляция от внешнего мира и конфронтация с Западом, общую модель «сильная власть – слабое общество», приниженное положение права и вытекающее из этого тотальное бесправие населения.
Таким образом, огромное количество «нового», которое принесла русская революция, на самом деле оказалось «хорошо забытым старым». Из крупных достижений революции, создавших основу отличия Советской цивилизации от Московской, следует назвать практически полный отказ от традиций частной эксплуатации.
Это было сделать тем легче, что атеистическая религия, пришедшая на смену христианству, уже не только позволяла, но и требовала установить царство справедливости не на небе, а на земле. И в этом большевизм полностью шел навстречу «вековым чаяниям» русского народа в лице его подавляющего большинства – крестьянства.
Впрочем, традиции частной эксплуатации в ее наиболее интенсивной фазе были той частью Московского наследия, которая сформировалась уже в петербургский период – после реформ Петра. Это была уже скорее Постмосковия, нежели сама Московия. Учитывая данное обстоятельство, можно утверждать, что большевизм вернулся к «чистым» истокам Московской цивилизации, отбросив все «наносное» – примерно так же, как европейская Реформация вернулась к «изначальному» христианству, отбросив все «извращения» католицизма.
Но тем сильней оказалась и компенсация за этот отказ, выразившаяся в обновлении механизмов и тем самым – резком усилении государственной эксплуатации. Все ее виды, существовавшие в царской России, остались либо в полностью сохранившемся, либо изменившемся виде, но при этом появились новые.
Для всех без исключения граждан СССР продолжал действовать порожденный самодержавием институт полицейского паспортного режима. Государственная эксплуатация крестьян, существовавшая в старой России на казенных землях, получила новую жизнь в виде колхозного насилия. С целью усиления внеэкономического принуждения к труду был создан новый для России институт массового рабства (ГУЛАГ), устрашающие масштабы которого не имели прецедента в предшествующей истории России, а может быть, только в III династии Ура и подобных ей восточных режимах. Такое же «новаторство» проявилось и в политике порабощения и/или закрепощения интеллектуалов – в процессе создания «шарашек» и закрытых городов.
В сочетании этих двух революционных преобразований – отказе от частной эксплуатации при усилении государственной – русские азиаты действительно осуществили радикальный разворот России в сторону Азии. Идя навстречу «чаяниям народа», с которыми совпадали базовые установки коммунистической идеологии, они с невероятной силой навязали России чуждую ей до этого восточную традицию вышеупомянутой традиции уравнительной справедливости – киттум.
Благодаря этому большевики смогли провести самую масштабную в русской истории тотальную мобилизацию, преодолев отставание страны по многим направлениям, на которых московское наследие в его «не обновленном» виде ранее являлось тормозом. Речь идет, конечно же, в первую очередь, о рывке индустриализации и связанных с ним успехах в массовом образовании, здравоохранении, некоторых направлениях науки и освоении современных технологий.
Однако эта модель, в рамках которой только государство может быть активным двигателем прогресса, а общество по причине своего бесправия не может, имеет и обратную сторону, о которой уже говорилось выше. Когда исчерпывается потенциал тотальной мобилизации, начинается застой – явление, не знакомое Европейскому цивилизационному процессу.
Во время застоя государство, которое изначально формировалось в целях мобилизации, ослабевает и деградирует. Оно утрачивает экономическую динамику и проигрывает войны, как это было при Николае I и Брежневе.
При последнем, правда, появился такой «спасательный круг», как сибирские запасы нефти и газа. Они позволили продолжать застой, оставив все как есть и ничего не трогать. Без тотальной мобилизации, с одной стороны, и без европейских реформ – с другой. Для оправдания этого«курса» была придумана идеология «реального» или «развитого» социализма. Но рано или поздно застой всегда возвращает Российский цивилизационный процесс в состояние раскола, поскольку ставит ее перед выбором, КАК из него выходить:
• мобилизация или модернизация?
• начинать борьбу с Московским наследием или, наоборот, на него опираться?
При любом выборе цивилизационный раскол является препятствием в преодолении застоя. При проведении модернизации сопротивление Московского наследия осуществляется не только через протесты его охранителей. Более серьезной преградой является его присутствие в мозгах самих реформаторов. При этом то, чего они не делают, подчас бывает гораздо важнее того, что они делают.
Феномен неудачных реформ – это также один из «шифров» генетического кода нашей цивилизации. Силы инерции все время и со всех сторон толкают социум назад, постепенно приглушая те импульсы, которые побуждают реформаторов двигаться вперед.
Нарастающее таким образом сопротивление процессу модернизации делает ее реформы непоследовательными и тем самым обрекает ее на провал, который ставит под вопрос само существование государства. Оно может рухнуть, как это было в 1917 и 1991, либо погрузиться в новый застой, как это происходит сейчас, когда государство сохраняется только благодаря ликвидности своих сырьевых ресурсов.