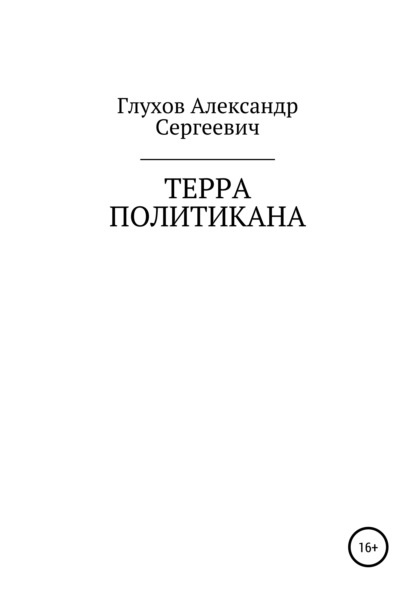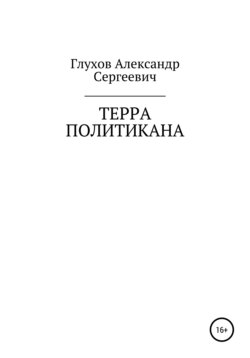
000
ОтложитьЧитал
Впрочем, я отвлекся. Полная аналогия с Уральским экс представителем Холманских, прослеживается в истории с первым покушением на Александра II. Царь прогуливался с собакой, а толпа зевак наблюдала за моционом (то ли императора, то ли собаки). Некто Каракозов, тип, психически неуравновешенный, восторженный и неврастеничный поборник народного счастья, решил августейшего монарха пристрелить. Он долго и неуверенно целился, так долго, что сторож Летнего сада поднял крик. Толпа напала на нерасторопного стрелка и повалила его. В числе схваченных и отправленных в 3 отделение к жандармам, оказался невзрачного вида картузник Осип Комиссаров. Бедолага мысленно готовился к многолетней каторге, когда в чью-то жандармскую голову, пришло что это и есть спаситель государя, который, де, предотвратить роковой выстрел. Трудно сказать, почему выбор пал на столь ничтожную личность, возможно, из-за характеристики, данной воспитателем и опекуном картузника А.С. Вороновым: «Это в сущности препошлый человек… Он от природы туп до крайности…». Что было потом, дело бессмысленное описывать полностью – это займёт многие сотни страниц. Можно упомянуть пунктиром: Осип стал потомственным дворянином Иосифом Ивановичем Комисаровым -Костромским. Империя молилась на него. Антон Рубинштейн сочинял музыку, а Некрасов стихи. Все газеты и журналы источали елей в хвалебных статьях, а иконами, деньгами и почестями несостоявшегося каторжанина завалили… Жена его (дура набитая) ходила по торговым рядам Гостиного Двора, ежедневно скупая шелка и бриллианты, рекомендуясь женой спасителя. Смущенные купцы пытались уверить её, что спаситель был холостой…
Через пару-тройку лет о нём никто не вспоминал…
Теперь вопрос: «Неужели фэнтези и вымысел лучше описания реальной и интереснейшей жизни?» Что-то не верится. Причина скорее в другом: легче выдумывать разный вздор, чем долго изучать источники и обрабатывать большие массивы информации. Даже литературные пособия предостерегают: старайтесь не писать о реальных людях и событиях. Ох уж эти пособия!
Моему знакомому Олегу, решившему припасть к стопам литературы на шестьдесят шестом году жизни, его дочь (заботясь о папе) подарила книгу № 1 по писательскому мастерству (так значится на обложке) англоязычного Юргена Вольфа. Почему этот явный немец англоязычен, вопрос вторичен, среди израильтян тоже встречаются Иваны Ивановичи Ивановы. Важно, что автор разжевывает для неучей, во всех мелочах, нюансах и оттенках, процесс создания литературного произведения, от рассказа, до романа, от эссе, до пьесы и т.д. Мало того, рекомендуется не только как писать, а о чём, или о ком.
Когда мой приятель Кучак (личность довольно известная в определенных кругах) ознакомился с содержанием методички, то пришёл в совершенный восторг:
– Мелко плавает! Мне предлагается дуркануть лопушистую публику книжной макулатурой типа «Как стать богатым и счастливым», или «Сто самых быстрых людей планеты». Сразу видно, автору почти ничего не известно о вкусах публики. Наш взыскательный читатель требует совершенно другую литературу, а именно: «Как получить максимальный надой от коровы соседа», «Как безопасно обчищать фруктовые сады», «Как алкоголикам избавится от женских сексуальных домоганий, но быть при этом напоенными», «Как прогуливать школьные занятия без последствий», «Как безнаказанно начистить рыло полицейскому», «Как всю жизнь не работать сидя на шее у государства»…
Александр Васильевич перевел дух и продолжил:
– Дальше предлагаю скандальные серии: «Сто самых слабых людей Европы», «Сто глупейших политиков мира», «Сто самых сопливых людей планеты», «Сто великих пердунов», «Сто наиболее вонючих людей», «Сто наиболее вонючих животных»…
Подозреваю, что эти сотни совпадут, значит – искусство прозорливо… Могу продолжить: «Школа ублюдочного существования», «Сто вариантов казни Чубайса», «Счастливая смерть наркоманов» …
Мне пришлось остановить поток идей Кучака, иначе он распинался бы ещё часа два-три. Положа руку на сердце, признаю: в его словах доля истины присутствует. Почему бы не вывести на чистую воду самовлюбленных политических индюков, или высмеять их потуги?
Через смех происходит очищение общества, а знания о недобросовестных делишках политиканской своры, позволяют не допустить проползанию во власть совсем уж мерзейших личностей. Недаром говорится: предупреждён, значит – вооружен.
Ещё нужна объединительная идея. Когда цели правительства совпадают, или близки к целям большинства населения – сворачиваются горы. Если же цели власти мутны и, по крысиному мелки – любое государство станет деградировать и, неизбежно погибнет…
Напоследок пожелание: делайте свою работу честно и добросовестно, на каком бы посту вы не находились. Суд времени рано или поздно расставит всё по своим местам. Его не боятся лишь дураки и патологические негодяи, недостойные даже по земле ходить.
17 марта 2021 года
Три мужа Петровны.
Наша жизнь, как правило, течет размеренно. Мир не меняется на глазах, хотя пропаганда и телевидение трубят о стремительном и непрестанном обновлении. На самом деле, быстрая смена уклада и обстановки, случается при резких ухудшениях, а положительные изменения, увы, тоскливо-медленны. Мы видим одних и тех же соседей, ходим привычным маршрутом за покупками и, даже бомжи и старушки собираются у мусорных контейнеров прежним составом. Многочисленные одинокие женщины, живущие поблизости, представляются привычным делом, навек устоявшимся фактом. Окружающие обыватели чаще удивляются не тому, что они одиноки, а тому, что они, иногда, перестают быть ими.
В пятидесятые, шестидесятые и семидесятые годы 20 века, это массовое, бросающееся в глаза женское одиночество, являлось естественным последствием войны. Мужчин не хватало настолько, что калеки с одной ногой или рукой разбирались нарасхват.
Картина поменялась с семидесятых годов. Соотношение полов постепенно выровнялось, но пришла другая беда: произошла сильнейшая деградация устоявшихся положительных качеств русской женщины. Стали стремительно исчезать доброта, верность, терпеливость, зато ярко проявились: алчность, склочная вздорность, тяга к легкой (во всех смыслах) жизни и т.д.
Я совершенно не обеляю мужчин, которые, в известной степени, «обмельчали», в переносном смысле, но это проявилось не столь резко, как у слабого пола. В качестве доказательства, приведу пример моей родной Перспективной улицы:
Из 26 ребят, развелись, спустя долгие годы – шесть, а из 16 девушек – девять. Хотя имеется пример совершенно уникальный: В парковом переулке проживали 8 девиц и один молодой человек, но никто из них, до старости о разводе даже не помышлял. Но то, случай особый – его населяли педагоги и куркули, а они, получается, вывели особую породу людей, устойчивых в браке.
Был обратный пример: моя соседка Нина, которую я не стал включать в число шестнадцати местных девиц, выходила замуж и разводилась ежегодно, в течении двенадцати лет…
В моей родной, далеко не рядовой и заурядной деревне, выросло, или проживало несколько поколений зубоскалов, аферистов и тружеников, достойных внесения в анналы истории, или, хотя бы, в литературные герои. По мере своих скромных сил, я стараюсь их вывести на страницы рассказов и повестей. Это первый случай, где вместо героя, фигурирует героиня, но поверьте, оно того стоит.
Их было три сестры: Клавдия – 1922 г. рождения, Мария – 1924 г. рождения и, младшая, Ольга 1926 г. рождения. По отцу все они Петровны, а их девичья фамилия затерялась во времени и её вспомнить никто не смог, даже из наиболее древних обитателей деревни Колычёво (какой спрос со склерозников?)
Внешне сёстры не слишком походили одна на другую. Старших отличал невысокий рост и отсутствие признаков ожирения, вплоть до старости. Младшая, с простоватым лицом и таким же характером, была чуть повыше, пополнее и зауряднее внешностью, зато выделялась добротой и необычайной работоспособностью. Любое дело спорилось в её руках и выполнялось не из-под палки, а с какой-то изящной легкостью. Её чуть портили волосы, цвета прошлогодней соломы, зато красила постоянная улыбка на веснушчатом лице, резко отличавшая её от вечно грустящей Клавдии и высокомерной Марии.
Печальная старшая сестра уродилась шатенкой, а средняя, которая и станет героиней рассказа – черноволосой красавицей с тёмно-голубыми глазами…
Шёл поздний май 1946 года. По шальному цвели яблони и сирень. Речка Щеленка вошла в берега после разлива, а школа выплеснулась на улицу. Каждую перемену ученики проводили на пришкольной лужайке со спортивными снарядами, восторженно резвясь. Их крики наполняли парк (бывшее имение князей Оболенских) и были слышны на любом из деревенских концов.
Год, как закончилась война. Сказать, что люди тогда жили бедно, это слукавить, они влачили полунищенское существование на просторах необъятной страны. Народ в конец обносился – пять лет, как одежда исчезла из продажи (текстильная промышленность ещё в 1941 году была переориентирована на нужды фронта). Не секрет, что до пятидесятых годов, мужчины донашивали военную форму…
Что касается Колычёва и ближайших деревень, то положение их несколько смягчалось наличием огромного «Дома инвалидов общего типа», как называлось тогда это заведение, переименованное впоследствии в психоневрологический интернат. Более тысячи калечных, увечных, контуженных, обслуживали около пятисот женщин из окрестностей и полтора десятка мужчин на руководящих и технических должностях, тоже израненных и обожженных огнём войны. Положение с едой (в стране карточная система) считалось сносным и, благодаря социальному заведению, смертей от голода в окружающей местности почти не наблюдалось. С тряпками было похуже, но кое-как перебивались. В швейной мастерской, из остатков старых штор и тюля, умудрялись иной раз, выкраивать и шить «модные» платья…
Третий день многочисленное девичье племя деревни будоражила весть: в Доме инвалидов, в качестве заместителя директора, появился красавец капитан, увешанный наградами, всего 23 лет отроду. Воскресным вечером намечался концерт местной самодеятельности и танцы в деревенском клубе. Клубов было два: большой, тот, что находился в бывшем монастыре, функционирующий только в дневное время и общедоступный, деревенский, буквально через дорогу от первого.
Мария (все три сестры обслуживали инвалидов) дважды видела капитана и, даже сумела смутить его очень личным вопросом:
– Какие девушки вам больше нравятся?
Бывший военный, которого звали Георгий Бурмисторов, ответил с неуверенной робостью, что, мол все хороши и торопливо умчался, не то по делам, не то, чтобы скрыть растерянность.
Красавица Маша, берущая две октавы, являлась ярчайшей личностью в районной художественной самодеятельности. Она многократно, в течении войны, выступала перед ранеными в госпиталях Егорьевска, Коломны, Куровского и Орехово-Зуева и, после прослушивания специалистов (накануне описываемых событий) была приглашена в хор Пятницкого – знаменитейший музыкальный коллектив той эпохи. Теперь, эта без пяти минут артистка, мысленно уже примеряющая лавры будущей солистки, решила завоевать внимание перспективного молодого человека.
Герой, надо признать оказался довольно робок с женским полом. Среди десятков девиц, он высмотрел одну, показавшуюся ему попроще остальных (ей оказалась сестра Марии Ольга) и дважды, со стеснительной галантностью приглашал её на вальс.
Мария, уже исполнив три песни вначале концертной программы («Орлёнок», «Катюша», и «Землянка»), не дождавшись приглашения на танец, подошла к младшей сестре:
–Я гляжу ухажёра нашла. Ишь как раскраснелась. Не стыдно тебе вальс в сапогах танцевать?
–Все девки в сапогах, да бурках. Чего ж стыдится-то? Туфли только у тебя, да Гальки – соседки, а пригласил он не вас, а меня. Ты почему злишься, Маша?
Мария украдкой скосила глаз на капитана, стоящего метрах в пяти:
– Вы топтались как корова с бараном. Разве так вальс танцуют?
Не слишком просторное помещение клуба, если и не было забито под завязку, то заполнено изрядно. На более чем шесть десятков потенциальных невест, нашлось полторы дюжины инвалидов войны, три полноценных кавалера жениховского возраста и четырнадцать маловозрастных ребят семнадцати-восемнадцати лет. Впоследствии, году к 1950-му все они будут расхватаны, а моё поколение, спустя пару десятилетий, удивляться: почему в деревне так много мужчин, женатых на дамах, лет на шесть восемь старше себя?..
Одна из голосистых деревенских девок, подойдя к безногому баянисту, сидящему на сцене в специально сколоченном полустуле-полукресле, пошепталась с ним приблизилась к самому краю сценического возвышения и, призвав присутствующих к тишине, запела. Песня «тяжелая» и грустная, рассказывала об участи одинокой рябины, которая не может перебраться к высокому дубу и сплестись ветвями с ним.
Капитан решился подойти к двум сёстрам, а следом подбежала и третья – Клавдия, из женского любопытства. Георгий удивился, узнав, что они родные сёстры. Он тихонечко прокомментировал исполнение:
И муза в дырявом платке
Протяжно поёт и уныло
– Это вы сейчас сочинили? – Мария удивлённо подняла и распахнула глаза.
– Нет, что вы, мне так не суметь. Это Анна Ахматова написала, лет двадцать пять назад. Кстати, в вашем исполнении песни звучали гораздо лучше.
Ольга подала голос:
– Маша у нас – знаменитость, не то, что мы.
Капитан подбодрил:
– У близких родственников и способности сходные. Может попробуете что-нибудь спеть?
Ольга засмущалась:
– У меня духа не хватает.
–Так наберитесь его и смело на сцену.
Тут произошёл конфуз. Мария беспардонно влезла в разговор:
– Ей нельзя. Коли она наберётся духа – так перданёт, что народ разбежится. Всю избу и так провоняла…
Ольга стремительно рванулась в сторону выхода. За ней поспешила старшая, вполоборота бросив Марии:
– Дура! Дура и сволочь…
В сентябре справили свадьбу, и Георгий Бурмисторов перебрался на жительство в дом жены – Марии Петровны, теперь Бурмистровой.
Дальше потекла послевоенная жизнь. Ни о каком хоровом коллективе речь уже не заходила. В 1947 году родилась дочка Люба. Мария, стараниями мужа, получила должность заведующей библиотекой. Не простой библиотекой, которая тоже имелась в деревне, а большой монастырской, насчитывающей 12 тысяч книг. Лишь пара тысяч из них относилась к духовно-религиозным изданиям, а, около пятисот являлись настоящими раритетами, подаренными монастырю Марфой Петровной Брюкендаль, в девичестве княжной Оболенской. Кстати, обеих Петровн (Оболенскую и Бурмистрову) объединяла величавость походки. Поступь голосистой библиотекарши я наблюдал лично более сорока лет подряд, а плавнохождение «лаптевской принцессы» (В Лаптево находилось имение Оболенских, которое впоследствии вошло в состав Колычёва, улицами Перспективной и Парковой, ещё Парковым переулком), неутомимой борчихи за крестьянские права (по молодости), отражены в сочинениях местных историков – Александра Соллертинского и, позднее, Владимира Смирнова…
Извиняюсь за отступление и некоторые подробности, но эти дамы похожи, хотя бы отчасти ещё и судьбой. Марфушу, в сороковых годах 19 века, покорил отставной вояка Брюкендаль, который скончался вскоре, вероятно, от счастья…
К написанию данного рассказа меня склонили два знакомых графомана, всучив пособие для литературных бездарностей от Эльвиры Барякиной, со словами:
– Твоя непредсказуемая и зигзагообразная писанина отталкивает и пугает читающую публику. Мастерица (Барякина) указывает на недопустимость множества героев, а также, сюжетных отклонений.
Любопытства ради, решил я попробовать следовать советам юной наставницы – метрессы. Получаться стало нечто похожее на тропку к кустам за дачным участком, когда туалет ещё не построен, или на сухую тонкую жердь.
Терминология не моя. Приятель-интеллектуал Слава, из Белоруссии, мягко пресек мои попытки следовать идиотическим советам:
– Если линия сюжета пряма, как тело паралитика на жесткой кровати, а не содержит ответвлений и замысловатых интриг с любопытными фактами, только занудный читатель, вроде меланхолично жующей коровы, сумеет одолеть такую книжонку. Ты внимательно почитай эту «барякинщину». Она утверждает, что в русском языке нет альтернативы англицизма «штанишник» (человек, чувствующий задницей). Да полный бред! Я подозреваю её в не совсем отечественном происхождении. Достаточно вспомнить: жопочуй,чуйник, интуитивник, задонюх… хотя последнее можно трактовать двояко…
В общем он вернул в строки свойственный мне юмор.
… События 1947 года в деревне, стране и мире, развивались интересным образом. Разгоралась холодная война, в СССР отменили карточную систему и провели денежную реформу, а в Колычёвском доме инвалидов устроили борьбу со вшами и добились выделения новых простыней и одеял, взамен дырявых и расползающихся, а также поставок одежды и обуви. Успеха удалось достичь благодаря новому директору. Нет, им не стал капитан Бурмистров. Прибыл новый назначенец полковник, а Георгий ему энергично помогал. Под его руководством запустили пилораму и соорудили огромные арочные ворота из дерева, для дополнительного въезда на территорию. На воротах рельефно выделялись цифры 1947, вырезанные с претензией на изыск местным столяром-гробовщиком.
Марию, по совместительству, назначили дополнительно завклубом заведения. Иной читатель тепличного воспитания, воскликнет:
«Вот завирает! Мало того, лишнюю должность приплёл, так ещё о ребёнке забыл. А как же отпуск по уходу за детьми?»
Так вот, тепличные пусть ужаснуться: в то время рожали много, а насчёт послаблений – разрешали бегать домой кормить грудью…
Сестра Марии – Клавдия, к тому времени также обзавелась ребёнком. Мало того, сёстры рассорились до конца жизни, но это произошло чуть раньше.
Юная семейная пара наслаждалась брачным счастьем уже недели полторы, когда старшая сестра робко объявила о попытке замужества.
– Притащить в дом еле ходящего инвалида?
Ты с ума сошла Кланя! От него прока никакого, одна обуза – бушевала Маша – Неужели нормального найти не смогла?
Мать вздыхала, возясь с чугунками в печи, не вмешиваясь, Ольга отмалчивалась, сердясь на разошедшуюся певунью, а жертва скандала, сидя у окошка и покусывая край платка, вяло отвечала: