Россия и мир. Геополитика в цивилизационном измерении. Монография
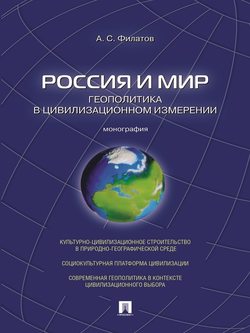
000
ОтложитьЧитал
На второй стадии исторического развития доминирующим источником существования (при сохранении предшествующих форм хозяйственной деятельности) становится использование земли, ее возможностей. На этой основе строится организация сельскохозяйственного производства, в большей степени прогрессивного при земледелии, в меньшей – при скотоводстве. Что опять же подчеркивает основополагающее значение осознанно-деятельностного начала у человека, так как организационно-технологически земледелие более сложный процесс, чем скотоводство.
Третий уровень в сфере производства материальных благ характерен тем, что использование земли методами сельскохозяйственной цивилизации не в состоянии удовлетворить растущие потребности развивающегося общества. Возникает ситуация, суть которой сводится к следующему: либо прежние условия существования будут ограничивать деятельностные возможности личности со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, либо социальный прогресс, выражающий социальную реализацию сущностных сил личности (т. е. ее социальную свободу), изменит сложившийся способ взаимодействия с природой.
Природосозидающий источник социального существования, имеющей в сфере практическо-преобразовательной деятельности человека форму промышленно-автоматизированного производства, наполняет новым содержанием прежние доминирующие формы хозяйствования. Об этом можно судить исходя из таких, ставших привычными в современном мире определений, как агропромышленный комплекс, промышленное рыболовство и т. п. Они отмечают основополагающее и доминирующее значение промышленности, выражающей в хозяйственной сфере общества созидающий способ экзистенциального взаимодействия человека с природой.
Складывающаяся таким образом система производства материальных благ не может не оказывать влияния на характер социальных отношений. Такое влияние испытывают на себе отношения в сфере материального производства или производственные отношения. Значит и личность, как субъект деятельности и основной элемент социальной системы, испытывает на себе это влияние.
Чтобы наглядно представить и лучше отразить место и значение источника социального существования в структуре способа производства материальных благ, мы схематизируем этот процесс. Такая схема, по своей форме, хорошо известна и основывается на разработках отечественных философов, занимающихся социально-философскими проблемами (см. схему).

Значение понятия источника социального существования объясняется также тем, что оно позволяет внести ясность в определение исторических способов производства материальных благ, которые определяются условиями источника социального существования. В конечном счете сохранение по тем или иным причинам условий определённого источника социального существования, определённых условий среды не позволяет развиться новым способам производства. В силу этого производительные силы лишаются импульса к совершенствованию, что ведёт и к определённой социокультурной и политической стагнации. Коррелируемый с этим заключением вывод мы можем найти у К. Маркса: «Ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появятся раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. В общих чертах азиатский античный, феодальный и современный, буржуазный способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» (189, с. 7). С позиции нашего исследования это замечание как раз акцентирует внимание на условиях в источнике социального развития, прежде всего в сфере материального производства.
Впоследствии, однако, в рамках марксистской социальной философии и наук, использующих её в качестве своей методологической базы – истории, социологии, политической экономии, укоренилась несколько иная точка зрения. В соответствии с ней было принято определять в качестве уровней социально-исторического развития рабовладельческий и феодальный способы производства, считая последний более прогрессивным. По этой причине возникают известные трудности с определением критерия исторического прогресса, а также некоторые противоречия с тем, что писал К. Маркс. Ибо уровень социальной истории, определяемый как «феодальный способ производства», достиг качества в развитии производительных сил античного общества (с «рабовладельческим способом производства») лишь к XII в.! Вообще проблема в формационном членении человеческой истории возникла чуть ли не с момента появления формационной теории. Достаточно сказать, что сам К. Маркс кроме определения «азиатский способ производства» использует модель социально-исторической периодизации на основе выделения трех формаций – первичной, вторичной и третичной (191, с. 250–251) исходя из отчуждения труда: отсутствие отчуждения в первобытно-общинном строе, отчуждение в классовом обществе и снятие отчуждения при коммунизме. В работах Ф. Энгельса присутствует другая модель исторической периодизации. Он использует культурно-исторический подход и говорит о варварстве, дикости и цивилизации (433, с. 23—178).
Эти проблемы стали предметом дискуссий сначала в 20-30-е гг., а затем в 60-70-е гг. ХХ в. В последней активное участие принимали исследователи из СССР, Венгрии, ГДР, Франции и Великобритании. В последней трети ХХ столетия проблема общественно-экономических формаций поднималась в работах М. А. Барга, A. П. Бутенко, В. М. Вильчека, Ю. М. Гарушянца, А. Я. Гуревича, B. С. Егорова, В. П. Илюшечкина, В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзона, В. И. Мазура, В. Н. Никифорова, В. Е. Хмелько и др. Практически все они фиксируют отмеченные противоречия теории общественно-экономических формаций.
Использование в настоящем разделе определений источника социального существования и способа экзистенциального взаимодействия позволяет снимать подобного рода противоречия. Так называемые рабовладельческий и феодальный способы производства являются разновидностями одного определенного способа взаимодействия человека с природой. Поэтому правильнее будет говорить и об одном кардинальном способе производства, который можно обозначить как сельскохозяйственный. И способ взаимодействия, и способ производства имеют своей доминантой природоорганизующий источник социального существования. А процесс производства предполагает самые разнообразные формы сельскохозяйственной деятельности.
При всей значимости системы производства материальных благ для общества и человека она не может рассматриваться как единственный основополагающий источник социогенеза и последующего развития общественных структур. На это указывают даже авторы, придерживающиеся «трудовой теории» происхождения и развития человека: «При. производительности труда у бушменов они в принципе могли бы коллективно добывать пищу лишь один день из четырех. Следовательно, в остальные три дня они друг другу практически не нужны, и, следовательно, никому не нужна их форма сообщества. Понятно, что гибель такого сообщества была бы вопросом времени, если бы эволюция не развила гоминид (не у бушменов, конечно, а у наших общих животнообразных предков) потребностей в общении, не связанном с удовлетворением органических потребностей» (39, с. 81). Поэтому не общественное производство и не труд, как его основа, детерминируют функционирование человеческого общества, не они определяют и историческую типологизацию обществ. Они лишь обеспечивают социальное функционирование, выступая в качестве средства, а не причины.
Следовательно, уровни социальной истории не могут быть выведены из «тонкой» специфики материального производства. Его историческое и региональное разнообразие и модификация во многом связаны с отличиями природно-географической среды, культуры и менталитета общества, социально-этническими традициями, историческим опытом, степенью и интенсивностью внешнего воздействия. Периодизация всемирной истории и выделение уровней в социально-историческом развитии осуществляется исходя из сущностно значимых для человека параметров. Они выражают: а) качество сознательной деятельности (представленное степенью реализации социальной свободы личности) и б) развертывание процесса осознанного взаимодействия с природной средой и качественные уровни этого процесса.
Так, присвоение продуктов естественно-природных процессов, осуществляемое в таких формах хозяйственной деятельности, как собирательство, рыболовство и охота, обусловливает определенные орудия и средства воздействия на объект. Этим определяется характер самого предмета воздействия. К тому же обосновывается форма отношений и общения в обществе, принципы социального устройства с необходимым коллективным единством и целостностью. Необходимо отметить, что все отмеченные процессы выражают состояние общественного сознания, где господствует система коллективных представлений, развивающихся в рамках превалирующего массового сознания и психологии («психология толпы»).
Когда доминирующим в использовании источника социального существования становится природосозидающий процесс, то он в своей производственной значимости становится определяющим для предмета производительных сил общества. Его выражением в сфере практическо-преобразовательной деятельности становится промышленное (впоследствии промышленно-автоматизированное) производство. Здесь промышленное производство создает опережающие темпы развития сельского хозяйства. Возникает ситуация, когда сельское хозяйство как бы становится дополнением промышленности. Ибо первое просто не может обойтись без второго, а в целом существование современного сельскохозяйственного производства не пред ставимо без развитой промышленной базы. Недаром сельскохозяйственная наука начинает свое становление в XVIII в. Тогда немецкий агроном А. Тэер, систематизировавший сельскохозяйственные знания, определил сельское хозяйство как «промышленность, которая имеет целью через производство растительных и животных продуктов получать доход» (313, с. 384). Безусловно, такое определение весьма символично.
Здесь также прослеживается обусловленность предметом (производительных сил) определенных орудий и средств труда, воздействующих на производственно-ценную сторону источника социального существования. Поэтому предмет в структуре производительных сил предстает не статичной константой, а постоянно изменяющимся процессом. Собственно этот процесс и определяет качество глобально-исторических способов производства, которые вытекают из соответствующих способов экзистенциального взаимодействия и доминирующих источников социального существования. Формы организации хозяйственной деятельности и социального устройства являются конкретно-историческими, связанными с особенностями региона распространения. В этом случае нет ничего удивительного в том, что даже в одном пространственно-временном контексте существуют различные формы хозяйственной деятельности и социального устройства, как, например, крепостническая форма – в Спарте и рабовладельческая – в Афинах.
Следовательно, способ производства материальных благ определяется на основе доминирующего источника социального существования и способа экзистенциального взаимодействия. Тогда в процессе социально-исторического развития также выделяется три глобально-исторических способа производства: присваивающий, сельскохозяйственный и промышленно-автоматизированный.
Переход от одной доминанты к другой возможен только тогда, когда прежняя исчерпала свой потенциал вследствие развертывания человеческой деятельности, когда она уже не в состоянии удовлетворять социальные потребности и не соответствует им. Небезынтересно в качестве своеобразной аргументации этого утверждения сослаться на вывод известного отечественного археолога В. М. Массона. В одной из работ он фактически отметил один из способов «исчерпания» доминанты в производственно-практической сфере общества: «Вместе с тем переход к земледелию и скотоводству являлся отнюдь не следствием экспериментальных забав досужих интеллектуалов, а острой экономической необходимостью. Только при определенных условиях (подчеркнуто мной. – А. Ф.) человек был вынужден направить свою энергию и творческие способности на улучшение и совершенствование традиционных способов добычи пищи. Скорее всего, здесь главную роль играло противоречие между возрастающим населением и производственными возможностями старых форм экономики» (199, с. 135).
Процесс «исчерпания» источника существования непосредственно связан с обозначенным распространением социального движения. Наиболее наглядно он проявляется при переходе к организации производственной деятельности на основе использования природных процессов, связанных с возможностями земли как природного феномена. Охота на животных и возникающая невозможность таким образом обеспечить себя продуктами, заставляет человека искать иные пути и средства жизнеобеспечения. Он начинает организовывать обеспечение себя мясом посредством развития скотоводства как новой формы хозяйственной деятельности. Собирательство, как присвоение и использование растительных продуктов, по тем же причинам приводит к организации земледелия.
Если обратить внимание на первоначально возникающие ареалы земледельческой и скотоводческой культур, то они возникают как раз в тех местах, где до них были распространены соответственно собирательство и охота. Ближний Восток, где произрастала и собиралась дикая пшеница, становится очагом древнего земледелия. Евразийские степи, богатые дикими животными, как объектами охоты, превращаются впоследствии в пространства существования скотоводческих племен. В связи с этим интересно отметить, что более продуктивный способ жизнеобеспечения – охота – «породил» менее прогрессивный с точки зрения стимуляции социальных отношений – скотоводство. Им стали заниматься этносы, ведущие кочевой образ жизни. В то время как собирательство, слабо социально «заряженное» и близкое к форме животной жизнедеятельности, стало платформой для перехода к прогрессивному земледелию.
Еще один очень важный вывод связан с тем, что развитие производительных сил не является самодовлеющим фактором исторического процесса, детерминирующим и производственные отношения, и состояние социальной системы в целом, и развитие личности. Здесь мы можем сослаться на мнение автора, чей авторитет в большей степени использовался, да и используется сейчас некоторыми исследователями, как раз с целью обосновать и представить приоритет материальной стороны общественной жизни, детерминацию процессом общественного производства всех иных сфер и сторон общества. В письме Й. Блоху Ф. Энгельс отмечает несколько иные приоритеты в социально-историческом развитии и совсем не экономическую определяющую общественного развития, точнее, не только их: «…В историческом процессе определяющим моментом в конечном счёте является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу» (432, с. 394). Когда Ф. Энгельс говорит о «производстве и воспроизводстве действительной жизни», то это и есть тот комплекс и система человеческой деятельности, которые выражаются способом экзистенциального взаимодействия применительно к использованию источника социального существования.
Само производительное развитие обусловлено через использование источника социального существования, определенным способом экзистенциального взаимодействия человека с процессами природной среды, которая исторически прогрессивно преобразуется и всё в большей степени создается самими людьми. В исходном положении развитие производительных сил обусловлено сознательной деятельностью человека со всеми необходимыми для нее атрибутами. К их числу относятся возможности и степень реализации сущностных сил личности, качество и формы самой деятельности – то, что необходимо для культурного производства и воспроизводства.
Предлагаемая модель культурно-исторического и культурологического анализа, основанная на определениях источника социального существования и способа экзистенциального взаимодействия, являющихся выразителями развития культуры общества, позволяет выделить два измерения культуры существования человека и общества: онтологическое или бытийное, связанное с функционированием культуры в универсальных исторических типах общества, абстрагированных от конкретной пространственно-географической среды и феноменологическое или проявляющееся, показывающее пространственно-временное перемещение культурных комплексов по очагам мировой культуры. Уровни социальной истории, выражаемые универсальными типами общества, могут быть представлены и как культурно-исторические эпохи, которые и определяют «узлы сборки» мировой человеческой цивилизации, последовательно сменяющие друг друга в их онтологическом содержании. Очаги мировой культуры также характеризуют социально-исторический процесс, но уже с позиции его пространственно-временного расположения, проявляющегося в передвижении от одного географического ареала к другому, но не замещающего, тем более не отрицающего предыдущий.
Эти измерения культуры не исключают существование особых, обусловленных спецификой крупных социальных организмов, обществ, культурно-исторических типов, подобных тем, что были описаны и проанализированы Н. Я. Данилевским. Каждое из наших измерений как раз и наполняется особыми культурно-историческими типами, передающими индивидуальные особенности конкретных социокультурных комплексов, создающих локальные цивилизации. Однако и в том и в другом измерениях культура предстаёт прежде всего в качестве способа существования человека, обеспечивающая сохранение системных качеств общества и среды социального существования.
РАЗДЕЛ II
Социокультурная платформа цивилизации
2.1. Цивилизационные критерии развития культуры общества
Самым распространённым определением цивилизации является такое, которое выводит её из развития культуры общества. Исходя из этого давали определения цивилизации философы и учёные, предложившие в конце XVIII в. этот термин ввести в научный оборот, и авторы более развёрнутых культурно-цивилизационных концепций в середине XIX столетия и в последующее время. Например, А. Фергюсон, одним из первых использовавший термин «цивилизация» для обозначения уровня общественного развития, понимал под цивилизацией стадию исторического развития человечества, следующую за дикостью и варварством. Для него цивилизация – это стадия более высокой культуры общества, которая предполагает появление гражданина как субъекта общественных отношений, формирующих общественные классы. В этой связи гражданство и государство становятся, по сути, тождественными явлениями, взаимообусловленными человеческой деятельностью по окультуриванию пространства своего существования. Примечательно, что основной труд А. Фергюсона носил название «An Essay on the history of the civil society», что в дословном переводе звучит как «Очерк по истории гражданского общества».
Важно отметить, что А. Фергюсон рассматривал возникновение цивилизационных институтов как следствие (культурной) деятельности людей в определённых природных ситуациях, при этом он отрицал возможность людей (даже самых великих) моделировать социальное устройство и отсюда договариваться об устоях социального и политического функционирования. Для нас нет потребности в рамках настоящего исследования анализировать и давать оценки взглядам А. Фергюсона, потому просто зафиксируем его позицию в контексте рассмотрения проблемы цивилизации в человеческой истории и интересующей постановки вопроса: «Каждый шаг и каждое движение (массы) народа в будущее, даже в так называемые просвещенные века, сделаны вслепую, и нации находят учреждения (институты управления. – А. Ф.) в результате человеческой деятельности, а не вследствие своих замыслов и намерений» (448).
А. Фергюсон, отрицая концепцию общественного договора при создании государства, считал, что государство, гражданские отношения и цивилизация возникают в ответ на требования природной среды и ею обусловлены. Однако обусловленность эта возникает только в процессе человеческой деятельности, которая находится и развивается в рамках культурной традиции. Оставив за скобками ряд категорических заключений А. Фергюсона (отрицание им процедуры общественных соглашений при формировании социальных институтов, возможности проектировать учреждения общественного управления, возвышение природно-расовых факторов в культурно-цивилизационном развитии и т. п.), отметим, что в его определении понятия «цивилизация» присутствует деятельностный подход (социальные цивилизационные учреждения как результат человеческой деятельности, хотя и спонтанный) и культурная детерминация цивилизационной формы общества (культура общества на стадиях дикости и варварства, по А. Фергюсону, не в состоянии создавать цивилизационных учреждений). Следует также подчеркнуть, что основные параметры определения «цивилизации», данные А. Фергюсоном, не отрицались последующими авторами и остаются функциональными и сегодня. К их числу относятся признаки, которые характеризуют состояние цивилизации в процессе социально-исторического развития человечества:
– развитие экономической культуры общества, которая приводит к разделению труда и последующим стратификационным изменениям;
– профессиональная специализация, классовые различия, образование социальных слоёв;
– формирование устойчивой системы социальной коммуникации с неведомыми ранее институтами, обеспечивающими её стабильность, – одним из таких институтов становится купечество, выполнявшее не только торгово-экономические функции, но и важнейшие функции культурного обмена;
– образование политического института государства как способа и средства управления сложным социальным организмом – формализация социального управления с помощью законов, административных норм, институциональных распоряжений, перевод на вторые роли общественной власти, основанной на традициях.
Отмеченные признаки обусловливают гражданскую правосубъектность, возникновение городов с особыми социальными общностями, изобретение письменности. Гражданская правосубъектность проявляет себя в том, что определённая часть членов общества (господствующий класс, особенно на ранних этапах цивилизационного развития) получает возможность строить систему социальных отношений, замещая или ослабляя господствующую в доцивилизационном обществе власть традиции, которая (естественно персонализированная в образах племенных вождей и колдунов) устраивала отношения в социальных группах. Города становятся не только территорией организации сложных социальных связей, требующих особого внутреннего социального управления, но и центрами внешнего социального управления окружающего пространства, выполняя функции политических центров как необходимых атрибутов государственного устройства. Письменность изначально была и формой передачи необходимых обществу знаний, культурных по своему содержанию и предназначению, и способом коммуникационного обмена внутри определённых культурных сообществ и между таковыми. Тем самым цивилизационные формы, являясь следствием развития культуры общества, сами становятся важнейшими компонентами этой культуры и, более того, активно влияют на дальнейшее культурное развитие.
Исходя из имеющихся основных определений понятия «цивилизация», начиная с А. Фергюсона, она в своём статусном измерении (передающем состояние явления в пространстве и в процессе) не может рассматриваться тождественной культуре, но, безусловно, производна от неё. Ещё один аспект состоит в том, что культура, которая оказывается неспособной произвести цивилизационное оформление своих достижений, не получает условий для своего дальнейшего развития. В таком случае цивилизация может рассматриваться как продолжение культуры в новом стадиальном развитии. Если воспользоваться классификацией А. Фергюсона о трёх стадиях развития общества (и его культуры) – дикости, варварстве и цивилизации, то прекращение вследствие влияния различных факторов цивилизационного формирования общества означает возврат его в состояние варварства, а то и дикости.
После включения в конце XVIII в. термина и понятия «цивилизация» в научный оборот исследования этого феномена человеческой истории и человеческого существования переходят в середине XIX в. на уровень функциональных измерений, которые привели к образованию понятия локальных цивилизаций. Одним из первых, кто поднял проблему локальных цивилизаций, был Г. Рюккерт, который в большей степени рассматривал историческое развитие человечества и не акцентировал внимание на определениях цивилизации, используя термины «социоисторические организмы», «исторические организмы», «культурно-исторические организмы», «исторические индивиды», «культурно-исторические индивиды» и «культурные типы», обозначая таким образом особые и в значительной мере отдельные социальные системы, существующие параллельно друг другу. Для своего времени Г. Рюккерт выделяет пять высших «культурных типов»: германо-христианский (западноевропейский), восточно-христианский (славянский), арабский (исламский), индийский и китайский (288). Однако говорить о какой-либо теории или концепции локальных цивилизаций и даже культурно-исторической типологизации Г. Рюккерта не представляется возможным, так как он исследовал прежде всего, феномен германской (и опосредованно европейской) культуры с позиции культурологии, но не социологии и политической философии.
Первым, кто дал оценку локальным цивилизациям, был Н. Я. Данилевский. В принципе его можно считать и создателем первой цивилизационной теории или теории культурно-исторических типов. Другие известные цивилизационные (культурно-цивилизационные) теории О. Шпенглера и А. Тойнби были созданы намного позднее. В контексте нашего исследования представляет интерес характеристика Н. Я. Данилевским взаимосвязи культурно-исторического типа и цивилизации, демонстрирующая отмеченное выше влияние цивилизационного оформления культурной системы общества на дальнейшее её развитие с сохранением специфических типологических особенностей. Отмечая, что не все культурно-исторические типы достигают состояния цивилизационного оформления, он указывает целый ряд тому причин: «Явления перепутываются, усложняются; часто явления одного и того же порядка разделяются длинными промежутками времени и дополняют друг друга, а явления одного периода продолжают действовать в другом. Даже не все культурные типы успевают переходить вполне все фазисы этого развития потому ли, что разрушаются внешними бурями, или потому, что самый запас собранных ими сил был недостаточен, что полученное направление слишком односторонне для полного развития» (95, с. 112).
Далее он на конкретном примере иранского (персидского) культурно-исторического типа, который может быть применён и к другим историческим обществам, показывает, как происходит процесс, ведущий к цивилизационному тупику и последующей смерти самобытного культурно-исторического типа: «Так, культурный тип Ирана, побужденный принять форму государственности, вследствие борьбы с туранскими племенами, никогда не переходит на степень цивилизации, как потому, что в самый блистательный период своей государственности, при Кире и Дарии, теряет свой самобытный характер вследствие инкорпорации древнесемитической цивилизации Ассирии, Вавилона и Финикии (имевшей на него то же вредное влияние, как Греция на Рим, без полезных сторон последнего), так и потому, что неоднократно возобновляемая государственность Ирана последовательно разрушается македонянами, арабами и монголами» (95, с. 112).
Приведённые ссылки показывают также то, что и в статусном измерении цивилизации как сущностного явления человеческой истории (позволяющим говорить о глобальной человеческой цивилизации), и в функциональном измерении, представляющим локальные исторические цивилизации, свойственные для крупных и устойчивых социокультурных комплексов, мы обнаруживаем важнейшее предназначение цивилизационного устройства общества – сохранять условия для его культурного развития, возникая благодаря культурным достижениям и подпитываясь ими. В этом смысле цивилизация обязательно требует формирования учреждений, которые будут выступать в качестве инструментов по оформлению культурных достижений общества. Основным таковым инструментом-учреждением выступает государство – и как политический институт, и как морально-психологическая опора, сдерживающая внутренние вызовы и отражающая внешние угрозы. Обозначение в русском языке государства синонимом «держава» как раз передаёт морально-психологический смысл его определения. Государство, основным предназначением которого является управление обществом, сохранение его системной устойчивости, в рамках определённой цивилизационной конструкции непосредственно и в первую очередь участвует в сохранении, развитии и совершенствовании культурных достижений. Делает то, что можно обозначить как оформление культуры. Это обозначение не столько даёт широкие права государственным институтам, сколько возлагает на государство высочайшую степень ответственности за состояние общества, сохранение его социокультурного комплекса и культурно-исторического образа. Эти функции государства применимы к любому его формату, в том числе к малым государствам с ограниченным суверенитетом. Но к государству, встроенному в цивилизационный формат, функции удержания культурных достижений общества выводят его на геополитический уровень. И тогда оформление культурных достижений общества становится и цивилизационной, и геополитической задачей.
Культурные стандарты общества, выступающего как социокультурный комплекс с соответствующей цивилизационной формой, подверженные внутренней коррозии и внешнему замещению, могут нести прямую угрозу будущему данной цивилизации и представлять непосредственную геополитическую опасность. Культурная агрессия иных цивилизаций может привести к цивилизационному тупику социокультурного комплекса (на что обращал внимание Н. Я. Данилевский) и к цивилизационному застою, влекущему за собой в перспективе цивилизационную гибель и геополитическое поражение собственных культурно-цивилизационных интересов в масштабах глобальных географических пространств. Например, цивилизации ацтеков и майя были искоренены иными, европейскими, культурными стандартами, включая религию, в большей степени, нежели военно-политической мощью Испании. В современном мире культурные стандарты, произведённые в европейском (или евро-атлантическом) социокультурном комплексе (главным образом в США), предназначенные отнюдь не для внутрицивилизационного потребления, выполняют функции геополитического оружия, разрушая социокультурные устои других цивилизационных образований. Эта проблема является одной из основных для современной геофилософии, как направления в геополитике.



