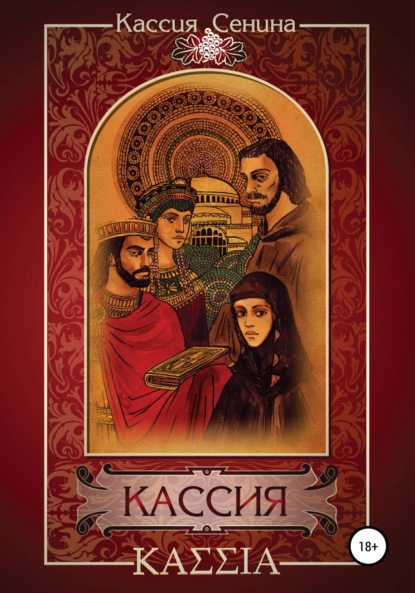ЧАСТЬ II. БОРЬБА ЗА ОБРАЗ
Им для того ниспослали и смерть, и погибельный жребий
Боги, чтоб славною песнию были они для потомков.
(Гомер)
1. Портик Мавриана
Не слушайте слов пророков, которые пророчествуют вам и прельщают вас: видение от сердца своего говорят они, а не от уст Господних.
(Книга пророка Иеремии)
Император только вернулся к себе после вечерни, как доложили о приходе патрикия Фомы. Лев посмотрел на вошедшего выжидательно. В последнее время ожидание царствовало и в сердце василевса, и при дворе. Все ждали, чем окончится поединок «между Священным дворцом и Великой церковью», как выразился Феодот Мелиссин. Как ни старался патриарх удержать неумолимый ход событий, все усилия были тщетны. На праздник Богоявления император, войдя по обычаю в алтарь Святой Софии, не воздал поклонения священным изображением на алтарном покрове, тем самым ясно показав, какое решение принял. Тогда патриарх написал нескольким влиятельным синклитикам и даже императрице, моля их убедить императора не потрясать Церковь. Но всё было напрасно: синклитики только посмеивались и пожимали плечами, а кое-кто даже поносил Никифора за «баранье упрямство». Августа тоже не решилась открыто противостать мужу, тем более что ничего не понимала в богословии. Она лишь спросила, точно ли он уверен, что задуманное им «ниспровержение ложного догмата» угодно Богу.
– Более, чем уверен! – ответил Лев. – А если я и ошибаюсь, то Бог укажет на это. Ты что, думаешь, я безбожник и не молюсь Ему о вразумлении? Да ведь и патриарх молился на коронации о том, чтоб Господь руководил мною… Притом, прежде чем делать то, что я делаю, я совещался с людьми достойными и мудрыми. Успокойся, ради Бога, и не докучай мне больше своими страхами! Вот ведь, женщины!
Феодосия вздохнула и решила, что она сделала, что могла, а прочее уже не ее ума дело, – «и да будет воля Божия!» Между тем император взялся за тех епископов, которые не успели разъехаться из столицы после проведенного патриархом собора. Сам Лев, впрочем, увещаниями не занимался, памятуя рождественский провал, а поручил это дело протопсалту, протоасикриту и Феодоту Мелиссину. Они воздействовали на собеседников, пуская в ход те святоотеческие цитаты, которые в свое время, по совету Иоанна, не были показаны патриарху и поэтому не разбирались на собрании православных после встречи с императором; иерархов, известных склонностью к тщеславию и корыстолюбию, соблазняли обещаниями почестей и даров; более образованных и неуступчивых отправляли для увещания к Грамматику. Здесь поражение патриарха тоже оказалось весьма чувствительным: уже к концу января многие из епископов, подписавшихся под определением собора и обещавших стоять за веру до смерти, обратились против икон. Когда таких епископов набралось достаточно, Лев отправил нескольких к патриарху с призывом «внять голосу верных» и «применить божественное и богоугодное снисхождение». Это было 28 января, за две недели до начала Великого поста.
– Святейший, согласись с нами немного в том, чтобы снять низко висящие иконы, – сказали посланные. – Если же ты не хочешь, то знай, что мы не позволим тебе здесь пребывать. Церковь не нуждается в тех, кто противится ей!
– Это вы-то Церковь? – насмешливо ответил патриарх. – Нет, господа, вы не Церковь, вы лжецы и крестопопиратели. Так-то коротка у вас память, что вы забыли и свое обещание стоять за веру до смерти, и подписи и кресты, которые поставили под ним?! Пойдите вон и избавьте меня от слушания ваших безумных речей. А государю передайте вот что: просто так с кафедры я не уйду, потому что на мне нет вины для низложения. Если же меня насилием принудят к этому из-за моей православной веры, то пусть он прикажет своим слугам меня вывести, и тогда уйду.
Посланные удалились в гневе, едва удержавшись от проклятий в адрес Никифора. Но и святейшему это посещение обошлось дорого: вечером он слег в постель с сердечным приступом, к ночи у него вступило в печень и сделался жар, а наутро патриарх был уже в таком состоянии, что келейник с испугу вызвал не одного врача, а целых трех. Наследники Асклепия прописали больному сандаловый сироп, розовый мед и полный покой. Поэтому, когда на другой день в патриаршие палаты опять явились двое епископов вместе с Феодотом Мелиссином, келейник попросту захлопнул дверь у них перед носом со словами:
– Владыка болен, ему нужен покой!
– Лучше б он на вечный покой поскорей отправлялся, – пробормотал Феодот. Оба епископа дипломатично промолчали, но в душе были согласны с патрикием: патриарх становился лишним звеном в цепи.
После этого в течение нескольких дней ничего определенного о состоянии здоровья патриарха узнать было нельзя. Император воспользовался болезнью Никифора, чтобы временно передать церковное управление в руки патрикия Фомы, однако недуг патриарха обеспокоил василевса. «Теперь еще начнут говорить, что я уморил его!» – думал Лев, а в глубине сердца зашевелилось сомнение: «Точно ли я иду правым путем?» Колебания императора не укрылись от Мелиссина, и Феодот, никому ничего не говоря, даже Иоанну, отправился к знакомому монаху, который жил в портике Мавриана и слыл у народа постником и молитвенником. К этому черноризцу однажды ходила и супруга Феодота: ее стали сильно донимать головные боли, и одна подруга посоветовала ей попросить молитв у «маврианского подвижника».
– Чудеса! – сказала Мелиссину жена, вернувшись от монаха. – У меня сегодня опять так голова болела, а вот только этот отец помолился и перекрестил меня, так и снял всё! И до сих пор не болит, ты подумай! Видно, он и впрямь святой, правду люди говорят! Вот только мне странным показалось… В углу-то этом, где он живет, ни одной иконы у него нет!
– Вот как? – Феодот приподнял брови. – Ну, верно, он взошел на такую духовную высоту, что беседует с Богом, так сказать, лицом к лицу…
Через несколько дней Феодот навестил этого монаха и разговорился с ним, с того времени они и подружились, если только это можно было назвать дружбой. Патрикий посещал монаха примерно раз в месяц, просил молитв, благочестиво ужасался его «нищей и постной» жизни и рассказывал те или иные придворные сплетни, до коих подвижник, несмотря на носимые им вериги, оказался весьма охоч: он мог порассказать Мелиссину ничуть не меньше слухов – не придворных, но уличных, а они-то как раз, в свою очередь, интересовали Феодота. И вот, отправившись к нему на сей раз, патрикий после обычной болтовни сказал:
– Видно, отче, грядут у нас в Церкви перемены. Святейший заболел, того и гляди отдаст Богу душу.
– Помилуй, Господи! – Монах набожно перекрестился.
– Господь да помилует всех нас! – не менее набожно отозвался Феодот и продолжал: – Значит, будет новый патриарх… А новому патриарху понадобятся помощники, свежие силы… в том числе в клире. – Патрикий значительно взглянул на собеседника.
– Господь да поможет восстановить чистоту веры! – Монах вновь сотворил крестное знамение.
– Аминь! – ответил Феодот. – Но вот какое дело, отче… Трижды августейший государь немного поколебался в своем уповании… Надо его утвердить, по мере наших сил!
– Всенепременно надо, – кивнул монах. – Тебе требуется моя помощь, господин?
– Да. Слушай, отче, и запоминай. Завтра, как стемнеет, я приведу сюда государя. Он будет в простом одеянии, без всяких отличий. Он начнет с тобой советоваться о вере и других важных вещах. Ты же – слушай внимательно! – обещай ему, что он будет царствовать семьдесят два года, – Феодот подмигнул монаху, – назови тринадцатым апостолом и всячески уверяй, что он увидит на престоле детей от детей своих, если только примет веру, которой держался августейший Лев Исавриец. А если он не захочет последовать этому совету, скажи с клятвой, что грозит ему тогда от Бога погибель, стремнины и пропасти. В общем… э… подойди к делу с душой, отче!
О походе в портик Мавриана с императором было условлено заранее.
– Монах этот, августейший, – сказал Мелиссин, – жизни высокой и святой, живет почти на улице, спит на каменном полу, вериги носит, молится день и ночь, удостоился дара исцелений и от Бога имеет разум и рассуждение. Если у тебя есть какие-то сомнения относительно наших церковных дел, думаю, будет полезно у него вопросить, он в народе и за прозорливца почитается!
Когда император вместе с Феодотом уже в сумерках вошли в портик и пробрались в угол, где жил «прозорливец», первое, что услышал император, были слова:
– Негоже тебе, государь, менять пурпурное одеяние на простое и морочить умы людей!
После встречи с монахом Лев оставил всякие сомнения. И теперь, когда в ответ на его выжидательный взгляд патрикий Фома сообщил, что, по словам врачей, патриарх при смерти, император сказал только:
– Что ж, тем лучше! Это избавит нас от необходимости выгонять его силой.
…В сыропустный вторник около трех часов пополудни Грамматик сидел в столовой у Мелиссина и обсуждал с хозяином дома положение церковных дел.
– Что ты думаешь насчет определений будущего собора? Повторить сказанное в Иерии? – спросил Феодот, собственноручно разрезая большого зажаренного судака. Слуги были высланы: столь важный разговор не должен был иметь лишних свидетелей.
– Не только, – лениво ответил Иоанн, отпивая глоток ароматного золотистого вина. – Иерийским богословам не хватало последовательности или, скорее, свободы для маневров. Следует определиться по поводу того, когда именно тело Христа стало неописуемым. Ответ, данный на этот вопрос в Иерии, на мой взгляд, не совсем точен. – Грамматик умолк и отправил в рот ломтик сыра. – А впрочем, разве для тебя это так уж важно, господин Феодот? Правда, – он задумчиво посмотрел на патрикия, – при определенном положении это может стать для тебя важным, хотя… Даже и при таком положении главное – иметь хороших советников, самому во все тонкости вникать не обязательно.
– Ты что-то говоришь загадками, Иоанн! – сказал Мелиссин, ставя перед гостем тарелку с двумя аппетитными кусками рыбы. В голосе патрикия послышалось легкое раздражение.
Феодот слыл в Синклите и среди знакомых человеком не только набожным и начитанным, но и неплохо разбиравшимся в богословии. Последнее удавалось ему за счет того, что он вовремя и к месту умел блеснуть изречением из божественного Дионисия, великого Василия или его не менее великого друга из Назианза. Мало кто мог подметить, что набор этих изречений у Мелиссина был довольно ограничен, и что на самом деле патрикий вовсе не так много значения придавал «священнейшим догматам богопреданной веры», как это могло показаться неискушенному наблюдателю. Вопрос Грамматика, в котором слышалась легкая насмешка, уязвил Феодота: Иоанн слишком прямо дал понять, что видит, насколько Мелиссину на самом деле интересно богословие. Но дальнейшее рассуждение Иоанна об «определенном положении» и вовсе обеспокоило патрикия. «Как он мог догадаться? Невероятно! Нет, скорее, это он так, рассуждает… так сказать, вообще… Он ведь, наверное, сам туда метит, и если б догадался, не принял бы так философски!» – успокаивал себя Феодот, подливая вина в кубки. Но рука его чуть дрогнула, и вино пролилось на скатерть.
– Тьфу! – сердито пробормотал Мелиссин. Грамматик наблюдал за ним.
– Я вот что думаю, господин Феодот, – сказал Иоанн, вынимая из судака длинные реберные кости и аккуратно складывая их на край тарелки, – главное – всё делать без лишней спешки. Спешить вредно даже в таком деле, как разлив чувственного вина, а тем более – когда речь идет о вине духовном.
– К чему ты это? – нетерпеливо спросил Феодот.
– Да так, рассуждаю… У меня сегодня, – улыбнулся Грамматик, – созерцательное настроение.
– Ну, а мне не до созерцаний! Государь считает, что мы уже обратили довольно епископов, чтобы провести собор. И на него пригласят патриарха для прений об иконах… Хотя врачи и предсказали скорую смерть, но что-то святейший, видишь, умирать не торопится! Говорят, вчера он даже вставал с постели… Ты говоришь: не спешить? Нет, надо именно спешить! Ведь Никифор сочиняет какое-то церковное воззвание!
– И что же?
– Говорят, он там грозится, что всех «присоединившихся к еретической части» постигнут прещения. В общем, я боюсь, как бы наши преосвященные отцы не пошли на попятный.
– Не бойся, господин Феодот. Наши отцы, раз отступив от того, что обещали Никифору, теперь пойдут до конца, не останавливаясь, и сделают всё, что надо, если не более. Им ведь нужно доказать самим себе, что они на верном пути. Вот увидишь, они еще потребуют у государя более крутых мер к противникам, чем те, о которых думает он сам!
Мелиссин искоса взглянул на Иоанна. Этот человек начинал иногда пугать его. Временами патрикий задавался вопросом: а во что, собственно, верит сам Грамматик? И вера ли вообще движет им? Если относительно себя самого Феодот мог честно признаться, что, несмотря на симпатии, которые он с юности питал к иконоборчеству и лично к императору Константину Исаврийцу, догматы как таковые были для него делом десятым, то Иоанна он поначалу считал «человеком убеждений». Однако теперь он начинал ощущать какую-то иную движущую силу в поступках этого иеромонаха. Ради чего Грамматик затеял это «крушение веры», что тут привлекло его? Близость ко двору, почет, богатство? Желание стать епископом или даже патриархом? Может, и так, но тут угадывалось также нечто другое – и это было не желание «торжества истины» само по себе. «Ум, внушающий страх, и власть над умами», – эти слова, некогда сказанные Грамматиком, Мелиссин счел просто шуткой, но сейчас начал понимать, что они действительно выражали устремления ученого аскета, чей холодный внимательный взгляд иной раз заставлял внутренне съеживаться, вонзаясь в собеседника словно острый клинок. Казалось, Иоанн насквозь видит всё, что происходит внутри других людей, и понимает то, чего они сами еще не понимают, а может, и никогда не поймут. От этой мысли становилось неприятно; еще неприятней было думать, что Грамматик, возможно, и самим Феодотом просто пользовался для осуществления каких-то своих планов, вовсе не считая его сотрудником в собственном смысле слова…
«Ладно, господин философ, – подумал Мелиссин, пережевывая кусок рыбы, – у тебя свои цели, у меня свои. Время покажет, кто быстрей добьется желаемого!»
2. «Я оставляю вас христианами»
…все люди пойдут каждый в путь свой, а мы пойдем во имя Господа Бога нашего во век и далее.
(Книга пророка Михея)
Был первый день Великого поста. Келейник уже третий раз входил с докладом к патриарху: пришедшие с утра епископы настойчиво требовали встречи с Никифором, говоря, что посланы «объявить ему решение собора». Собор начал заседать в Магнавре в четверг Сыропустной седмицы; на нем присутствовало несколько десятков епископов и игуменов из числа тех, кого патриарх назвал «крестопопирателями». Император в заседаниях не участвовал, послав туда наблюдателями Феодота и Евтихиана. Председательствовал на соборе Антоний Силейский, которого Иоанн снабдил кипой выписок из Писания и отцов со своими толкованиями. Сам Грамматик держался в тени и наблюдал за ходом собора, сидя позади всех в углу; по его губам то и дело пробегала чуть заметная усмешка. Соборяне, как он и предсказывал, взялись за дело ретиво: уже по окончании первого заседания они обратились к императору с прошением призвать патриарха на собор «для отчета перед Церковью за допущенное им пренебрежение пастырскими обязанностями и для оправдания от возводимых на него обвинений, а также для открытого прения по поводу сомнительных положений вероучения». Лев послал к патриарху оруженосца Феофана, чтобы тот привел Никифора на собор. Никифор передал через келейника, что ничего не знает о заседающем в Магнавре соборе, поскольку он никого не созывал, и не намерен идти на сборище самочинников и тем более давать ему отчет. Когда в пятницу ответ патриарха был объявлен, соборяне разразились криками возмущения, кое-кто тут же предложил судить Никифора и лишить сана. Но Антоний Силейский урезонил возмущенных, сказав, что епископа надо по канонам призывать на суд трижды. Патриарх ответил вторично посланному к нему Феофану:
– Как видишь, господин, я не могу придти туда из-за болезни. Но если б и мог, на такой собор я все равно не пошел бы. Если есть желание обсудить вопросы веры, то надо предоставить каждому свободу мнения. Пусть все будут допущены на собор, а не одни те, кого созвал туда государь. Затем с собора должны быть удалены те, кто присоединился к осужденной ереси, поскольку они через это уже лишились священства и не могут решать церковные вопросы. Если пославшие тебя, господин, согласятся на такие условия, то мы назначим время для собора и для прений, когда Богу угодно будет облегчить мою болезнь. И местом церковных собраний должен быть храм, а не дворцовые залы.
Та же участь постигла и сделанную в субботу третью попытку призвать патриарха «на суд собора». В Сыропустное воскресенье, вновь обсудив положение, соборяне согласились, что принять условия Никифора невозможно.
– Имею сказать честнóму собранию, – заявил Антоний Силейский, – что мы довольно делали приглашений господину Никифору. Вот уже в третий раз мы призвали его, а он коснеет в своеволии и не является. Итак, если вам угодно, досточтимые отцы, пользуясь соборной властью, объявим ему письменно то, что принято сообщать упорствующим в заблуждении.
Собору это было весьма угодно, и на следующий день несколько епископов отправились вручить патриарху составленную грамоту. Узнав о том, куда и зачем они идут, к ним с криками присоединились многие из толпы, ежедневно после начала собора заполнявшей двор Великой церкви и настроенной воинственно, чтобы не сказать угрожающе: у некоторых в руках были палки, и даже первый день Великого поста мало кого остановил. Народ вместе с посланцами собора вломился в патриаршие палаты и, когда епископы попросили патрикия Фому доложить Никифору об их приходе, разразился криками:
– Пусть выйдет! Довольно уже прятаться от своей паствы! Пусть объявит всем свою веру!
– Да он вовсе и не болен! Это притворство!
– Нечестивый идолопоклонник! Пусть убирается отсюда!
Фома грозно поглядел на толпу и прикрикнул, обнажая меч:
– А ну, хватит! Вон отсюда, варвары! А не то попробуете палок или чего поострей!
Чернь попритихла, кое-кто ретировался, но многие остались. Фома поставил вооруженных стратиотов у дверей в покои патриарха, а сам отправился к нему с докладом. Никифор поначалу отказался принять посланцев собора, но епископы не ушли, продолжая настаивать на встрече и говоря, что такова воля императора. Настаивал на этом и Фома, уверяя, что не допустит никакого бесчинства.
– Хорошо, проси их войти, – со вздохом сказал патриарх келейнику.
Никифор сидел в глубоком кресле с книгой на коленях, закутав ноги в шерстяное одеяло; рядом стояла жаровня с углями. Лоб патриарха перерезала глубокая морщина – еще две недели назад ее не было, она появилась за последние дни. Епископы вошли с дерзким выражением на лицах и остановились посреди комнаты. Один из них, державший в руках свернутую в трубку соборную грамоту, сделал шаг вперед, развернул определение и стал читать трагическим голосом, подобно актеру в театре. «Святой собор, – говорилось в грамоте, – приняв жалобы на тебя, в последний раз обращается к тебе и повелевает явиться для их рассмотрения без всякого отлагательства, чтобы дать ясный ответ». Патриарха призывали «согласиться со всей Церковью относительно устранения икон из святых храмов», а в случае упорства угрожали соборным судом и низложением. Выслушав, Никифор несколько мгновений молча смотрел на епископов, а потом сделал знак келейнику и, когда Николай подошел, отдал ему книгу, сбросил с колен одеяло и, хотя не без труда, поднялся на ноги.
– Кто это такой угрожает нам жалобами и принимает против нас обвинения? – произнес он, в упор глядя на пришедших. – Какой патриаршей кафедры хвалится он быть предстоятелем? Водимый какими пастырскими заботами, подвергает он меня каноническому наказанию? Может быть, меня зовет предстоятель Ветхого Рима? Или Александрийской Церкви? Антиохийской или, может быть, Иерусалимской? Да, если кто-нибудь из них пригласит меня, я явлюсь без промедлений! Но если лютые волки, скрывшись под овечьей шкурой, поносят пастыря, то кто согласиться пойти даже взглянуть на таковых? «Отступите от меня, делающие беззаконие»! Вы никогда не поборете тех, кто утвержден на камне православия, но сами потонете в волнах своей ереси, а Церковь пребудет непотопляемой!
Епископы в первый момент растерялись и не нашлись, что ответить, но тот, что читал грамоту, быстрее других оправился от смущения и уже открыл было рот, однако Никифор знаком руки остановил его, и он замолк, против воли повинуясь спокойному и властному жесту патриарха.
– Выслушайте еще вот что, – сказал Никифор. – Если бы даже Константинопольский престол оказался без первопастыря, то и тогда никому не позволялось бы проповедовать лжеучения и составлять незаконные собрания. Но как сейчас избежите канонического прещения вы, бесчинно и самовольно составляющие ваши злочестивые синедрионы? Вы, учащие всенародно в этом Городе без воли правящего архиерея и к уничижению его, попирая каноны! Не меня, но вас справедливо объявить нарушителями правил! Не мне, но вам я объявляю приговор низложения! А теперь ступайте отсюда и прекратите докучать мне вашим нечестием. Суд ваш, по апостолу, давно готов, и погибель ваша не дремлет! – С этими словами патриарх вновь опустился в кресло, закрыл ноги одеялом и, взяв у келейника назад книгу, погрузился в чтение, словно в комнате не было никаких посетителей. Это уверенное спокойствие окончательно вывело их из себя.
– Возносливый идолопоклонник! – завопил один из них. – Чья погибель не дремлет, так это твоя, и ты скоро убедишься в этом!
Когда они покинули покои патриарха, Фома приказал стратиотам немедленно закрыть двери и крепко стеречь их – и недаром: толпа, узнав от вышедших о том, к чему привел их визит, пришла в настоящее неистовство, и только призвав еще воинов, Фома смог изгнать всех вон; кое-кого из самых буйных пришлось угостить палицами. Оказавшись на улице, они вместе с ходившими к патриарху епископами разошлись вовсю.
– Идолопоклонникам анафема! Да будут прокляты! Да вовек не видят света Святой Троицы! Герман и Тарасий, начальники нечестия и лжепатриархи, да будут прокляты! Никифору, лжепатриарху и отступнику, анафема!
Услышав эти вопли, доносившиеся через окно, патриарх сказал келейнику:
– Николай, помоги мне встать. – Опираясь на руку монаха, он прошел в молельню, упал на колени перед образами и прошептал: – Благодарю Тебя, Господи! Благодарю, что меня, недостойного и нечистого, Ты сподобил принять поношение вместе со святыми отцами!
В тот же вечер Фома доложил императору о бесчинствах толпы. Лев вознегодовал:
– Вот нечестивцы! Передай святейшему, что я очень сожалею о бывшем. Я не знал об этом. Если их с собой привели те епископы, они будут наказаны. Впрочем, – добавил он, – надо и снизойти к людскому невежеству. Народ страждет и отягощен трудами, потому они и сотворили такое, ведь бедный люд так легко возмущается…
На следующий день император приказал соборянам разойтись.
– Еще не время, – сказал он Антонию. – Надо подождать, пока успокоится народ. Если мы низложим Никифора сейчас, то скажут, что епископы пошли на поводу у толпы. Уже ходят слухи, будто эти бесчинники были посланы собором, чтобы убить патриарха. Это никуда не годится! Не будем спешить.
Лев велел схватить нескольких зачинщиков народного буйства перед патриаршими палатами, бичевать и бросить в заключение на две недели. В то же время он приказал усилить надзор за патриархом: к Никифору больше никого не пускали, при нем оставались только келейник, двое прислужников и секретарь, также ежедневно приходил врач. У патриарха забрали часть книг, не только взятых им из библиотеки, но и его собственных. Фома пригрозил забрать и письменные принадлежности, если Никифор еще вздумает «докучать господам синклитикам или иному кому» призывами защитить иконопочитание. Однако на второй седмице поста патриарх всё же сумел переслать игумену Феодору, с просьбой распространить как можно шире, «Защитительное слово к кафолической Церкви относительно нового раздора по поводу честных икон», где вкратце перечислял основания для почитания икон и призывал верных не спорить с еретиками, но держаться принятых всей Церковью решений последнего Вселенского собора. Студийский игумен посадил за работу всех монахов, способных более или менее хорошо писать, и вскоре патриаршее воззвание разошлось по Городу и далеко за его пределы, воодушевив православных и возмутив иконоборцев.
В ночь на пятницу четвертой седмицы поста, по наущению примкнувших к ереси епископов, толпа черни, вооруженная кольями и даже ножами, стала опять ломиться в патриархию, понося Никифора; стража едва смогла отогнать бесчинников. На другой день лечивший патриарха врач, придя с обычным визитом, шепотом сообщил Никифору, что ходят слухи, будто на патриарха готовится покушение.
– Так, – сказал патриарх келейнику, – пора нам готовиться в странствие. Начинай собирать вещи. Надеюсь, государь позволит мне забрать с собой хотя бы мои книги.
Между тем император сурово отчитал Фому за то, что послание Никифора не было перехвачено. Патрикий оправдывался, говоря, что открыто никто ничего не выносил от святейшего, а обыскивать его келейника и прислужников всё же представляется не слишком удобным, да и приказа такого не было…
– Довольно! – прервал его Лев. – Полагаю, дальнейшее ожидание, что патриарх передумает, бессмысленно.
– Августейший, – ответил Фома, – если ты хочешь изгнать его, дело за немногим: пошли к нему людей с носилками, а то он еще слаб из-за болезни, и мы отправим его, куда будет угодно приказать твоему величеству.
12 марта Фома объявил патриарху приказ императора: приготовиться к отбытию из столицы. Никифор вышел к патрикию, тяжело опираясь на посох, и вручил ему письмо к василевсу. В послании говорилось, что патриарх, сколько мог «боролся за истину и благочестие и ничего не упустил из своих обязанностей, не замедлив ни беседовать с просившими о том, ни наставлять внимающих», но за это перенес всякие притеснения и оскорбления, да еще нападки черни; теперь же, в связи с известием о том, что враги веры готовят засаду, чтобы убить его, Никифор оставляет престол «против воли и желания, гонимый злоумышленниками». Прочтя письмо, император в гневе скомкал лист: патриарх, даже уходя с кафедры, сумел превратить свое согласие на уход в обвинение против власти. Той же ночью в патриархию был послан воинский отряд, чтобы вывести Никифора, доставить на корабль и отправить в ссылку – пока в Агафский монастырь, основанный самим же патриархом на побережье Босфора, к северу от Хрисополя. Когда Фома сообщил патриарху о приказе василевса, Никифор сказал только:
– Хорошо, господин, у меня уже почти всё готово к отбытию. Но у меня есть одна просьба: не позволишь ли ты мне проститься с Великой церковью?
Патрикий заколебался: император строго приказал ему как можно быстрее посадить патриарха на носилки и вынести из палат; но эта смиренная просьба человека, под чье благословение еще так недавно преклонялись все подданные Империи и сам василевс, потрясла его. Отказать даже в этом?..
– Да, разумеется, – сказал он, наконец. – Но только, прошу тебя, святейший, не задерживайся.
Пока келейник разжигал кадило, патриарх вновь обратился к Фоме:
– Могу ли я взять с собой свои книги и облачения, или государь велит мне оставить всё здесь?
– Твои личные книги и вещи, святейший, ты можешь забрать. Да, августейший велел передать, что вернет тебе и те из твоих книг, что были взяты недавно, но попозже, когда просмотрит. Его что-то заинтересовало там. Ты ведь не будешь в обиде на эту задержку?
– О, нисколько, – ответил Никифор, взял поданное кадило и, опершись на руку келейника, медленно вышел из покоев в переход, соединявший патриархию с южными галереями Святой Софии.
Светильники во многих паникадилах Великой церкви горели круглосуточно, их мерцающие огни отражались в мраморе стен и колонн, золотили своды, поблескивали на серебряных столпах кивория в алтаре и тонких колонках амвона, играли на драгоценных раках с мощами… Патриарх покадил в сторону алтаря, потом вошел в свою молельню, отдал кадило Николаю, зажег две свечи перед Распятием и, положив земной поклон, стал молиться:
– Боже великий и дивный, Господи всяческих, Тебе ныне вручаю храм сей, Твоим промыслом воздвигнутый! Ты вверил его моему недостоинству, и я, сколько мог, соблюдал его непоколебимым на камне истинной философии, и нескверным передаю Тебе залог сей… Ты видишь, как рыкает лев на Церковь Твою, как волки тщатся расхитить стадо Твое, спаси же призывающих Тебя во истине от этого нечестия! Я же, грешный, предаю себя суду Твоему, руководи меня и путеводствуй, куда угодно Тебе! – Патриарх поднялся, задул свечи и, по-прежнему поддерживаемый келейником, по лицу которого текли слезы, вышел из молельни. Он некоторое время молча смотрел на храм с высоты галерей, а потом прошептал: – Прощай, София, Божественного Слова непоколебимый храм! Возлагаю на тебя замóк православия, никак не сокрушаемый ломом еретичествующих. Тебе вверены отеческие догматы, и никогда не нарушат их никакие извращения еретиков! Прощай, кафедра, взошел я на тебя не по своему желанию, но без насилия, оставляю же ныне по насилию… Прощай и ты, великий Град Божий, православными я обрел обитателей твоих, когда возложен был на меня омофор, и старался сохранить их в православии; ныне же предаю всех деснице Божией!
Когда он вернулся в свои покои, всё уже было готово к отъезду. Служители патриарха и асикрит с плачем подошли под благословение; император разрешил Никифору взять с собой только келейника.
– Чада, – сказал патриарх, – некогда я нашел вас христианами, христианами и оставляю!
…Из книг, изъятых у патриарха, более всего императора заинтересовала объемистая летопись, занимавшая несколько пухлых тетрадей. В предисловии к ней говорилось, что Георгий, синкелл патриарха Тарасия, изучил многих хронистов и историков и написал «краткую хронографию от Адама до царя Диоклетиана», а перед смертью попросил своего друга довершить начатое. «Сознаваясь в своем неведении и в скудости слова, – писал хронист, – мы отказывались от исполнения сего поручения, как превышающего наши силы, но он усильно просил нас не полениться и не оставить его труда недоконченным, и принудил приступить к работе…» О том, что покойный синкелл взялся писать хронографию, Лев слышал, но о его просьбе к другу довершить работу узнал только теперь. Читать всю летопись было недосуг, поэтому василевс прочел только про царствования «нечестивого императора Льва» и сына его «сквернейшего» Константина, «предтечи антихриста», «гонителя отеческих преданий», и пришел в сильное раздражение. Пригласив к себе Иоанна, он показал ему летопись и сказал гневно: