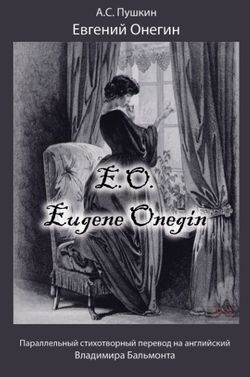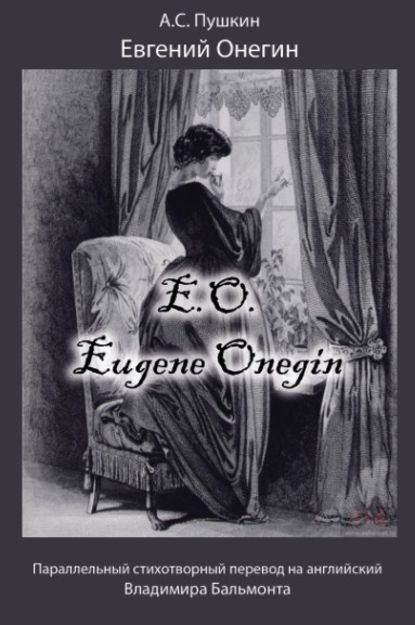Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть – рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полу-смешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
To entertain high life not daring,
Just by the friendly care surprised,
I’d like to give a pledge preparing
To grant to you a better prize,
Worthy of your superior feeling,
Suffused with consecrated dream,
The poetry serene and living,
The thoughts and ease in high esteem.
But let it be, your care revealing
Accept the florid chapters’ row,
Semi-amusing, semi-wistful,
Ideal, folkish, truly blissful,
What my light-headed pen did draw,
The fruits of vigils, inspirations,
Immature and now faded years,
Of the cold mind’s observations
And of my heart so doleful breaths.
Глава I
I
«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
II
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.
Chapter I
I
“My uncle by a good will featured,
When falling seriously ill,
Has turned into exacting creature
And could not make a better deal.
It is for others a good lesson,
But what a boredom is the session:
To watch a sick man day and night
And do not make a step aside!
What mean deceitfulness it is:
To feign compassion dozing drugs,
To set and fluff the pillows, thus,
To entertain a half deceased,
To show fake sympathy, then, sigh
And think: Oh gosh, when will you die! ”
II
It was what a young rake expected,
When dusting post-chaise speeded him,
By Zeus’s supreme will elected
The only heir of all his kin.
The friends of “Ruslan and Lyudmila”!
Here is my novel in verse hero,
With no preface and just right now
Let me acquaint you with the one:
Eugene Onegin, my good fellow,
Was born on Neva’s even shores,
Which, probably, were home of yours,
Or where you used to shine and revel.
It’s where I also used to play,
But North is not for me, they say[1].
III
Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l’Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.
IV
Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет –
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.
III
His father served exactly fairly
Relying mostly on a debt,
At least three balls used to give yearly
And became bankrupt in the end.
Eugene’s fate, though, was well disposed:
At first, a Madame cared and nursed,
Then, paltry French cared for the kid.
The boy was frisky, but still sweet.
Monsieur l’Abbé was not too formal
Didn’t want to spoil the child’s rest,
Preferred to teach him just in jest
And didn’t bore him with strict moral,
For pranks he used to grant a pardon
And walked him to the Summer Garden.
IV
And when the childhood had passed,
There came the time for youth to play,
The time so tender, sweet and blessed,
Monsieur was fired right away.
No one restrains Onegin’s passion,
His hair is cut in modern fashion,
Like London’s dandy he is clothed
And finally has seen the world.
His manners are like he’s from France,
He speaks good French and writes, as well,
Dances Mazurka very well,
And makes a bow with charm and grace;
What else you need? The high world found
That he was pretty nice and sound.
V
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.
VI
Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.
V
We all did study with no straining
The useless subjects anyhow,
Thus, thanks to God, to show good training
Makes just no difficulty now.
Onegin was by view of many
(Who judge severely, but fairly)
A scholar, but a prig, as well,
He had a talent, I can tell,
With no compulsion simply chatting
To touch a subject quite a bit,
And just like knowing all of it
To remain silent when debating,
And to arose the ladies smile
By sudden epigrams’ brisk style.
VI
Latin today is not high value,
But if to be sincere and just,
He knew in Latin a good many:
The sense of epigraphs could grasp.
With Juvenal he was best friend,
Put vale[2] in the letters end.
From Eneida in his mind
At least two verses he could find.
He didn’t have any inclination
To dig in prehistoric dust,
In detail analyze the past,
But funny stories of the ancient
From Romulo to recent day
He didn’t forget and did retain.
VII
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
VIII
Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд и мука и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень, –
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.
VII
He wasn’t at all a lofty person
To sacrifice his life for rhymes:
Iambus or trochee in the verses
Could never ever recognize.
He reproved greats of Ancient Greece,
By Adam Smith was really pleased,
In economics was expert,
Id est[3], could prove by means of what
The commonwealth can reach a progress,
How can a state exist and why
There is no need in gold supply,
When it avails a simple produce.
His dad could not that understand,
And put in pledge the estate land.
VIII
Discuss of all Onegin’s virtues
(No doubt) will take too much time,
But which of these had made a fortune,
What were his beliefs in the prime?
What was for him from infant’s years
The work, the suffer and the rest,
What occupied him all the day
Besides the melancholic stay?
It was the tender feels inciting
Hymned in the verses by Nasō[4],
The art the poet suffered for,
By which his stormy time was shining;
From beloved Italy exiled
In the Moldova’s steppes he died.
IX X
Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!
XI
Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиленья,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья…
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!
IX X
How young was he to be dissembler,
Feel jealousy and harbor hope,
Persuade, dissuade, and then surrender
To feels, to look like sad or bored,
To appear proud and obedient,
Attentive, listless or convenient!
How was he languishing tightlipped,
And how expressively could speak!
How careless was in private letters!
And when something had stirred his blood
How could give up himself for love!
How fast and tender were his glances!
He could be bashful, could be gay,
And could drop tears, which were a play!
XI
How skillful was he to look modern,
To amaze innocence by jest,
To scare by recklessness a virgin,
By pleasing flattery impress,
To catch a minute of emotion,
To supersede by will and passion
The prejudice of naïve years,
Expect unconscious sweet caress,
To pray and call for a confession,
To overhear the first soul’s sigh,
To follow love and in a while
To intercept a lady’s passion,
And later in a lonely site
To give her lessons in a quiet!
XII
Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.
XIII. XIV.
XV
Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
XII
How early could he make excited
A heart of regular coquette!
And when to ruin he decided
In rage his person’s contestant,
How awfully caustic he was!
What artful nets he spread for those!
But you, the husbands, were so kind
That friendship with him did not mind:
He was caressed by cunning spouse –
Faublas’s[5] old-established friend,
And a suspicious old man,
And cuckold, who looks always nice,
Is proud of his style of life,
His copious dinner and his wife.
XIII. XIV.
XV
Sometimes, he used in bed still staying,
When they bring little notes; all right,
The invitations, they are saying
Three homes invite him for tonight:
Here is a ball, there is a party.
Where will proceed my naughty partner?
What place he’ll go to visit first?
He’ll manage all of it, of course.
And so far in a morning clothing,
In a wide hat la Bolivar
Onegin drives to boulevard,
And in the open air keeps strolling
Till sleepless Breguet rings him that
It is your lunchtime, don’t forget.
XVI
Уж тёмно: в санки он садится
«Пади, пади!» – раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром Лимбургским живым
И ананасом золотым.
XVII
Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать entrechat,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).
XVI
It’s getting dark, he takes a sleigh,
“Gee up” – an eager cabman cries,
His beaver collar in night shade
By frosty crystals sparks and shines.
To chef Talon[6] he speeds aware
Kaverin is awaiting there.
Gets in, – a cork with pop springs up,
And wine like comet jets to cup,
Here is a roast beef’s bloodstained slice,
And truffles – splendor for the youth,
French cuisine’s the highest proof,
And Strasburg pie so neatly lies
Between a slice of Limburg cheese
And a pineapple’s golden piece.
XVII
The thirst for goblets still requires
To quench the cutlets’ fiery fat,
But Breguet watch’s bell reminds:
The theatre a new ballet sets.
The stage’s vicious fashion maker,
The charming actresses’ caretaker,
The well-known youthful theatre sage
And honored dweller of backstage,
Onegin speeded to the theatre,
Where everyone feels free and sage
To hiss an actor off the stage,
To catcall Ph(a)edra, Cleopatra,
To call Moina[7] (to attract
Attention to himself by that).
XVIII
Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.
XIX
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?
XVIII
A magic land! There in old years
The freedom potentate Fonvisin[8]
His satire plays with triumph staged,
And Knyazhnin made the public dizzy.
There, Ozerov shared presentations
Of public’s tears and clapping splashes
With young Semenova; just there
Appeared Katenin and did dare
Revive Corneille’s dramatic story,
And always biting Shakhovskoy
Became the comedy le roi;
That’s where Didlo[9] was crowned with glory.
There, in the shadow of the wings
Flied by my youthful day extremes.
XIX
My goddesses! How are you doing?
Please, heed my voice and sad request:
Are you the same? Or other huris
Have occupied on stage your place?
Could I again hear your great chorus,
Could I see Russian Terpsichore’s
By soul performed exalted flight?
Or dismal glance will fail to find
On the dull stage the well-known faces,
And watching through lorgnette the world
I’ll be bystander sad and cold,
Indifferent to the new graces,
And yawning calmly and speechless
Will be remembering the past?
XX
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.
XXI
Всё хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился – и зевнул,
И молвил: «всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел».
XX
The hall is full, the boxes flashing,
The stalls and armchairs are in boil,
The circle top with clapping splashes,
A curtain rustles in a whirl.
Airy, magnificent and brilliant,
And to a fiddlestick obedient
Istomina stands in a crowd
Of nymphs, who make a nice background.
One of her feet touches the floor,
The other circles fairy light,
She suddenly jumps and is in flight,
Like fluff produced by Aeolus blow;
Now twists her waist, and now untwists,
By one quick foot the other beats.
XXI
All clapping. Here’s Onegin coming,
He walks through armchairs, steps on feet,
And his lorgnette aside aligning
To unknown ladies in box seat;
The theatre’s circles he glanced over,
Disliked the faces and adornments,
Vulgar and tasteless all that found,
Exchanged the bows with men around,
Casted his gaze straight to the stage,
And did it with a vacant look,
Averted, yawned and did conclude:
“It is right time all that to change.
Ballets awake in me just bore,
Didlo doesn’t stir me anymore”.
XXII
Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони:
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.
XXIII
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, –
Всё украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.
XXII
The cupids, demons, snakes and devils
Still jump all over and make noise.
The tired lackeys at the doorways
Right on the fur coats are in drowse.
The footfall hasn’t, yet, pacified,
The cough and clapping have not quiet.
Inside and out of the theatre
The lamps are lighting by a glitter.
The horses thrashing in the cold
Are pretty tired of the harness.
The cabmen crowd at the fires,
Clap hands and idle masters scold.
Onegin now is getting off,
He forwards home to change the cloth.
XXIII
Can I depict my true impression,
A lonely private room portray,
Where foster child of the fashion
Was dressed, undressed and dressed again?
All stuff that busy London’s merchants
To agitate high life’s emotions
Bring to us through the Baltic waves
To change to wood, pigs’ fat and grains,
All what in Paris hungry taste
Invents for fun according fashion,
Promoting splendid life impression
To drive the trade, and that makes sense,
All that the study room adorned,
And to eighteen years sage belonged.
XXIV
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем не прав.
XXV
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.
XXIV
Carved amber from Constantinople,
Bronze on the table, chinaware,
Perfume in stylish cut-glass bottle
(A pleasure for effete young man),
Steel files for nails and combs for hair,
A set of scissors, curved and straight,
The brushes more than thirty breeds
To polish nails and brush the teeth.
Russo (to mention passing that)
Got really mad, when pompous Grim
Dared polish nails in front of him,
Romantic eloquent madcap.
The liberty and rights defender
This time was wrong that way to render.
XXV
You can be a pragmatic person,
Yet, care for beauty of your nails,
To cite against looks controversial,
Since people are the customs’ slaves.
Chadaev’s[10] copy, my Onegin,
Being afraid of jealous blaming,
When choosing clothing was a prig
And followed fashions being strict.
Three hours he used at least
To spend in front of tailors’ mirrors,
And his from fitting room appearance
Reminded flighty Venus feast,
When she in menswear being clothed
To masquerade drives from abroad.
XXVI
В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.