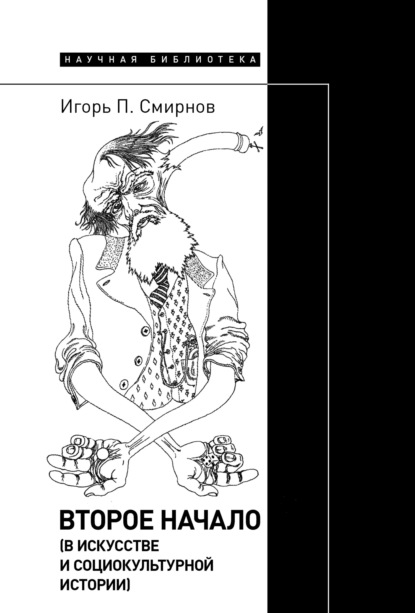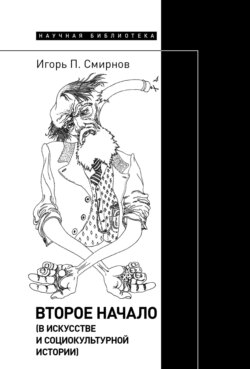
000
ОтложитьЧитал
II. Литература
Критическая антропология Достоевского
Часть первая. В преддверии больших романов
Вперед к Михайловскому! После того как Николай Михайловский окрестил Достоевского «жестоким талантом» (в одноименной статье, 1882), проводившаяся писателем критика человека если и не подверглась замалчиванию, то все же отошла на задний план исследований. Главное место в них занял ответ на вопрос, какова эстетическая установка романов Достоевского. Вячеслав Иванов обнаружил ее в возвращении большого повествования Нового времени к античной трагедии с ее катастрофизмом («Достоевский и роман-трагедия», 1914). Борис Энгельгардт определил романы Достоевского как «идеологические»[20], а Леонид Гроссман – как «авантюрно-философские»[21], так что в обоих случаях художественный текст был представлен берущим на себя умозрительное задание. Ни один из названных подступов к повествовательному искусству Достоевского не смог впоследствии выдержать соревнования с бахтинской концепцией «полифонического романа» («Проблемы творчества Достоевского», 1929), снявшей с автора мировоззренческую ответственность, которая была переложена на его героев. Получившие признание соображения Михаила Бахтина отчасти были предвосхищены уже Андре Жидом, писавшим в 1908 году об умении Достоевского вещать от чужого лица и сбивчивости его собственной речи, и в еще большей степени Аароном Штейнбергом, увидевшим в мысли Достоевского «симфоническую диалектику»:
…он, как настоящий дирижер, поворачивается спиною к публике и безмолвно повелевает всему многоразличию голосов, из них создавая оркестр и хор ‹…› Какой у него самого голос? ‹…› Его голос – в смене тем и мотивов, в ритме, в инструментовке, в согласном звучании всех голосов…[22]
В споре с Бахтиным, для которого Достоевский был первооткрывателем нарративной «полифонии», Валентина Ветловская сделала упор на жанровом традиционализме «Братьев Карамазовых». Последний роман Достоевского принадлежит, в ее подаче, к риторической сфере аргументативно-убеждающей речи, которая компрометирует мнения одних персонажей и снабжает авторитетностью суждения других[23] (в этом толковании перед нами, по сути, roman à thèse). Наряду с конструктивным выявлением особенностей, присущих романному творчеству Достоевского, оно дефинировалось и через отрицание. С точки зрения Георга (Дьердя) Лукача Достоевский вовсе «не писал романов»[24]. Роман, по Лукачу, берет действительность, покинутую Богом, с необходимостью in toto, тогда как у Достоевского намечается прорыв в инобытийность, пусть лишь созерцательно предположенную, пусть и не вступающую в непосредственное противоборство с веком сим. Штейнберг наделял произведения Достоевского минус-признаком с тем доводом, что они констатировали непродолжаемость связного развертывания истории:
Романы Достоевского суть романы о невозможности романа, т. е. книги, в которых анализируется распад всех «красивых», законченных исторических форм…[25]
В трактовке Михайловского человек, изображаемый Достоевским, дефектен (деспотичен, преступен, склонен наслаждаться страданием) постольку, поскольку писатель был преисполнен скепсиса касательно возможности общества развиваться на пути самосовершенствования. Вердикт Михайловского преодолевался не только за счет смещения исследовательского интереса с идеологии Достоевского на художественное своеобразие его текстов, но и так, что они оценивались как явление «нового гуманизма», превосходящего узко социальное понимание человека и сосредоточивающегося на трагедийности человеческого рода, которому предназначено самому – в колебаниях между Злом и Добром – решить, каков его удел. Наиболее последовательное воплощение антропологический подход к Достоевскому получил в работах Николая Бердяева «Откровение о человеке в творчестве Достоевского» (1918) и «Миросозерцание Достоевского» (1923). Согласно Бердяеву, антиципировавшему философию экзистенциализма, conditio humana заключается для Достоевского в принципе свободы, каковая выступает и в виде своеволия, наносящего ущерб Другому, а заодно губящего своего субъекта, и в виде отрешения человека от себя ради обращения к Богу. Человек, по убеждению Бердяева, исчерпывает собой у Достоевского всю охваченную его творчеством действительность:
…вопрос о Боге подчинен у Достоевского вопросу о человеке и его вечной судьбе. Бог у него раскрывается в глубине человека и через человека[26].
Антропологизм Достоевского несомненен. Неудовлетворителен тезис Бердяева, который приписывает Достоевскому веру в то, что человек способен суверенно распорядиться своей дальнейшей судьбой. Антропологически нацеленная критика, предпринятая Достоевским, заходит столь далеко, что опровергает расчет человека на какой бы то ни было положительный выход здесь и сейчас из антиномий, в которые ввергнуто его сознание. Конечно же, герои Достоевского могут прийти к Богу, но сделавший этот шаг в «Бесах» Шатов обрекается на смерть, а истово религиозный Алеша в «Братьях Карамазовых» не в состоянии помешать отцеубийству. Для Достоевского неприемлемы и всечеловек, русский космополит («citoyen du monde»), и homo socialis, грезящий о справедливом обществе, которое оборачивается равенством его одинаково порабощенных членов, и индивид, тем более самостный, чем более волеизъявление вовлекает его в hybris. Достоевский оспаривает человека во всех его трех ипостасях – родовой, социальной и персональной. Стоит отвлечься от расхожего прогрессизма Михайловского и признать хотя бы отчасти правоту его высказываний о неверии Достоевского в человека. Только если мировидение Достоевского станет прозрачным в своих предпосылках, прояснится и устройство его текстов.
Постепенно, начиная с 1840-х годов, захвативший главенство в социокультуре и вытеснивший из нее романтическую ментальность так называемый «реализм» был системой мышления по аналогии, аргументом которой служила действительность эмпирическая, а функцией – та, что возникает в наших представлениях, вследствие чего текст уподоблялся фактической среде, потустороннее – посюстороннему, воображение – восприятию, абстрактное – конкретному, будущее (например, бесклассовое общество) – уже бывшему («первобытному коммунизму») и т. п.[27] Местом Достоевского в реализме, одним из застрельщиков которого он был, стала метапозиция (о ней будет сказано ниже) – аналог самой системы аналогий. С такой – одновременно внеположной и внутриположной по отношению к системе – точки зрения неважно, что является аргументом, а что – функцией сходства. Существенно лишь то, что оно всеохватно, универсально. Если есть аналог к любым аналогиям, то он нейтрализует их вектор, выставляя на передний план их значимость как таковых. Все, что бы то ни было, связывается взаимоподобием. Как распознать, что чему подражает? Главная тема Достоевского – соперничество похожего (двойников, отца и сына, инициатора и имитатора, высокого и низкого носителей одной и той же идеи и т. п.). Мимесис в творчестве Достоевского не имеет внешней инстанции, он вершится в мире, выходя из которого, чтобы занять метапозицию, наталкиваются на ту же самую аналогию, что господствует и внутри него. Человек заключен в универсум, в котором никакая революция не может стать подлинным преображением действительности, лишь множащейся в отражениях исходного положения дел. Человеку довлеет поэтому первородный грех, как если бы Христос не искупил его. Мы бессильны избавиться от изначальной вины. Царство Божие на земле устроится только в результате Второго пришествия, придет к нам из инобытия. Пока парусия остается предметом чаяния, человек не спасен, хотя бы теоретически (в проекте государства-церкви) он и мог приблизить наступление времени прощения и благодати, хотя бы в практике странничества и старчества он уже приуготовляется к этому эпохальному перелому. Достоевский отклоняется от догматического христианства, считающего, что Христос, жертвуя собой, освобождает род людской от проклятия, которому был предан ветхий Адам. Творчество Достоевского – явление гностицизма на русской почве с тем отличием от гностических учений первых веков христианства, что ставит на место негативного демиурга, воплощающего собой вселенское Зло, самого человека – законодателя и преступника в одном лице, создателя поврежденного миропорядка. Достоевский – нигилист «в высшем смысле», отрицающий целиком человеческую историю ради ее второго начала по ту сторону достигнутых ею результатов, за пределом ее собственных секундарных инициатив.
Безвыходное бытие-в-мире. Интуиция, согласно которой действительность не поддается трансцендированию из ресурсов, имеющихся в ее распоряжении, предшествовала у Достоевского выработке представления о необходимости радикальной переделки человеческой природы. В ранней прозе он был занят прежде всего выстраиванием смысловых конструкций, завершающих катастрофой попытки героев изменить status quo ante, ввести предзаданное течение событий в иное русло. Приходящий на смену романтизма реализм утверждает в интерпретации молодого Достоевского примат объективно данного над намерениями субъекта столь безоговорочно, что вовсе отнимает у человека свободу воли.
В «Бедных людях» влюбленность и Вареньки Доброселовой в студента Покровского, и Макара Девушкина – в Вареньку равно подытоживается неудачей: студент умирает, Варенька прекращает общение с Девушкиным, выходя замуж за помещика Быкова – брак по нужде не обещает ей счастья («…я ‹…› не в рай иду»[28], – замечает она). В полемике с лейбницевской «Теодицеей» (1710) Достоевский квалифицирует «метафизическое Зло» (нехватки, обделенности) как неуравновешиваемое Добром: сторублевая банкнота, которую жертвует Девушкину глава ведомства, где тот трудится переписчиком, не улучшает его бедственного положения. Воля «per se», направляющая у Лейбница всех людей от malum к bonum, такова же и в «Бедных людях», однако здесь она, вразрез с «Теодицеей», не только не действенна, но дает обратный эффект – умножает уже наличное в жизни Зло («Я умру, ‹…› непременно умру» (1, 107), – пишет Девушкин, уподобляющийся Покровскому, в прощальном письме к Вареньке). Достоевский создает собственную версию того спора с «Теодицеей», который Вольтер вел в романе «Кандид, или Оптимизм» (1759). Далеко не случайно непорочная фамилия несчастного чиновника Девушкин перекликается с чистым, невинным именем заглавного героя вольтеровского романа. По своему личному имени (от др.-греч. Makários – «счастливый») Девушкин предназначен к успеху, которого он не добивается так же, как и ученик Паглосса. Но в отличие от Кандида Девушкин не находит для себя в конце концов никакого убежища. Сообразно с тем, как действительность оказывается не преобразуемой к лучшему, она не может быть и переведена в эстетически полноценный текст: автор «Бедных людей» уступает речеведение персонажу, чей литературный вкус пребывает в становлении и чей «слог» только еще «формируется» (1, 88, 108), но так и не созревает к финалу переписки, прерванной неблагоприятными обстоятельствами.
Стремление мелкого чиновника Голядкина в «Двойнике» повысить свой социальный ранг в роли гостя на празднике по случаю дня рождения дочери статского советника Берендеева приводит героя к безумию. В беседе с врачом Крестьяном Ивановичем Голядкин (как в ранней, так и в поздней редакциях повести) противопоставляет себя публичному человеку, охотнику до «мизерных двуличностей»: «Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно» (1, 117). Герой «Двойника», не желающий считаться с иерархическим порядком в обществе, руководствуется «Рассуждением о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755), где Руссо обвинял цивилизацию в том, что она деидентифицирует человека, делая его зависимым от чужих мнений и принуждая его выдавать мнимости за реалии (возможно, Достоевский учитывал и поучения Бальтасара Грасиана об обязательности лицедейства в социальном поведении, которые тот изложил в трактате «Карманный оракул» (1647), переведенном на русский язык в 1742 году под названием «Придворный человек»). Искомое социальное равенство Голядкин обретает во встрече со своим двойником, с копией, покушающейся захватить позицию оригинала. Двойничество у Достоевского разнится с романтическим, к которому оно обычно возводится[29], тем, что не отнимает у индивида его неотчуждаемую собственность, будь то тень или части тела (что Зигмунд Фрейд понял в статье «Das Unheimliche» (1919) как манифестацию кастрационной фантазии), а являет собой сугубую избыточность («Мать-природа щедра; а с вас за это не спросят, отвечать за это не будете» (1, 149), – говорит Голядкину-первому о Голядкине-втором столоначальник Антон Антонович). Достоевский предпринимает возвратное движение от романтизма к архаическому близнечному культу, который знаменовал собой изобилие, лежащее в неисчерпаемом истоке ритуального общества. Но в условиях поступательного исторического времени двойничество имеет смысл не позитивного, а негативного изобилия, препятствующего переходу человека, который наталкивается на тавтологию, из одного (низшего) состояния в другое (высшее). Достоевский доводит трактовку этого перехода до логического максимума, ассоциируя его с продолжением жизни после смерти. Голядкин-младший «не из здешних», он получает в канцелярии «место Семена Ивановича, покойника» (1, 149); со своей стороны, Голядкин-старший ощущает себя «самоубийцей» (1, 212), существом, покинувшим мир сей: «…тут сам от себя человек исчезает…» (1, 213). Двойничество становится у Достоевского пародией на представление о загробном воздаянии, превращающемся из спасения души в инобытии в такое дублирование здесь и сейчас плоти, которое вытесняет тело-оригинал с его позиции.
Называя Голядкина Яковом Петровичем, Достоевский меняет местами имя и отчество Петра Яковлевича Чаадаева. Похоже, что увлеченный эпистолярным творчеством безумец Голядкин был репликой Достоевского не только на естественного человека Руссо, но и на объявленного сумасшедшим составителя Первого философического письма (1829), в котором отстаивалась мысль о том, что возведение царства Божия уже совершилось у исторических народов Запада. России, не принадлежащей ни Западу, ни Востоку, предстоит, по Чаадаеву, повторить то религиозное воспитание человеческого рода, которое позволило ему – благодаря искуплению первородного греха Спасителем – искоренить господство Зла и приблизиться в европейских странах к установлению совершенного строя на земле. Застав в канцелярии своего двойника, Голядкин после первого смятения «возродился полной надеждой, точно из мертвых воскрес» и «почувствовал себя точно в раю» (1, 151). Но повторение себя в Другом влечет за собой не благое новое начало жизни (оно мнимо), а делает Голядкина вовсе безместным, теряющим ум и индивидную определенность, как ее нет, по мнению Чаадаева, у России, которая была названа в Первом философическом письме «пробелом» («lacune») в «интеллектуальном порядке»[30]. Достоевский переворачивает смысловое построение Чаадаева так, что подменяет погоню за Другим, ушедшим вперед, духовно возвысившимся, параноидным бегством от Другого, телесно тождественного тому, кто подвергается преследованию. В научной литературе Достоевский рисуется противником Чаадаева-западника, вступившим в прения с ним в «Подростке», где его идеи разделяет Версилов[31]. Однако возражения Достоевского на Первое философическое письмо скрытно присутствуют уже в «Двойнике», касаясь в этой повести не экклезиологии, а проблемы земного рая и преображения человека, каковое захлебывается здесь в двойничестве.
Проза Достоевского до каторги варьирует свою основоположную тему безальтернативного, непереиначиваемого существования, проводя ее через разные категории, из которых в нашем сознании складывается общая картина мира. В «Господине Прохарчине» на роль категориальной доминанты изображаемой реальности выдвигается капитал, оказывающийся не пущенным в оборот, втуне лежащим богатством, обладатель которого умирает бедняком, не воспользовавшись накопленными деньгами[32]. В pendant к тематическому развертыванию этого рассказа, упирающемуся в ничто, в присутствие денег, равное их отсутствию, он сам вырождается в финале в бессвязную (предвосхищающую косноязычие ставрогинской исповеди) речь мертвеца, которая компрометирует своей дефектностью высказанную в ней надежду на воскресение: «Я, то есть слышь, и не про то говорю; ты, баба, туз, тузовая ты, понимай; оно вот умер теперь; а ну как этак, того, то есть оно, пожалуй, и не может так быть, а ну как этак, того, и не умер – слышь ты, встану, так что-то будет, а?» (1, 263).
Повесть «Хозяйка» центрируется на проблеме знания, которое персонифицирует молодой ученый Ордынов, бросающий кабинетные занятия ради знакомства с народной жизнью как она есть. Погружение в нее, связываемое героем «с обновлением и воскресением» (1, 278), обещающее апокатастасис («…целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова ‹…› он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами…» (1, 279)), не дает в результате разгадки ее тайны. Действительность чревата не Откровением, а биполярностью, которая непреодолимо препятствует ее постижению. Ордынов бессилен выбрать, кому следует верить: Катерине ли, поведавшей ему о преступной тирании старика Мурина, или Мурину, объясняющему этот рассказ болезнью своей жены (что подтверждают дворник-татарин и не вполне надежный в своем свидетельствовании Ярослав Ильич). Покидая непрозрачную обыденность якобы простого люда, Ордынов вовсе утрачивает познавательную способность («…рассудок отказывался служить ему» (1, 305)) и порыв в неизвестное («Будущее было для него заперто…» (1, 309)). Катерина кажется Ордынову Душой мира. Выйдя из беспамятства, в которое он впал, только что переселившись к Мурину, он ищет «вокруг себя ‹…› невидимое существо» (1, 275), а позднее соединяет свою возлюбленную с космосом: «Из какого неба ты в мои небеса залетела? ‹…› к кому там впервые твоя душа запросилась?» (1, 202). Словно бы вторя Джордано Бруно, философствовавшему об Anima mundi в трактате «О причине, начале и едином» (1585) и сожженному на костре через пять лет после выхода этого сочинения из печати, Ордынов первым делом падает в новом жилище «на кучу дров, брошенных старухою среди комнаты» (1, 275), причем падение предваряется мотивами печи, огня и спичек. Но забытье героя лишь отдаленно напоминает мученическую смерть Бруно, точно так же как все менее уверенным становится к концу повести восприятие Ордыновым Катерины. Единящая универсум у Бруно «абсолютная потенция» делается в «Хозяйке» химеричной, так что проникновение в сущности, таящиеся за гранью явленного, не может более рассчитывать на успех. (Впрочем, Достоевский не приминул просигнализировать о своей работе с претекстом, дав герою имя Ордынов, сходное по звуковому составу с Джордано.)
Абстрактное основание еще одной ранней повести Достоевского «Слабое сердце» составляют концепты вины и наказания. Женитьба Васи Шумкова на Лизаньке расстраивается из-за того, что герою не удается выполнить задание, полученное им от начальника департамента. Вася не в силах справиться с переписыванием важных бумаг, хотя у него и есть на это время, по той причине, что ему врождено чувство неполноценности, сразу и физической («Я родился с телесным недостатком, я кривобок немного» (2, 25)), и духовной: он полагает «себя виноватым сам перед собою» (2, 40; курсив – в оригинале). Предзаданное Васе несовершенство неизбывно – и в качестве непоправимого может быть восполнено, как того требует его больная совесть, только карой со стороны общества. Вася напрашивается на взыскание по службе, он желает быть наказанным, оставляя порученную ему работу незавершенной, лишь как бы производя ее (он «водит по бумаге сухим пером» (2, 43)). Герой «Слабого сердца» расплачивается безумием за несчастье своего происхождения на свет – его вина в том, что он таков, каков он есть. Вася виновен до того, как какой-либо поступок мог бы побудить его к сожалениям о содеянном. Уже «Слабое сердце» тематизирует первородный грех, о значимости которого для протагонистов больших романов Достоевского писал Альфред Бем, делая отсюда следующий вывод:
В таком случае ‹…› чувство греха, виновности может наличествовать в психике вне соотносительности с осознанием преступления. Очень часто психика такого пораженного чувством вины сознания сама ищет преступления ‹…› Здесь ‹…› надо искать объяснений такой формуле Достоевского, как „все за всех виноваты“…[33]
Вася «кривобок», намекая на Адама, ребро которого пошло на сотворение Евы. В «Слабом сердце» Достоевский впервые сопрягает нетрансцендируемость жизненного уклада с неснятой с человека ответственностью за нарушение Адамом заповеди Создателя. И здесь же свойственный ранней прозе Достоевского катастрофизм развязок обретает глубокую мотивировку: человеческие действия губительны, ибо изменить conditio humana может только Божественный промысел. В заключение повести другу Васи Аркадию является видение небесного Петербурга (оно повторится в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» и отчасти в «Подростке») – аналога небесного Иерусалима у Блаженного Августина:
…со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, ‹…› что весь этот мир ‹…› в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу… (2, 48)
В архетипическом плане начальные тексты Достоевского отправляют нас к переходным ритуалам, не достигающим в них, однако, своей цели, не перемещающим индивида из одной экзистенциальной ситуации в другую. Рождение (внезапное появление) Голядкина-младшего фантомно, ирреально, будучи плодом делириума, в который впадает герой «Двойника» (по аналогии с объявленным сумасшедшим Чаадаевым). Смерть в «Господине Прохарчине» приобщает людей, окружающих заглавного персонажа повести, не инобытию, а тому, что было, открывая им тайну накопительной страсти усопшего. Повесть десакрализует похоронный обряд. В «Хозяйке» показана терпящей крах инициация, знакомившая подрастающих участников коллектива с секретным знанием, которым владеют старшие. В «Слабом сердце» продуктивность теряет еще один из четырех (наряду с рождением, смертью и инициацией) rite de passage – заключение брачного союза. Развертывание негативной антропологии Достоевского подготавливается осуществлявшимся им расшатыванием ритуального фундамента, на котором покоилось архаическое общество, но который сохранил, претерпев трансформации, свою регулятивную силу для индивидов и в историческом социуме.
Перелом. Преобладающее у исследователей Достоевского рассмотрение его творчества как целостности правомерно[34], однако нуждается в коррективах, коль скоро эта тотальность не возникла сразу готовой, а пребывала в постоянном трансформационном становлении, в процессе которого ее отправная посылка (мысль о том, что человек заперт в тех обстоятельствах, в какие он однажды попал) все более усложнялась за счет добавочных умственных ходов и вхождения в конфронтацию с прежде не бравшимися в расчет чужими идейными построениями. Главное, что преобразовало исходную антропологическую модель в творчестве Достоевского после того, как оно было прервано каторгой, заключалось в таком освещении человека, в котором он выступил расколотым существом, несущим Другое в себе, устремленным к перевоплощению, но растрачивающим волю быть иным в самоопровержении. Если в ранних текстах Достоевского действующие лица безуспешно вырывались из обстановки, в какой они находились, то в прозе, непосредственно предварившей написание больших романов, человек выведен превозмогающим самого себя и, тем не менее, остающимся собой ввиду имманентной ему двупланности. Можно сказать, что испытывающий поражение у молодого Достоевского homo ritualis оказывается в дальнейшем субъектом исторического изменения, которого он жаждет, дабы удовлетворить самоинаковость, но которое ему не удается осуществить так же, как прежде рушились социализующие индивида обряды перехода. Как точно сформулировал Василий Розанов, Достоевский
приник ко злу, которое скрывается в общем строе исторически возникшей жизни; отсюда его неприязнь и пренебрежение ко всякой надежде что-либо улучшить посредством частных изменений[35].
Судьба Достоевского складывалась так, что его внутренняя психомыслительная деятельность находила событийное подтверждение, как если бы она обладала силой предсказывать случающееся на деле (чем объясняется профетизм, свойственный автору «Дневника писателя»). Эдипов комплекс Достоевского, обожавшего мать и вычеркнувшего из памяти угрюмо-вспыльчивого отца, обернулся к будущему писателю своей неожиданно фактической стороной, когда глава семьи был убит крепостными[36]. Соположенное эдипальности аналоговое сознание (которое возводит сына в ранг двойника-конкурента отца) было у Достоевского не просто пунктом психической фиксации, формирующей личность, но, более того, онтологизировалось[37], опрокидывалось в такую реальность, где как будто не имелось никакой альтернативы душевному строю познающего ее индивида. Ницшевское «вечное возвращение подобного» стало для дебютировавшего автора императивом, обусловившим смысловую организацию его текстов. Достоевский отказывался признать различие между субъективным писательским замыслом и жизнетворческим актом. В опубликованной в 1847 году «Петербургской летописи» он заявил: «…жить значит сделать художественное произведение из самого себя» (18, 13). Метапозиция Достоевского в отношении к позитивистски-реалистической эпохе была следствием его прохождения через двойную – эндогенную и экзогенную – эдипальность.
Еще раз интенцию, которой было подчинено сознание Достоевского, удостоверила каторга – такой же закрытый, отбирающий у личности возможность «переменить свою участь» (4, 45) мир, как и тот, что был обрисован в первых произведениях писателя. Парадоксом того положения, в каком очутился Достоевский, было то, что он попал в «заживо Мертвый дом» (4, 9) после нового рождения, которым стала отмена готового быть приведенным в исполнение смертного приговора. Другое начало жизни не выводит нас из экзистенциального тупика – вот та предпосылка, из которой вызрело убеждение Достоевского в том, что надежда, возлагаемая двойственной человеческой натурой на историю, тщетна.
В «Записках из Мертвого дома» человек, утверждающий себя за пределом рутинного существования, т. е. homo historicus, не кто иной, как правонарушитель, которого ожидает возмездие за преступление. В восприятии Достоевского преступность не экстраординарна, а естественна для человека, почему у каторжан не бывает «угрызений совести» (4, 147); они рассказывают «о самых страшных ‹…› поступках ‹…› с самым детски веселым смехом» (4, 15). Между теми, кто посажен под стражу, и теми, кто на воле, для повествователя в «Записках из Мертвого дома» нет принципиальной разницы: «Эти люди ‹…› вовсе не ‹…› хуже тех, остальных, которые остались там, за острогом» (4, 57; курсив – в оригинале). Раз нарушение нормы не противоречит человеческой сущности, оно вписано в сам закон, устанавливаемый людьми. Будучи персонифицированным, вочеловеченным, закон провоцирует противоправные поступки: Лучка зарезал майора, провозгласившего, что он «царь ‹…› и Бог» (4, 90); Баклушин уложил выстрелом немца-часовщика Шульца, не допускавшего, что его соперник в любовных делах не испугается наказания за убийство. С неподлежащим взятию назад криминальным поведением коррелирует в «Записках…» искажение катарсиса, сигнализирующее о невосстановимости античной трагедии в историческом времени: в бане, которая должна была бы проводить каторжан через процедуру очищения, «грязь лилась со всех сторон» (4, 98). Лишающееся самотождественности трагическое смешивается в «Записках…» (как позднее и в «Бесах») с комическим (в рассказе об острожном театре). Достоевский словно бы заранее отклонил в «Бесах» понимание своего творчества как только трагедийного, снабдив употребленное здесь словечко «трагироманы» (10, 383) ироническим созначением.
Сбитые в остроге в однородный коллектив, его участники вовсе не солидарны друг с другом; лейттема «Записок…» – взаимоотверженность, царящая среди каторжан[38]. В «Дневнике писателя» за март 1876 года Достоевский назовет жажду исторических совершений важнейшей причиной, вызывающей атомизацию общественной жизни: «Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое, собственное, новое и неслыханное ‹…› Всякому хочется начать с начала» (22, 80). По всей видимости, Достоевский опровергал в «Записках…» визионерство одного из главных учителей Чаадаева, Жозефа де Местра, провидевшего в «Санкт-Петербургских вечерах» (1821) плотиновское всеединство, в которое вольется исторический процесс, разделивший людей. Самым непосредственным образом Достоевский отозвался на «Санкт-Петербургские вечера», выведя на сцену «Записок…» палача. У де Местра палач сверхчеловечен как исполнитель Божественного правосудия, поддерживающий определенный свыше социальный порядок. У Достоевского, ослабившего противоположность закона и беззакония и тем самым десакрализовавшего юстицию, «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке» (4, 155)[39]. Точно так же, как преступник не вполне отдифференцирован от законопослушных граждан, любой человек оказывается в «Записках…» готовым взять на себя роль экзекутора, воздающего отмщение за ломку нормы. Концовка «Записок…» открыта: что несет с собой свобода за воротами острога, неизвестно.
Раздвоенный человек обнаруживает себя в произведениях Достоевского конца 1850-х – первой половины 1860-х годов не только в перешагивании черты, отделяющей дозволенное от недозволенного, но и в присвоении себе чужого образа, в самозванстве. Центральный персонаж «Села Степанчикова и его обитателей» Фома Фомич Опискин претендует на то, чтобы стать «владыкой» (3, 42) помещичьего дома и быть признанным как литератор, не имея никакого основания для своих амбиций. Бородавка на подбородке домашнего тирана была заимствована Достоевским из описаний внешнего облика Григория Отрепьева, на которого намекает и фамилия одного из аналогов Фомы – Обноскина. Самозванец в «Селе Степанчикове…» восприимчив к чужому второму (крестильному) рождению (узнав об именинах Илюши, сына полковника Ростанева, Фома тотчас завистливо требует, чтобы праздновали и его именины) и будит у лакея Видоплясова желание сменить имя. Самозванство, концептуализация которого продолжится в «Бесах», где оно составит подоплеку эксперимента по революционной перекройке миропорядка, подается уже в «Селе Степанчикове…» не просто как частный случай (из русской истории), но обобщенно – как узурпирование человеком демиургического акта. Распоряжаясь имением Ростанева, Фома решает задачи большого и даже вселенского масштаба: он обучает крестьян астрономии, намеревается примирить правящее и трудовое сословия и занимается политэкономическим просвещением мужиков касательно «производительных сил…» и «разделения труда» (3, 15–16). Фома – исторический человек par excellence. Допрашивая Ростанева, о том, зажглась ли в нем «искра небесного огня» (3, 16), осведомляющийся о результатах своей проповеди самозванец отправляет нас к «Философии истории» (1829) Фридриха Шлегеля, который полагал, что человек саморазвивается, поскольку несет в себе «höheren Geist und göttlichen Funken»[40] («возвышенный дух и божественную искру»). «Село Степанчиково…» пародирует не только «Выбранные места из переписки с друзьями», как это проследил в известной работе «Достоевский и Гоголь» (1924) Юрий Тынянов, и не только утопический социализм, как установил Сергей Кибальник[41], но и сверх того изображает лжеспасителя и прочих персонажей повести лицами, из действий которых складывается parodia sacra. Обучение Фомой Гаврилы, камердинера Ростанева, французскому «диалекту» вторит празднику Пятидесятницы, учрежденному церковью в честь схождения Святого Духа на апостолов, которым было даровано говорение на «иных языках»; на этот параллелизм намекает Бахчеев, сопровождающий свой рассказ о педагогических начинаниях Фомы снижающим их замечанием: «А по-моему, графин водки выпил – вот и заговорил на всех языках» (3, 25). Недовольный своим именем Видоплясов имитирует метанойю Савла, ставшего апостолом Павлом. Самозабвенно танцующий комаринского Фалалей воспроизводит пляску Давида перед ковчегом завета Господня, на которую осуждающе взирала Мелхола, дочь Саулова, – ее позиция достается Фоме, осыпающему Фалалея упреками. Обращение Фомы к «домашним» с наставлением: «…любите господ ваших и исполните волю их подобострастно…» (3, 137), – следует образцу «Домашней постиллы» (1544), в которой Мартин Лютер обязал слуг безропотно трудиться на господина. Главный источник, каким руководствуется Фома Фомич, – трактат Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (ок. 1427). Отсюда самозванец Достоевского перенимает мысль о благе странничества, в которое собирается пуститься, и «напутственные слова», адресованные Ростаневу и жителям его дома: «…Умерьте страсти»; «…хочешь победить весь мир – победи себя!» (3, 137)[42]. Для Достоевского imitatio Christi – неоднозначное действие, чреватое лицемерием в той мере, в какой позволяет человеку заполучить позицию, которую тот не заслуживает. Финальное в повести превращение Фомы из тирана в устроителя счастья Ростанева и Настеньки дает самозванцу, не утратившему склонности к нравоучениям и после своих сокрушений об одержимости «бесом гнева» (3, 148), еще одну роль, а вовсе не выявляет подлинную идентичность того, кто скрывается то под одной, то под другой личиной.