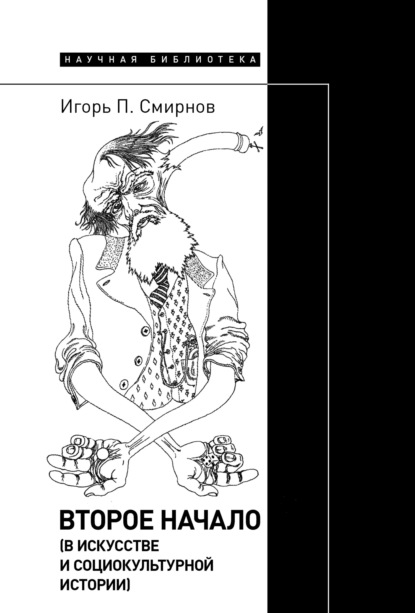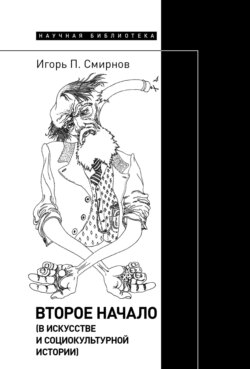
000
ОтложитьЧитал
К своей конечной цели, к возведению нерушимого порядка, революция движется через хаос пожаров, убийств, дерзкой ломки поведенческих конвенций. То, что пишущие о Достоевском обычно называют «вихревым строением» его романов, отражает в себе производимое человеком регрессивное превращение космоса в неодухотворенную первоматерию, в hyle, предпринимаемое тварными существами взятие назад Божьего творения. История берется в «Бесах» в эпохальном масштабе – как развитие умонастроений от либерализма 1840-х годов к принявшемуся утверждать себя в пору Великих реформ и сразу вслед за ними агрессивному нигилизму. Увиденная в стадиальном измерении история обнаруживает, что наступающая в ней эпоха уничтожает ту, что подготовила новую фазу (средоточие либерального благодушия, старший Верховенский, умирает, бежав из города, охваченного смутой). Смена власти неизбежно предполагает промежуточный момент безвластия – упадка в организации общества. Переступание порога вовсе не имеет в виду у Достоевского «развенчания» старого, закосневшего мира, как думал Бахтин, добавляя при переиздании в раннюю монографию о писателе («Проблемы творчества Достоевского») главу о том, как тот «карнавализовал» в своих произведениях историческую реальность[54]. Развенчивается в «Бесах» и в прочих романах Достоевского как раз герой, отваживающийся стать на порог, покидающий свое пространство-время. Пересекая границу, лиминальный человек обычно спотыкается, как, скажем, капитан Лебядкин («Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер» (10, 137)) или губернатор («Лембке круто повернулся и быстро пошел из комнаты, но с двух шагов запнулся за ковер…» (10, 351)). Переход из одного состояния в другое чреват ошибками, его сопровождает faux pas. Карнавал у Достоевского не регенеративен, а дегенеративен, возмущает рутину, расстраиваясь сам, подымает на смех и дискредитирует смеющегося, опустошается, превращаясь в «противопраздник», как это разительно продемонстрировала, среди прочего на примере «Бесов», Ренате Лахманн[55]. Торжество, устраиваемое в «Бесах», должно было бы заманить горожан в земной рай, где им обещан «вальтасаровский пир» (10, 356). Читающий со сцены в «большом Белом зале» (10, 359) свое прощальное сочинение Кармазинов знакомит слушателей с почти божественной тайной (которую познали Адам и Ева): «Есть ‹…› такие строки, которые до того выпеваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику ‹…›, но так как его упросили, то он и понес…» (10, 365). Повествователю становится «мучительно стыдно» (10, 390) за выходки исполнителей «кадрили литературы» – им завладевает то же чувство, что было испытано в Эдеме нарушителями Господней заповеди. Именно во время праздника Ставрогин и Лизавета Николаевна уединяются в Скворешниках для соития, причем Николай Всеволодович, как бы усваивая себе расплату, которую заслужил за свой грех Адам, отрекомендовывается «погубленной» им женщине «мертвецом» (10, 398). «Бесы» антитетичны «Преступлению и наказанию» в оценке темпорального реверса. Здесь попытка двинуть время вспять, дабы водворить человека снова в Эдеме, не целительна, а напрасна и опасна – она деградирует в скандал, в пьяный дебош в «зале предводителя» (10, 358), и в катастрофу, в пожар, объявший город (в других случаях, наоборот, скандал у Достоевского перерастает в лжекарнавал, как в «Преступлении и наказании», где сорванные поминки по Мармеладову заканчиваются смертоносным спектаклем, который разыгрывает на улице ряженное в театральные костюмы семейство Катерины Ивановны). У социально-политической истории, по Достоевскому, нет нового начала, потому что невозможен иной, чем прежде, генезис. Историческая инициатива есть еще один генезис, который с необходимостью повторяет отчасти начало всего, что ни есть, пангенезис. Возвращаясь к нему, она обязана быть скандалом, подобным тому, что разразился в Эдеме, – ведь пангенезис разомкнул абсолютную границу между тем, чего не было, и тем, что возникло как бытие (для-человека), т. е. явил собой вопиющую аномалию[56]. Скандалы в произведениях Достоевского – отголоски отступления от нормы в земном раю.
В романе, в котором история обрекается на спад, спасение не просто отсутствует, а замещается пагубой. Ее заключает в себе Ставрогин, антимессия. Смысл противоспасения – индифферентность. Ставрогину безразлично, внушает ли он Кириллову тягу к самоубийству или побуждает Шатова искать божественное бессмертие в народном теле. Обе посылки отождествляют человека с Сыном Божьим: одна – с Христом, принимающим крестную муку (Его, по Кириллову, «законы природы не пожалели…» (10, 471)), другая – с Ним же, воскресающим. Ставрогинское мышление, в основе которого лежит argumentum in utramque partem, разрывает слитные в прообразе смерть и второе рождение. Николаю Всеволодовичу (который «ни холоден, ни горяч») довлеет liberum arbitrium indifferentiae – полнейшая свобода воли, состоящая в выборе не между Добром и Злом, а сразу обоих этих полюсов[57]. Как ни от кого и ни от чего не зависящее существо он наделен в высокой степени свойством самообладания (стоической автаркией). Ставрогин – индивидуализованное воплощение шигалевско-деместровского (в дальнем отсчете ведущего нас к Плотину) всеединства. С точки зрения Достоевского оно постольку ложно в виде всеединства ad hominem, a не в-Боге, поскольку гасит противоположности и вместе с тем вовсе не устраняет их, погрязая во внутреннем противоречии. Пагуба взамен спасения – таково умозаключение Достоевского – следует из того, что свободе воли не удается стереть границы между несовместимыми величинами: разное, принужденное к всеединству, аннулирует его, взаимоуничтожаясь. Все, к чему притрагивается Николай Всеволодович, прекращает существование, как и он сам. У Ставрогина нет возможности преодолеть себя, так как он достиг в роли учителя непревосходимой полноты во лжи (более неотделимой от правды, инспирировавшей Шатова). Мнимое в «Идиоте» покаяние превращается в «Исповеди» Ставрогина, усугубляя свою порочность, в такое, которое бросает вызов обществу, оскорбляет его.
Захват человеком в собственность прерогативы Творца, воистину свободного в волеизъявлении, трактуется в «Бесах» как самозванство. «Обезьяна» (10, 405) Ставрогина, Петр Верховенский, призывает своего идола объявиться народу в образе «скрывавшегося» до поры правителя. В этом предложении Deus absconditus очеловечивается, на его место ставится homo absconditus. Верховенский-младший верно угадывает в Ставрогине претендента на неположенную тому власть. Продолжая начатую в «Селе Степанчикове и его обитателях» тему узурпации чужого господства, Достоевский исподволь вставляет Ставрогина в контекст первой философской попытки осмыслить феномен самозванства, каковой было эссе Монтеня «О хромых», вошедшее в третий том (1588) его «Опытов». В этом очерке Монтень обсуждал решение тулузского судьи Кораса отправить на виселицу человека, выдавшего себя за другое лицо (речь шла о непоименованном философом Арно дю Тиле, который присвоил себе идентичность пиренейского крестьянина Мартина Герра[58]). Попутно в эссе Монтеня приводятся разные мнения о том, почему хромые женщины особенно хороши в постели (то ли по той причине, что они сберегают для любовных утех силы, которые не тратят на ходьбу, то ли по той, что совершают во время полового акта неправильные телодвижения, которые возбуждают партнера до чрезвычайности). При учете этого (надо полагать, интертекстуального) фона женитьба Николая Всеволодовича на Хромоножке выглядит не просто чудачеством наперекор обществу, но погоней за сладострастием. Еще один исходный пункт для обрисовки Ставрогина – биография последнего самозванца из эпохи Смуты Тимофея Акундинова, о котором подробно сообщают записки (1656) Адама Олеария о его путешествиях в Московию и Персию[59]. Проворовавшийся на службе Акундинов симулировал собственную смерть от пожара, в котором, по Олеарию, погибла его жена. Преступление Акундинова воспроизводит при попущении Николая Всеволодовича Федька Каторжный, зарезавший Хромоножку и поджегший дом, в котором она жила. Бежавший за границу самозванец был выдан из Голштинии в Москву, где под пытками продолжал настаивать на том, что он и впрямь сын Василия Шуйского, надеясь, как полагал Олеарий, что будет сочтен сумасшедшим. Расчет не оправдался – Тимошка был четвертован в 1653 году. Внезапно вернувшийся из Швейцарии в Россию Ставрогин вешается в Скворешниках. «Бесы» завершаются врачебным свидетельством, напоминающим нам о перипетиях в судьбе авантюриста XVII столетия: «Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство» (10, 516)[60].
В «Подростке», занятом по контрасту с «Бесами» преимущественно не социально-политическими изменениями, а эго-историей (чему соответствует в этом романе повествование от первого лица), динамика по восходящей линии представлена реализуемой при том условии, что формирующейся личности дается выбор между оспаривающими друг друга способами видеть мир, действуя в нем. Будучи Другим относительно всеобщего, индивидное должно по самой своей природе пребывать в становлении, выявляющем его инаковость, дающем ему право на самоопределение, каковое предусматривает сопротивление взгляду на него со стороны. Желание добиться несомненной автономии (в духе индивидуалистической философии Макса Штирнера) – отправной пункт в развитии Аркадия Долгорукого, мечтающего о миллионе («…я хочу жить один, ни от кого не зависеть…» (13, 48)). Эта помысленная свобода всего лишь потенциальна, тогда как актуальным делается для Аркадия обладание «документом», касающимся наследственных прав его отца de facto, Версилова, т. е. властью над чужой собственностью. Суверенный по установке сознания герой оказывается на деле в безвыходном положении, поскольку не желает ни утаить «документ», ни причинить его обнародованием ущерб отцу, который может, если огласка состоится, проиграть тяжбу о наследстве. Чужим богатством нельзя распорядиться, морализует исподтишка Достоевский. Воля, поправляет он Шопенгауэра, отменяет не сама себя, коренясь в нехватке, навсегда невосполнимой, ибо постоянно возобновляемой, но в столкновении с жизненными обстоятельствами, случайность которых подрывает выношенные субъектом планы. Что до свободы в обособлении от общества, то порыв к ней, пусть он и непретворим в действительность, оценивается Достоевским как предохраняющий личность от опасностей, которые поджидают ее, будь она вовлечена в социоисторию. В итожащем роман письме бывшего воспитателя Аркадия о его «Записках» их автор противопоставляется схваченным полицией вольнодумцам с Петербургской стороны: «Ваша ‹…› „идея“ уберегла вас, по крайней мере на время, от идей гг. Дергачева и комп., без сомнения не столь оригинальных, как ваша» (13, 452). У воплощенной в Ставрогине неблагой свободы, которая равнодушно стирает различия, есть антитеза – свобода, нацеленная на то, чтобы отдифференцировать приверженца таковой и от вседневного людского обихода, и от поползновений его возмутить («…я – враг всему миру…» (13, 305), – восклицает Аркадий). При всей своей чуждости практике свобода, стремящаяся конституировать отграничение индивида от социума, все же имеет для Достоевского смысл краткосрочного, неультимативного спасительного средства. Она частноопределенное, недостаточное, но, тем не менее, взявшее верный курс предвосхищение окончательного спасения человека помимо его катастрофических социальных экспериментов по воздвижению потерянного им рая (поэтому не какому-то иному персонажу «Подростка», а именно Аркадию видится исчезновение земного града Петербурга; небесный град ему, впрочем, не является).
Попавший в имманентном становлении в double bind (в такую ситуацию, в какой образ миллиона не делается фактом, а фактичность, сосредоточившаяся в «документе», парализует волеизъявление), Аркадий вынужден двоиться и в связи со своим окружением, не обретая возможности отдать предпочтение одному из альтернативных лиц, с которыми он мог бы себя идентифицировать. Тот, кому следовало бы стать его духовным наставником, названый отец Макар Долгорукий, физически немощен (не в силах подняться на ноги) и предназначен пропасть из кругозора молодого героя (умирает вскоре после прибытия в семейство Версиловых). В качестве мудрого скитальца по русской земле Макар Иванович соположен августиновской церкви странствующей, преддверию Царства Божия (он неспроста собирает деньги на храм). Но как раз странствовать глашатай учения, похожего с точки зрения Аркадия на проповедь «коммунизма» (13, 311), более не в состоянии. Если духовный авторитет в «Подростке» страдает телесной нехваткой[61], то физический отец героя, Версилов, скиталец, подобно Макару Ивановичу, впрочем, не русского, а европейского пошиба, отмечен умственным изъяном. Версилов – ослабленная версия Ставрогина. В отличие от Николая Всеволодовича он не сеет вокруг себя смерть, но, как и тот, одержим стремлением к всеединству («…высшая русская мысль есть всепримирение идей» (13, 375)), оказывающемуся на поверку отнюдь не прочным, ломающимся совмещением несовместимого. Coincidentia oppositorum в трактовке Версилова не может не претерпеть в конечном счете развала. С одной стороны, он грезит о спаянном любовью человечестве, потерявшем веру в бессмертие и потому научившемся бережно распоряжаться тем, что есть здесь и сейчас. С другой – он не обходится в своих фантазиях без Христа, которого воображает себе «посреди осиротевших людей» (13, 379). Это второе пришествие Христа не спасительно, а только утешительно. Религиозная добавка к секуляризованной вселенской гармонии создает гетерогению, ничем не устраняемую. Соответственно, Версилов разнороден душевно («…оригинал ‹…› редко бывает похож на себя…» (13, 370), суммирует он свой опыт). Одно из двух «я» Версилова, исступающее из него, святотатственно раскалывает пополам чудотворную икону Макара Ивановича[62]. Социализация Аркадия, которая должна была бы последовать из принятия им мира старших, затруднена, потому что так или иначе (физически либо ментально) неполноценны оба антипода, служащие ориентирами для входящей во взрослую жизнь личности. Человеку не суждено насадить новый рай (сон Версилова о «Золотом веке» оборачивается при пробуждении реальностью европейской войны[63]) из-за своей физической недостаточности и вместе с тем идейной избыточности. В здешней действительности Аркадий обречен, по сути дела, на безотцовщину. Мать говорит ему, переворачивая представление о Сыне Божьем: «…Христос – отец…» (13, 215), – и тем самым переводит отцовство в трансцендентный план. Роман воспитания, в центре которого стоит principium individuationis, становится у Достоевского открытым повествованием, не доводящим своего героя до интегрирования в обществе. Такой оборванный, оставляющий героя недосоциализованным нарратив, пусть и тематизирует спасение «на время», не поднимает, однако же, вопроса о панацее от всех бедствий, угрожающих человеку. Как и для Ипполита в «Идиоте», для Версилова существует спасительная «живая жизнь» («vita vitarum» из «Исповеди» (397–398) Блаженного Августина), но родной отец Аркадия, не оправдавший обращенной к нему сыновьей любви, «не знает» (13, 178), что это такое.
Инженерное приближение к Царству Божьему. Большие романы Достоевского – ментальная машина, осуществляющая последовательные, выводимые одна из другой логико-семантические операции, которые нацелены на то, чтобы опробовать всяческие варианты сотериологии в ее применимости к разным областям человеческого бытия-в-мире (оно, скажу еще раз, принимает, переходя из текста в текст, вид то закона, то ценности, то общежития, то индивидуации). Каждое из произведений цикла – трансформ предыдущего, так что все вместе они составляют межроманное связное письмо. Эта сверхкогерентность выражает себя в подхватывании в следующем тексте каких-либо мотивов из его ближайшего антецедента. Рогожин – убийца женщины, как до того сходные преступления совершили Раскольников и Свидригайлов. Самоубийца Кириллов исполняет намерение, не удавшееся Ипполиту из «Идиота», а в «Подростке» им обоим наследует сведший счеты с жизнью Крафт, который к тому же являет собой, презирая русский народ, антитезу к Шатову. Так из больших романов возникает чрезвычайно сложно выстроенный смысловой комплекс. Разобраться в том, какими новыми коннотациями обрастают в нем прежде использованные мотивы, т. е. герменевтически прочитать «пятикнижье» зараз, – дело будущего, очень трудоемкое. Моя, не более чем пристрелочная, работа претендует только на то, чтобы в самых общих чертах обозначить, какие главные результаты давала сотериология Достоевского (его, иными словами, учение о втором начале) в каждом из образовавших «пятикнижье» текстов.
В «Братьях Карамазовых» человек рассматривается не в одном из измерений, как в предшествующих им четырех романах, а в целокупности, обобщенно. В своем родовом бытии-в-мире человек, по заключению Достоевского, не Другое природы, он нечто однотипное с ней, а если и отграничен от нее, то лишь как падшее существо. Зосима поучает: «Любите все создание Божие ‹…› Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней…» (14, 289) – и вступает в этом требовании в прения с возрожденческим образом Адама, имеющего преимущество перед всеми тварями, водруженного демиургом в центр мира на зависть звериному царству, как то полагал Пико делла Мирандола в речи «О достоинстве человека» (1486)[64]. Тварный, как и все сущее, человек получает у Достоевского особость, разнясь с Творцом. Это отличие абсолютно. В человеке затаена контракреативная жажда умертвить того, кто произвел его на свет. Выкрик Ивана в зале суда «все желают смерти отца» (15, 117) вставлен Достоевским в контекст, в котором выявляется истина, состоящая в указании на то, кто был подлинным убийцей Федора Павловича. Взаимным образом глава семейства порывается обесплодить свое создание, в чем заключен смысл борьбы старшего Карамазова с сыном Дмитрием за Грушеньку. В своей тварности любой человек – Адам. В исследовательской литературе уже были зарегистрированы признаки сходства с Адамом у Дмитрия, который «конфузится», как и его познавший стыд прототип, на допросе, когда его заставляют раздеться догола[65]. Точно так же с первочеловеком сопоставимы Алеша и Иван. Адамизм Алеши потенциален – он мог бы быть совращен второй Евой, Грушенькой, которая прыгает ему на колени, но, горюя о смерти Зосимы и памятуя о нем, сохраняет безгрешность «в крепчайшей броне против всякого соблазна и искушения» (14, 315). Алеша – Адам до грехопадения, устоявший против Грушеньки, которая собиралась его «погубить» (14, 320). И, напротив того, Иван, возвращающий Богу «билет» на вход в рай, – Адам за порогом Эдема, снова становящийся прахом, из коего был сотворен: в разговоре с Алешей Федор Павлович называет его брата «пылью поднявшейся» (14, 159). Сам Адамов грех (завладение заповедным знанием) вменен Смердякову, отправляющемуся после убийства Федора Павловича в сад и прячущему похищенные деньги в словно бы райской «яблоньке, что с дуплом» (15, 65). Контрарный истинному Творцу, человек возводит описанный в «Легенде о великом инквизиторе» собственный мир, который зиждется на Зле – на обмане, принуждении и заботе о материальных благах. Мессия, который избавил бы эту социальную действительность от изъянов, изгоняется из нее. Второе пришествие Христа пока не может произойти[66]. Репетиция парусии проваливается. Но эта отложенность на будущее великого спасения не означает в «Братьях Карамазовых», что самому человеку не дано приблизить наступление Царства Божьего, сыграть роль теурга. Антропологический роман был написан по принципу: чем в более исчерпывающем объеме берется человеческое, тем теснее оно примыкает к трансгуманному, к тому, что расположено по ту сторону от нас. Вот почему мыслящий человека как целое Зосима ставит его неложное существование в зависимость от «соприкосновения ‹…› таинственным мирам иным» (14, 290).
Набросанный в «Братьях Карамазовых» своего рода инженерный проект по устройству преддверия в Царство Божье имеет три аспекта – государственный, межличностный и педагогический. Человек – заблуждающееся существо, но в перспективе он мог бы переделать свой порочный мир по аналогии с тем совершенным, какой возникнет после Второго пришествия. Аналогия – отношение между двумя предметами, покоящееся на нахождении посредника, который допустил бы их сравнение. Проекты, выдвигаемые в «Братьях Карамазовых», медиируют между неблагоприятным историческим опытом человека и высшим Добром, которое несет с собой постистория; они уже будущностны, но еще практичны, технически осуществимы. В этом плане Достоевский руководствуется той же логикой, какая была в ходу у прочих представителей эпохи позитивизма-реализма, конструировавших переходные звенья в последовательностях, которые вели от отрицаемого ими настоящего к утопии, вроде «диктатуры пролетариата», долженствующей у Маркса предшествовать продвижению к коммунизму[67].
Идею государственного режима, достойного того, чтобы предвосхитить парусию, Достоевский доверяет высказать Ивану. В своем восстании против демиургического творения Иван глубоко амбивалентен. Он совершает hybris, претендуя на то, чтобы вынести приговор людям на Страшном суде над ними («…мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя» (14, 222)), и вместе с тем он прав, изобличая Зло, присущее человеку, в чем поддерживается Алешей, готовым, вслед за его братом, «расстрелять» (14, 221) мучителя детей. Слова Ивана сразу и ложны, и истинны. Так, говоря о том, что «всё будет позволено» (14, 65), Иван цитирует Первое послание к Коринфянам (6, 12; 10, 23) апостола Павла[68], однако имеет в виду свободу, вытекающую не из благодати, как в источнике, а из беззакония, которое вызывается отрицанием бессмертия. Креатура Ивана – низкий убийца Смердяков. Тем не менее бунтующий Иван также автор статьи о церковном суде, которая призывает превратить государство в церковь, с чем согласны отец Паисий и Зосима. Тот, кто допускает беззаконие, вещает – в свойственной ему внутренней антитетичности – правду о том, каков должен быть закон. Иван отвергает теократическую утопию в духе Фомы Аквинского («О правлении властителей», 1265–1266), отдававшую светскую власть клиру, и повторяет мысли Гоббса, обрушивавшегося в концовке «Левиафана» на папство и требовавшего смены гражданского права на Jure Divino, что должен был бы обеспечить государь, ставший первосвященником. Не слишком проницательный Миусов поднимает программу Ивана на смех, не замечая, что верно оценивает ее интенцию: «…это ‹…› осуществление какого-то идеала, бесконечно далекого, во втором пришествии ‹…› А то я думал, что все это серьезно…» (14, 58). Если двойственность Ставрогина неразрешима, то у Ивана она подвергается развязыванию, когда он берет на себя вину за преступление Смердякова (пусть это признание и завершается помешательством героя).
Нравственный императив, формулируемый в «Братьях Карамазовых», заставляет вспомнить мистику Майстера Экхарта, проповедовавшего в конце XIII – начале XIV века («Блаженны нищие духом», «Хорошо, добрый и верный раб») полную отрешенность от себя ради того, чтобы предоставить Богу действовать в человеке, как Он того пожелает, и готовность служить Господу, как кнехт повинуется своему хозяину. Апология старчества в романе Достоевского ставит, в отличие от сочинений Майстера Экхарта, на место Бога, в пользу которого происходит самоотрицание личности, Его представителя на земле: «Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением» (14, 26). Пока Второе пришествие еще не грянуло, бескомпромиссное вручение себя в распоряжение духовного авторитета является высшей формой межличностных отношений, поднимающих наше поведение, которому довлеет самозабвение, до уровня подвижничества. В повседневности они, как учит в своих беседах Зосима, должны принять вид взаимного служения членов общества, что станет «основанием к будущему ‹…› единению людей, когда не слуг будет искать себе человек ‹…›, как ныне, а, напротив, изо всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию» (14, 288). (Достоевский опирается здесь на ту же новозаветную притчу о талантах (Мф. 25: 21), что и Майстер Экхарт в проповеди «Хорошо, добрый и верный раб».) Слуге предстоит сделаться главной фигурой в истории – что у Гегеля, что у Достоевского. Но в «Феноменологии Духа» кнехту предназначается захватить позицию господина, тогда как в «Братьях Карамазовых» все люди обязываются быть в услужении друг у друга[69]. Тот, кто взял на себя ответственность за управление чужой волей, должен умереть: «Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же и всегда по смерти спасающего» (14, 292). Чем больше у человека духовной власти над ближними, тем окончательнее будет его уступка себя, выливающаяся в принятие смерти. Чтобы спасти Другого для бытия, самости надлежит стать небытной, жертвенной. Действующие лица в нравственном мире Достоевского – это бессамостные существа, вышедшие из «уединения» (14, 275), на которое их толкало собственническое «я». Взамен кантовского трансцендентального субъекта, относящегося к Другому как к себе, Достоевский выдвигает на позицию подлинно нравственного человека антисубъекта, опустошающего себя для Другого.
В противоположность Ивану, теоретизирующему о государстве, Алеша – практик, нашедший свое призвание в воспитании детей. (Третий брат, Дмитрий, в отличие от первых двух, не провозвестник финального Спасения во Христе, а тот, кого нужно спасать, человек спонтанных действий, диктуемых прежде всего аффектом и менее всего рефлексией, – он еще не озабочен умствованием с целью пересоздать себя.) Принцип педагогики Алеши – доверие к детям, которых он хочет освободить из мира взрослых. Щеголяющему знанием расхожих идей Коле Красоткину Алеша замечает: «…не надо быть таким, как все» (14, 503). До этого Иван в беседе с младшим братом говорит ему, будучи убежденным, что тот с ним согласится: «Дети ‹…› страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой» (14, 217). Назидание, адресованное Коле Красоткину, имеет в виду, что ему подобает сберечь в себе детскость, которая предотвратит его обезличивание во взрослой среде. Сам Алеша – сразу и учитель и ученик, берущий урок у подрастающего поколения: «– Я пришел у вас учиться, Карамазов, – ‹…› заключил Коля. – А я у вас, – улыбнулся Алеша…» (14, 484). Достоевский отвергает педагогику, стремящуюся приспособить ребенка к нормам жизни старших и начинить его их знаниями (восходящими к тем, что были похищены с древа Добра и Зла). Дети образуют в «Братьях Карамазовых» самодеятельное общество, способное – в театрально-игровой манере – устранять конфликты, расстраивающие его лад, как то показывает история примирения школьников с отколовшимся от товарищей Илюшей Снегиревым, которого они утешительно убеждают в том, что собака, когда-то отправленная им на смерть, осталась жива. Сохранение памяти об умерших и о детстве, которому неведом Адамов грех, обременяющий всякого взрослого человека, есть залог всеобщего восстания из мертвых, – вот credo Алеши. В речи у камня, под которым хотел быть похороненным Илюша, младший из братьев Карамазовых уравнял детство, покидающее нас с наступлением зрелости, и смерть как наш заключительный уход из мира сего. Удержание обеих потерь в памяти – шаг к той плероматической реальности, из какой будет навсегда удалено Зло отсутствия, лишений. Сексуальное насилие над малолетними потому и было для Достоевского самым непростительным из преступлений, что делало «малых сих» сопричастными первородному греху Адама и Евы, за который дети не несли ответственности.
В обширном предисловии к изданному в 1928 году в Мюнхене сборнику «F. M. Dostojewski. Die Urgestalt der Brüder Karamasoff» Василий Комарович предположил, что последний роман Достоевского был написан под сильным влиянием философии «общего дела», разработанной Николаем Федоровым: «Отцеубийство есть попрание всемирного долга воскрешения предков…»[70]. Мнение о федорианстве Достоевского (подхваченное вслед за Комаровичем многими исследователями) имеет мало общего с концепцией, фундирующей роман. Смерть у Достоевского не различает отцов и детей, их позиции обменны, почему штабс-капитан Снегирев именует своего умершего ребенка «батюшкой»[71] (15, 190), а сами дети обращаются друг к другу, завышая свой возраст словом «старик» (14, 491). Последующие поколения равнозначны предыдущим в истории, не порождающей по-настоящему нового – бессмертия. Младшие не пребывают в долгу перед старшими, который были бы обязаны погасить. Задача сынов не в том, чтобы вернуть в жизнь отцов, а в том, чтобы выкликать парусию, не растрачивая свою отчужденность от общечеловеческого, свое родство с трансцендентным. В Царстве Божьем будут обитать не воскрешенные отцы, а вечные дети. Человек сам, как бы он ни старался пойти навстречу этому царству, все же не в силах добиться физического бессмертия, которое целеполагает деятельность Алеши («Хочу жить для бессмертия…» (14, 25)). Победу над Танатосом людям может принести из инобытия только Тот, кто однажды уже попрал смерть смертью, – Христос во Втором пришествии. Как и у героя «Подростка», у Алеши два отца – физический и духовный, но, вразрез с Аркадием, он не колеблется в выборе между ними, покидая родительский кров и идя в послушание к Зосиме. Тот перед смертью отсылает от себя Алешу в мир, следуя евангельскому наказу оставить мертвым погребать своих мертвецов. Ища спасение, нужно отпасть даже и от духовного отца. Если Достоевский и воспринял идеи Федорова, то лишь с тем, чтобы затеять с ним перепалку – как художник с философом.
Государственный, моральный и педагогический проекты в «Братьях Карамазовых» взаимно дополняют друг друга, срастаясь в целостный образ такого времени, когда человек пожертвует своей властью, уступив ее в оцерковленном государстве Богу, в общежитии – ближнему, который тоже не будет дорожить самостью, в воспитании младших старшими – детям, владеющим в свойственной им невинности даром самоорганизации на началах справедливости. В этой слаженности голосов разных героев романа нет и намека на «полифонию» сознаний в смысле Бахтина. В качестве повествования, с одной стороны, излагающего завершенную историю (отцеубийства и судебной ошибки), а с другой – заглядывающего в будущее, набрасывающего очерк иного, чем есть, мира, «Братья Карамазовы» сразу и закрытый, и открытый текст, имеющий в своей незамкнутости характер гигантского фрагмента[72]. Во вступлении к «Братьям Карамазовым» автор предупреждает читателей, что им пока предстоит познакомиться только с первым из двух романов планируемой серии, но ближе к финалу произведения он сообщает о том, что не знает, возьмется ли за написание «другого романа» (15, 48). Автор в «Братьях Карамазовых» не властвует над своим творением точно так же, как герои романа хотели бы, чтобы человек перестал господствовать над человеком.