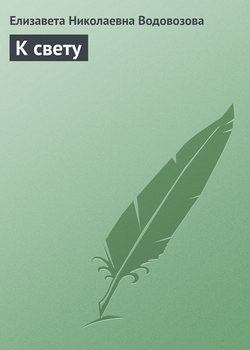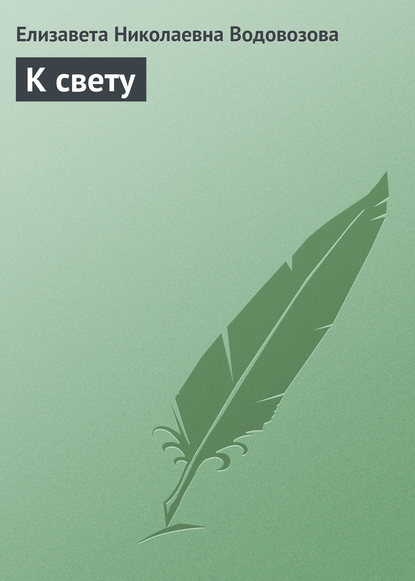– Странно, что до сих пор так ликуют и утешают себя настоящими и будущими реформами, которых ждет та же участь, что и крестьянскую реформу, – говорил Николай Степанович Курочкин. – Обкорнают, урежут, сократят, объяснят каждую из них так, что все новое совершенно сведут на нет.
К ним подошел Григорий Захарович Елисеев (талантливый внутренний обозреватель «Современника», писавший под псевдонимом «Грыцько»). В то время это был человек уже лет за сорок: фигура импозантная и весьма благообразная, с густой бородой, с волосами до плеч, с проницательно блестевшими глазами из-под нависших густых бровей, пронизывавшими каждого, с кем он говорил. Он молчал, но чрезвычайно внимательно слушал: чуть-чуть ироническая улыбка нередко раздвигала его плотно сжатые губы. Он, казалось, наблюдал не только за каждым, кто что говорил, но за внешностью и за жестами говорившего, точно его задачею было запечатлеть в своей душе не только мысли и слова каждого, но и его внешний облик.
– Что же нам, универсантам, делать в настоящее время, чтобы приносить обществу какую-нибудь пользу? Теперь не прежние времена, чтобы заботиться только о своей будущей карьере! Воскресные и элементарные школы, в которых мы работали, закрыты, кружковые собрания для самообразования строго запрещены; правительство все силы напрягает, чтобы возвратить нас в первобытное состояние…
В это время Ушинский, обходя сидевших и подавая на прощанье руку, заметил студенту:
– А вот во избежание этого каждый молодой человек обязан сам учиться поосновательнее прежнего, и не только для экзаменов, но вместе с тем и обучать грамоте каждого, с кем сталкивает его судьба. – И он торопливо направился в кабинет.
– Кажется, знаменитый педагог обучение азбуке считает панацеею от всех зол! – иронически заметил Елисеев.
Но я не стала слушать дальнейших рассуждений. Я глубоко уважала и с большою симпатиею относилась к Г. З. Елисееву, но меня возмущало поверхностное и легкомысленное отношение ко всем педагогам, каковы бы они ни были, и к педагогическим вопросам вообще у очень многих серьезных и талантливых литераторов того времени, к числу которых принадлежал и Григорий Захарович. К тому же мне хотелось узнать, что будет говорить Ушинский Тоне, которую он заранее просил зайти в кабинет.
– Из курьезных объяснений Шершневского я понял только, что он наболтал вам много пошлостей. Выслушивать подобные вещи, конечно, весьма тошнотворно… Но, простите вашего ворчуна-учителя: это еще не причина, чтобы прибегать к некультурному воздействию, выталкивать из саней и тому подобное. Мне кажется, что сама природа вложила в душу женщины такой инстинкт, что ей стоит только известным образом взглянуть на нахала, чтобы указать ему надлежащее место, – хотя по обыкновению очень живо, но наставительно говорил Ушинский Тоне.
– Может быть, для нахала этого и достаточно, но Шершневский в то же время и форменный идиот, – отрезала она.
– Голова у него, кажется, действительно довольно скудоумная, дряблая и нелепая натуришка, но все же я нахожу, что вы и другие в вашем доме слишком презрительно, слишком высокомерно к нему относитесь. Если вы находите его убогим в нравственном и умственном отношениях, зачем же вы приглашаете его к себе?
– Зачем его приглашают? – переспросила Тоня, вспыхнув, как зарево, и горячо заговорила, забывая благоговение, которое мы, ученицы Ушинского, питали к нему. Необыкновенный пиетет, который внушал нам к себе наш несравненный наставник и учитель, заставлял нас всех несколько стесняться с ним. Тоня, как и остальные его ученицы, искренно уважала его, но не вносила в свои чувства никакой экзальтации, – вероятно, потому она совсем и не робела перед ним. – Как в этот, так и в другие дома, где бывает Шершневский, – отвечала она, – он сам приходит без всякого приглашения.
– И все-таки за одни дурацкие комплименты он не заслужил с вашей стороны такой кары, которая сильно напоминает дореформенный быт наших дворян… Вы ведь и сами несколько виноваты: если вы считаете, что пошлость и навязчивость его характерные качества, зачем же вы берете его в провожатые?
– Вы просто хотите меня завинить во что бы то ни стало! Шершневский на этот раз, как и всегда, сам навязался. Он жалобно упрашивал меня взять его с собою, уверяя, что ему необходимо ехать туда же, куда и мне, плакался на то, что у него страшно болит нога, что нанять извозчика у него нет денег… И все это оказалось выдумкою… Наконец, он смертельно надоедал мне своими пошлостями, бесцеремонным образом совал свой нос в мои волоса… Я должна сознаться в еще большей преступности: я чрезвычайно жалею, что не надавала ему тысячу пощечин, а только вытолкнула из саней.
– Ого-го! Да вы девица весьма решительная! С таким характером и силою воли можно успешно вести борьбу не только с прилипчивыми кавалерами…
– Шершневский совсем не идиот, но в последнее время он действительно как-то опошлел и опустился, – заметил Василий Иванович. – Инцидент с Антониною Николаевною прекрасно это иллюстрирует. И то, что она выкинула его из саней, послужит ему только на пользу.
– Кстати, познакомьте меня с этим субъектом… Сообщите, где он учился, имеет ли какие познания, чем промышляет?
Василий Иванович сообщил то немногое, что знал о нем.
– Шершневский вследствие бедности должен был оставить университет на третьем курсе филологического факультета. Он на днях просил меня подыскать ему какие-нибудь занятия, говорил, что знает немецкий, польский, французский и латинский языки, но так ли это в действительности – неизвестно. Как только он оставил университет, ему пришлось пробиваться уроками, в последнее время исключительно в частных пансионах, где не всегда платят даже один рубль за урок, а с этой осени он не имеет никаких занятий.
– Может быть, он и дурит от безделья, – заметил Ушинский. – А компилятивная статья в последнем номере «Журнала министерства народного просвещения», составленная довольно толково и подписанная буквою Ш., – не его ли она?
Чтобы убедиться в этом, позвали Шершневского. Результатом переговоров было то, что Ушинский просил его походить к нему два-три дня, чтобы убедиться, может ли он исполнять у него некоторые работы. Шершневский выдержал искус, и Ушинский предложил ему у себя стол и особую комнату, относительно же вознаграждения за труд сказал, что оно будет выяснено через два-три месяца, а теперь он может брать по 40–50 рублей в счет будущего жалованья.
Шершневский через неделю-другую совсем преобразился: его всегдашнее, точно спросонок, мрачное и сонное лицо сделалось теперь более одушевленным. Он принарядился, припомадился и почистился. Когда он в первый раз по получении места пришел к нам, мы, точно сговорившись заранее, зааплодировали ему. Он всюду превозносил теперь Ушинского, выказывал преклонение перед величием его души и его необыкновенным умом.
– Вы более не ждите от меня комплиментов, – сказал он однажды с важностью, поглядывая на дам. – Хотя вы и современные дамочки, но все на один лад – до смерти любите, когда мужчина лебезит перед вами. И хвастаете этим друг перед другом. А Константин Дмитриевич человек серьезный: дойдут до него ваши сплетни и интриги относительно меня, и, пожалуй, лишишься у него места.
И он стал держаться теперь в обществе с большим достоинством.
Участие Ушинского к Шершневскому сильно поразило меня. Оно пробудило в моей душе еще большее благоговение к моему наставнику. Что Ушинский был человек великодушный и личность исключительная, нам всем, его ученицам, давно было известно. Но я всегда видела, что наибольшее внимание он оказывал людям более или менее способным, талантливым, подававшим надежды проявить себя чем-нибудь в будущем, и резко относился к людям глупым. Между тем перед ним во всем блеске проявилась пошлость Шершневского, но он и его вытянул из бедственного положения. Мы все только подсмеивались над Шершневским, а в душе даже презирали его, только один он, Ушинский, протянул ему руку помощи. Вот кого можно назвать истинным поборником идеалов шестидесятых годов, раздумывала я, – стремление к обличению и к педагогическому воздействию даже на людей, по своему возрасту давно вышедших из-под педагогики, эти характерные качества наилучших шестидесятников оказываются характерными качествами и нашего дорогого наставника.
Как-то Шершневский забежал к нам днем на одну минуту, просил вызвать к нему Ивановскую и, передавая ей книгу, указал на немецкую статью в несколько страниц, которую Ушинский просил ее перевести. В запечатанном конверте он посылал ей 25 рублей за не сделанный еще перевод.
– Как? Я только вскользь упомянула Ушинскому о том, что мне необходимы платные занятия, и он уже вспомнил! – кричала Аня. Трудно описать ее восторг и экстаз, великолепные эпитеты, которыми она осыпала Ушинского.
Когда Аня навосхищалась до хрипоты, когда она обегала все комнаты, изливая перед каждым из нас чувства восторга, когда о своей неожиданной радости она пересказала прислуге, няня пришла нам сообщить: «Барышня не в себе: ей надо дать каких-нибудь капель!» Я вбежала в кухню: Аня сидела на табуретке, запрокинув голову, с открытым ртом, точно ей не хватало воздуха, с посиневшим лицом и истерически хохотала, как-то всхлипывая, точно от рыданий. Мы уложили ее в постель. Полежав недолго с компрессом, она закричала: «Я сейчас еду к Ушинскому благодарить его, броситься перед ним на колени, целовать его руки!» Я отвечала, что никуда не пущу ее. Для нее сейчас же разложили в столовой складную постель, уже давно доставленную нам знакомыми, а мы сами отправились обедать в мою спальню.
Аня проснулась поздно вечером, взяла немецкий словарь, просидела за работой всю ночь и несколько дней, два-три раза переписывала ее и под предлогом, что ей не удаются некоторые фразы, просила Василия Ивановича поправить ее перевод. Ему пришлось зачеркнуть почти каждую строчку и под нею написать совсем другое. Аня чистосердечно просила нас всех откровенно сказать ей, нести ли перевод с поправками или снова переписать его. Мы с Тонею нашли, что переписывать после поправок, сделанных другим, значило бы обманывать Ушинского. Василий Иванович предоставил ей решить этот вопрос, как она сама желает. Она немедленно отправилась к Ушинскому и представила ему работу с поправками. Что она говорила с ним, как он отнесся к ее работе, она нам не рассказывала, но возвратилась от него очень скоро и крайне расстроенная. Я в это время уже собиралась на урок и на лестнице встретила Шершневского. Он тут же заявил мне, что Ушинский просит меня к себе и извиняется, что по болезни не может сам приехать: он простудился, и доктор строго запретил ему выходить. Я просила передать, что после урока немедленно явлюсь к нему.
– Ну и угораздило же Анну Петровну! Нашла кому делать любовные признания… да еще на коленях! Ушинскому, этому Златоусту, этому проповеднику, не знающему других страстей, кроме страсти распространения просвещения! И отчитал же он ее! Ах ты боже мой! Если бы так-то… какая-нибудь девица передо мной… да на коленях… а, а, ах!
Ушинский лежал в своем кабинете совершенно одетый и прикрытый пледом.
– Почему вы своей подруге Ивановской уделяете так мало внимания? – резко спросил он меня, как только я успела поздороваться с ним.
Я отвечала, что сделала для нее все, что могла.
– Вы думаете, что, приютив у себя несчастную девушку, вы можете этим ограничиться? Относительно ее вы взяли на себя ответственную роль матери, а между тем не обращаете ни малейшего внимания на то, что она совсем больна. Вы давно должны были показать ее психиатру, а не дозволять больной девушке разъезжать, куда вздумается.
Этот упрек взбесил меня своею несправедливостью.
– Я никогда не брала на себя роль ее матери. Это было бы и довольно мудрено: мы с нею одних лет. К тому же никто из членов как моей, так и ее собственной семьи не смотрит на нее как на душевнобольную. Мы считаем ее просто истеричкой.
– А я вам сейчас докажу, что она психически больная. Возможно даже, что форма ее душевной болезни тяжелая и опасная. Скажите откровенно, давал ли я когда-нибудь повод вам, моим ученицам, смотреть на меня как на мотылек, перепархивающий с цветка на цветок?
– Господи, что вы спрашиваете, Константин Дмитриевич! – с ужасом воскликнула я. – Даже институтское начальство, которое на вашу голову взваливало всевозможные ужасы, только в одном этом никогда не обвиняло вас.
– Ивановская же отнеслась ко мне как к последнему пошляку!.. А это что же такое? (Он вытащил злополучный перевод и помахивал листами.) Это уже красноречиво доказывает, что она и вас всех свела с ума! Я не заказывал перевода Василию Ивановичу! И для вас еще мало всех этих доказательств ее невменяемости? Неужели для того, чтобы убедиться в ее психозе, вам нужно, чтобы она выбежала на улицу нагишом? Усердно прошу вас завтра же отправиться с ней к психиатру.
Если бы я не вспомнила при этом рассказа Шершневского о том, что у Ушинского произошло с Анею, я не вполне поняла бы его слова.
– К сожалению, Константин Дмитриевич, у меня решительно нет времени возиться с нею. Я сегодня же отправлюсь к ее отцу.
– Как, к ее отцу, который из-за какой-то тряпки чуть не убил ее?
Я отвечала, что если Аня так передала ему историю с шубой, то она выказала этим лишь жестокую несправедливость к отцу. И я рассказала, как было дело и наш разговор с Аниным отцом.
– Налгать на родного отца, придумать целую историю, в которой нет ни слова правды, да разве все это не достаточно подтверждает, что она душевнобольная? Кстати: Василий Иванович просил меня доставить ей какие-нибудь занятия в школе или частные уроки. Передайте ему, что я забочусь не только об интересах нуждающихся в подобных занятиях, но еще более об интересах учащихся. Школа – не богадельня! Я не имею нравственного права рекомендовать заведомо душевнобольную особу.
Дома мне сказали, что Аня все время плакала, и ее пришлось положить на мою кровать. Мы сели обедать только втроем. Я объявила, что немедленно отправлюсь к Ивановскому и настою на том, чтобы он сегодня же взял от нас свою дочь. Я ждала протеста со стороны Василия Ивановича и была удивлена, когда он сказал: «Да, тяжело с нею, того и смотри, что попадешься из-за нее в какую-нибудь кутерьму!»
Ивановскому я передала всю историю с Ушинским и его мнение о болезни Ани, упомянула и о том, как она однажды проговорилась мне, что не прочь была бы заключить фиктивный брак. Хотя из этого пока ничего не вышло, но меня чрезвычайно волнует, что она в конце концов приведет в исполнение эту шальную мысль.
Ивановского возмутило мнение Ушинского о психической болезни его дочери, но он выразил полную готовность взять ее сию же минуту. Раньше чем проститься с отцом Ани, я просила его показать мне ее комнату. Она пустовала со времени ее бегства к нам и оказалась очень уютною, весьма скромно, но комфортабельно обставленною.
Я отправилась к себе с нянею Ивановских, которая всю дорогу высказывала опасение, что ей не удастся убедить Анночку возвратиться домой. Но это оказалось совсем не трудною задачею. Вероятно, она сама почувствовала, что сделала большую глупость, променяв свою удобную комнату на беспокойное существование у нас.
Когда мы вошли в столовую, Аня сидела одна и кончала обед. Она крайне удивилась, увидав свою няню. Я сообщила ей, что была у Ушинского, но из всего разговора с ним передала ей только то, что он находит необходимым для нее немедленно начать лечение. Но у нас нет подходящего помещения, и потому ей немыслимо оставаться у нас, тем более что ее собственная комната совершенно свободна.
– Это правда, что я в последнее время чувствую себя скверно и что мне без собственного угла крайне неудобно. Но как же отец?
– Как отец? – переспросила ее няня сердито. – А так твой отец, что совсем извелся от стыдобины, что ты зря болтаешься у чужих людей. Ведь у них и без тебя свои дети, свои заботы и тяготы… Да и богачеством-то они не больно отличаются… И как ты, Анночка, не думаешь обо всем этом? Взаправду ты большая срамница!
– Ну, ну, милая старушенция… – перебила Аня, обнимая ее. – Из-за чего же ты кипятишься? Ведь я не отказываюсь ехать с тобой! Едем хотя сию минуту.
В ту же минуту Тоня выскочила из своей комнаты со словами: «Нужно скорее собирать Анины вещи»! Тут как тут оказалась и наша няня, и мы все принялись перебегать от одного подоконника к другому, из одной комнаты в другую и собирали всюду разбросанные Анины щетки и гребенки и всевозможные мелочи, осматривали шкапы, вносили в столовую ее платья. Все было приготовлено к отъезду чрезвычайно быстро, из страха, как мы потом сознавались ДРУГ другу, чтобы она не передумала и не осталась у нас. Когда мы все стояли уже в передней и прощались, ее няня, укоризненно покачивая головой, сказала:
– Ах, Анночка, Анночка! Ты точно малый ребенок! До сих пор не знаешь порядков!
– Какие там еще порядки? Ты опять со своими наставлениями, навеки нерушимыми!
– А вот какие порядки: ты больше месяца здесь прожила. Прислуге ты наделала много хлопот: должна же ты понимать, что ее следует вознаградить.
К нашему изумлению, двадцатипятирублевка, полученная ею от Ушинского, оказалась в целости. Со дня получения этих денег она никуда не выходила и все время сидела за работой. Она вынула двадцатипятирублевую бумажку и с сердцем сунула ее няне. Та отправилась в кухню и возвратилась с размененными деньгами.
– Теперь сказывай, кому из господ сколько задолжала?
Аня начала припоминать, насчитала десятка полтора рублей, а затем заявила, что не помнит, брала ли взаймы еще у кого-нибудь. Тогда няня, подавая мне означенную сумму долга, просила написать ей, как только я узнаю, кому еще и сколько осталась она должна.
После этого я никогда уже более не встречалась с Анею.
IX
Наступил наконец день, назначенный мною Маньковичу для свидания с ним. Как только он поздоровался со мною, он немедленно приступил к делу.
– Скажите мне откровенно, неужели я уже такое ничтожество, что не могу сделать предложение Антонине Николаевне, не оскорбляя ее? Почему я должен делать ей предложение через вас, а не могу высказать его непосредственно? Почему она так холодно-неприступно держит себя со мною? Если бы вы знали, как я страдаю! Я отбился от занятий! Я ничего не могу делать! Ее образ всюду преследует меня! Если бы года два тому назад кто-нибудь сказал мне, что здравомыслящий человек погибает от охватившей его страсти, я, как многие в то время, взглянул бы на это; как на признак слабосилия, как на склонность к паразитству, как на отсутствие серьезных жизненных задач. Мог ли я думать, что сам так жестоко попадусь! Помогите мне! Будьте мне родною сестрою!
Он говорил все более горячо, бегал по комнате, нервно теребил то волосы, то бороду, бросался на стул, немедленно вскакивал, и его фигура опять мелькала перед моими глазами. Он повторял одно и то же много раз, иногда лишь перефразируя сказанное, и, вероятно, продолжал бы говорить очень долго, если бы я не попросила его выслушать меня.
– По теории Тони, для того чтобы выйти замуж, необходимо безумно любить: без такой любви брак с порядочным человеком – преступление…
Ой не дал мне кончить и с озлоблением начал засыпать меня вопросами.
– А за непорядочного выйти замуж можно? Брак с непорядочным по ее теории не преступление? Значит, она решила выбрать себе супругом Ермолаева, этого господина с телячьими глазами и с идиотскою физиономиею! Да, я и забыл! Это ведь рыцарь без страха и упрека. Недаром он ежедневно провожает ее, ежедневно мозолит ей глаза! Вот увидите, она выйдет замуж за него, выйдет из-за одного того, чтобы он отвязался от нее.
– Вы хотя бы не терзали себя относительно Ермолаева: он совсем не нравится Тоне. Когда она кончает уроки в его семействе, обыкновенно уже совсем темно и мать его приказывает ему проводить Тоню.
– А я готов ежедневно провожать ее хоть на край света! Пожалуйста, скажите ей, что это было бы для меня величайшим счастьем. Передайте ей также, что я умоляю ее принять меня с глазу на глаз. Пусть она хотя несколько пожалеет меня! Боже мой, боже мой, что мне делать? Чувствую, что-то невыразимо скверное творится со мной… Вы видите… Я уже не могу сдерживать себя! Утратил силу воли, гордость, самолюбие, не потерял только сознания, что все это она замечает, что все это еще более роняет меня в ее глазах! Вы одна можете помочь мне! Вы самый близкий для нее человек! Вы одна имеете на нее влияние! Боже, как мне тяжело!
Выражение его лица, голос, жесты, все говорило мне о его мучительной душевной тревоге: он переживал всю остроту, всю муку страсти, тяжелый сердечный недуг.
– Я не раз уже говорила Тоне о том, что я считаю вас, Николай Александрович, во всех отношениях прекраснейшим человеком, самым подходящим для нее мужем.
– Вы это говорили? Правда, вы говорили? – Голос его сорвался, он бросился передо мной на колени, целовал мне руки, горячие слезы градом катились из его глаз.
– Но что же с нею поделаешь, дорогой Николай Александрович? Ведь у нее теперь нет ни малейшей мысли о замужестве! На днях она говорит мне: «Как я еще недавно шокировала знакомых, откровенно сознаваясь всем, что хочу выйти замуж. Но теперь ни по любви, ни без любви не чувствую к этому ни малейшего расположения. Жизнь, которую я теперь веду, мне так пришлась по душе, и вдруг переменить прекрасное настоящее на что-то неизвестное, – да ни за какие коврижки!» И ведь действительно, Тоня в самое последнее время изменилась до неузнаваемости. Подумайте: кроме трехчасовых ежедневных уроков у Ермолаевых, к которым она подготовляется чрезвычайно серьезно, она посещает еще кружковые лекции, дополняет слышанное прочитанным, умудряется найти время, чтобы по утрам сбегать в квартиру лавочника обучать его мальчика.
– Я моту только с благоговением преклоняться перед таким серьезным стремлением к свету! Не мешать я буду ей в этом, а содействовать, сколько хватит сил, – клялся Манькович и умолял упросить Тоню как можно скорее принять его, но не в день, назначенный для гостей.
Уломать Тоню исполнить желание Маньковича было трудно.
– Не торопи ты меня… Дай хорошенько обдумать, следует ли мне еще соглашаться на это!.. – Наконец она решилась назначить ему для этого особый день, но с условием, чтобы я присутствовала при их разговоре. Сколько я ни доказывала ей, что это и меня и Маньковича ставит в крайне глупое положение, она непоколебимо отвечала:
– Тогда я беру свое слово назад. Разве ты не замечаешь, как часто меняется его настроение? То он бросает на меня пламенные взоры, то смотрит с такою злобою, точно готов разорвать на клочки. Своим шпионством за мною он еще более злит меня. По какому праву он отравляет мне жизнь? Решительно немыслимо принять его с глазу на глаз! Он может не только других, но даже себя уверить, когда разозлится на меня, что я его затягивала, завлекала, кокетничала, играла с ним!
– Как тебе не стыдно подозревать в такой гадости вполне порядочного человека?
– Что же делать! Я еще никем не увлекалась до полной слепоты.
Ввиду того что я наотрез отказалась передать Маньковичу поручение Тони, ей самой пришлось объявить ему свое решение в один из вторников. Это так поразило и ошеломило его, что он несколько минут не мог выговорить ни слова. Дрожа от гнева и оскорбления, он наконец заговорил:
– Я ничего не скрываю от Елизаветы Николаевны… и все-таки такие интимные дела двух людей могут решаться только между ними! Я не могу принять ваше предложение, несказанно унизительное для моего человеческого достоинства! Имею честь кланяться.
И Манькович удалился, ни с кем не простившись, и не являлся к нам целый месяц.
Но вот однажды в воскресенье кто-то позвонил. Я открыла дверь и увидала перед собою Маньковича с криво надетой шапкой и с неестественной улыбкой на губах.
– Да… Я пришел! Я хочу знать… – входя в столовую, говорил он пьяным голосом, и на меня пахнула от него водочным перегаром. В ту же минуту вошла Тоня и, ничего не заметив, жестам пригласила его в свою комнату, а меня схватила под руку и потащила к себе.
– А этот херувим с телячьими глазами… Паж неземной красоты… с идиотским выражением… Он продолжает всюду шляться за вами? Я ему морду побью! – стоя перед Тонею, в упор глядя на нее своим затуманенным взором и пошатываясь, проговорил он пьяным голосом.
– Как вы смеете являться ко мне в таком виде? – И она быстро вышла из комнаты.
Я задержалась на минуту и, указывая ему на графин с водой и умывальник, сказала: «Выпейте воды! Очнитесь!» – и отправилась к Тоне. Я умоляла ее сбросить с себя напускную холодность и войти в несчастное положение человека, влюбленного в нее, пожалеть его искреннею, сердечною жалостью. Она должна помнить, доказывала я ей, что это не какой-нибудь пропойца: он не берет в рот ни водки, ни вина, а напился с отчаяния, чтобы придать себе смелости.
– Да почему ты думаешь, что мне его не жаль? Меня возмущает, что он осмелился ввалиться к нам в таком виде, но еще более, что он каждый раз проявляет свою ревность! Господи, за что же на меня такая напасть?
Наконец в дверях показался протрезвившийся Манькович с мокрыми волосами и убитым видом.
– Я не смею даже просить у вас прощения за мое скотское поведение. Я знаю: более унизить себя в ваших глазах, Антонина Николаевна, уже немыслимо. Когда вы запасетесь житейским опытом, вы поймете, что бывают минуты в жизни, когда трезвый нередко напивается до бесчувствия, а человек, страшно любящий жизнь, может покончить самоубийством…
– Мне очень тяжело, что я причинила вам боль… Но и вы же поставьте себя на мое место. Вы обиделись за то, что я вам назначила свиданье при ней… Не спорю: может быть, и другой на вашем месте так же бы реагировал… Недаром же она (Тоня указала на меня) так возмутилась этим. Но мне казалось это необходимым, чтобы ни вы и никто другой не имел права сказать, что я вас сначала завлекала, кокетничала с вами, а натешившись, бросила эту… женскую игру. Мне кажется, что при вашем неуравновешенном характере можно ожидать всего. Моя совесть не позволяет мне поступать иначе.
– Да! Вы весьма предусмотрительный человек! – с горечью и иронией воскликнул Манькович.
– Я не хочу быть перед вами такою, какою вы создали меня в вашем воображении. Вот потому-то я и считаю долгом говорить с вами вполне чистосердечно. Я глубоко вас уважаю, питаю к вам самую сердечную симпатию, самую искреннюю дружбу, но вы сказали ей (она опять указала на меня), что желаете сделать мне предложение, а это требует от меня особой любви, которой я не чувствую к вам.
– Я ничего не требую, решительно ничего. Я удовольствуюсь тем, что вы можете мне дать. Я буду бесконечно счастлив, если вы и без страстной любви согласитесь быть моею женою. Умоляю вас, осчастливьте меня! Не все же вступают в брак по взаимной страстной любви! Пусть страстная любовь будет только с моей стороны. Пожалейте меня! Я даже не стыжусь произнести это слово. Я прошу вас согласиться на брак со мною хотя из сожаления ко мне. Спасите меня! Я погибаю! – И он рыдая бросился на колени и схватил ее руки. Тоня высвободила их, хотя у нее самой текли слезы по щекам. Он вскочил с колен и, то расхаживая по комнате, то останавливаясь перед нею, заговорил: – Вы человек по натуре благоразумный, вас шокируют неровности моего характера. Но я теперь, даю вам честное слово, только теперь выскочил из своей колеи! Мною овладело какое-то безумное чувство к вам, а между тем вы стали меня сторониться еще более, чем прежде, еще холоднее обращаетесь со мной… И меня всего как-то перевернуло… Я вас умоляю, дайте мне слово…
– Как же я могу дать вам слово, когда в настоящее время я вовсе не желаю выходить замуж. Я хочу избрать для себя какую-нибудь специальность, для изучения которой мне, может быть, придется на время уехать за границу…
– Даю вам честное, благородное слово всеми силами содействовать этому…
– Вы говорите так, точно не знаете, что весь уклад брачной жизни тормозит женский труд, если он не исключительно посвящен семейным заботам.
– Ваша воля, ваши желания были бы для меня священны, всегда и всюду стояли бы на первом месте!
– Я хочу раньше, чем выходить замуж, приобрести полную самостоятельность. Имея в виду эту цель, я не могу допустить никакой помехи, не хочу преклоняться перед чужою волею… Вы говорите, что моя воля и мои желания будут на первом месте, но мужчины это обыкновенно говорят, пока не добьются своего, и в большинстве случаев выходит совершенно наоборот. К тому же в браке немыслимо делать то, что желает только жена или только муж. И вот это-то преклонение перед волею мужа или перед силою семейных обстоятельств отрывали бы меня от намеченной мною цели, от деятельной жизни, которая дает мне такое нравственное удовлетворение. Весьма возможно, что если бы я кого-нибудь безумно полюбила, то считала бы счастьем преклониться перед его волею и перед силою семейных обстоятельств… Но я ни в кого не влюблена. Зачем же мне мое теперешнее положение менять на что-то неизвестное? О браке ведь недаром говорят, что это лотерея, выигрышные билеты в которой так же редки, как и счастливые супружества.
– Я согласен ждать, пока вы кончите все, что себе наметили: учитесь, уезжайте за границу или оставайтесь здесь… Мое чувство не такого характера, чтобы от продолжительной отсрочки оно разлетелось как дым. Я буду ждать терпеливо и могу ждать очень долго. Оставьте за мной только право, только одно право любить вас и надеяться, что когда вы покончите с вашею подготовкою для независимой жизни, вы хотя тогда согласитесь быть моею женой.
– Но ведь это же было бы недобросовестно с моей стороны. Как я могу поручиться, что в продолжение двух-трех лет, которые мне понадобятся, я сама не влюблюсь в кого-нибудь? Вы сами можете встретить девушку, которая сочтет величайшим счастьем связать с вами свою судьбу.
– Никогда!
– Не говорите так решительно. Я даже по своему опыту могу сказать, что человек под влиянием различных условий сильно меняет взгляды, принимает решения, переворачивающие его жизнь. Вы и близкие мне люди считаете меня благоразумной, предусмотрительной, и я всегда старалась заслужить эту репутацию… А сколько за эти годы произошло перемен в моей душе, в моих взглядах, стремлениях! Нет, нет, я ничего, ничего не могу обещать, не хочу связывать себя словом, не желаю добровольно надевать на себя цепи!
В эту минуту на парадной лестнице кто-то дернул за колокольчик, и Манькович с скорбным лицом, точно страшно усталый и разбитый, сейчас же встал с своего места и, ни слова не говоря, простился с нами. После этого он совсем перестал бывать у нас, и мы только года через два увиделись с ним.