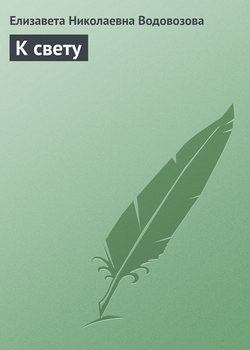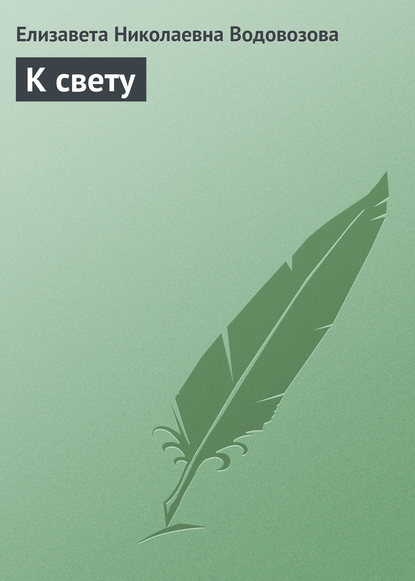IV
Бодрое, возбужденное настроение Тони сменилось грустью, тоскою и унынием. Нередко во время самого оживленного разговора она вдруг задумывалась, слезы закипали на ее глазах, и она, как бы желая взглянуть в окно, подходила к нему, смахивала слезу, возвращалась на свое место и, видимо с усилием подавив мучительную думу, продолжала начатый разговор. Ее тревожное состояние не проходило, и я наконец заметила ей, что она, несомненно, переживает какое-нибудь горе, и убеждала ее все откровенно рассказать мне.
– Боже мой! да я ничего не хотела бы в эту минуту так, как обсудить вместе с тобой тот ужас, тот позор… Да, новый позор, которому я подверглась, и уже не случайно, как тогда, когда меня спас Ермолаев, а сама устроила его, поступила бесстыдно до последней степени. Но я не могу говорить об этом! Я, кажется, тут же умру на месте от стыда, как только заикнусь о том, что я наделала! Нет, нет! Не спрашивай… не могу!
– Если ты не можешь все откровенно рассказать мне, почему бы тебе не обсудить того, что тебя так мучительно терзает, с твоим крестным? Судя по твоим рассказам, у тебя с ним идеальные отношения…
– Я его потеряла, потеряла навсегда! – И она вытащила из кармана пачку листиков почтовой бумаги, исписанных мелким мужским почерком, бросила их передо мной на стол и, рыдая, убежала в мою спальню.
Оказалось, что это письмо от Муравского.
«Как, Тоня, ты предлагаешь мне руку и сердце? Мне, который считал и всегда будет считать тебя своею родною дочерью! Да это, моя милая, такой камуфлет, от которого я не могу опомниться! И ты предлагаешь мне это потому, что, по твоим словам, любишь меня больше всех на свете. Но, родная моя девочка, с меньшим чувством я никогда бы не помирился. Если кто-нибудь из провинциальных кумушек когда-нибудь скажет тебе, что тот, чье имя ты носишь, не твой родной отец, знай, что она солжет против очевиднейших фактов. Твой отец – мой единственный, истинный друг, горячо любимый мною всю жизнь, торопил меня с переездом в Воронеж, и по его хлопотам я получил наконец учительское место в этом городе: он желал во что бы то ни стало сделать меня твоим крестным отцом. Одна из здешних сентиментальных глупышек еще недавно сказала мне, что мою привязанность к тебе она, как и все, объясняет моею безумною любовью к твоей матери, которой я будто бы на одре смерти дал слово никогда не оставлять тебя. Это такая же ложь, как и первая.
Скоро после того, как твоя мать дала тебе жизнь, она заболела раком, который года через два унес ее в могилу. После ее смерти я, не расставаясь, жил с твоим отцом до самой его кончины. Так же как и он, я внимательно наблюдал за твоим физическим ростом, с восторгом слушал твой детский лепет, сиживал по ночам у твоей кроватки во время твоих болезней, так же как и твой отец, страдал и приходил в отчаяние от ухудшения твоего здоровья или ликовал и был на седьмом небе от радости, когда проходил кризис, играл и возился с тобою я тоже не менее, чем твой отец. А затем ты еще малюткою осталась исключительно на моих руках. И в период твоей институтской жизни, далеко от тебя, все мои мысли, все заботы всегда были сосредоточены на тебе. Ты всю жизнь была моею единственною радостью. С каким наслаждением я откладывал десяток-другой рублей, чтобы скопить сумму, необходимую для поездки в Петербург! Как еще задолго до свидания с тобой я рисовал в воображении нашу встречу, раздумывал о том, переменилась ли ты, похорошела или подурнела, сильно ли обрадуешься нашей встрече. Теперь мечтаю о том, как через четыре года я дослужусь до пенсии, выйду в отставку, а ты в это время уже будешь замужем: я поселюсь с вами, буду нянчить и любить твоих детей, моих внуков, так же, как любил и тебя. Моя старость быстро надвигается, родная моя детка, но благодаря тебе, мое сокровище, я не боюсь ее, не страшусь одиночества: я буду окружен родною семьею, и любимая рука закроет мне глаза. Верь мне, голубка, не одна кровь создает родственную связь между людьми, но и общие интересы, заботы о благосостоянии другого существа, мечты о его будущем.
Уверяю тебя, моя ненаглядная девочка, если бы на то, что ты сама предлагаешь, мне намекнула одна из здешних кумушек-просвирен, я бы с ужасом и отвращением отшатнулся от нее: на брачный союз с тобою я посмотрел бы как на какое-то противоестественное преступление. И это потому, что я считаю тебя моим родным детищем, ниспосланным мне провидением. Но не салопница-просвирня делает мне это предложение, а дочка, данная богом, чистая девушка с кристальною душою! Храни тебя бог подумать, дочурка моя милая, что скверные эпитеты, которые я даю провинциальным кумушкам, я хотя мысленно прилагаю к тебе. Я ни на минуту не заподозрил чистоту твоих намерений, но меня в ужас приводит твое ребяческое миросозерцание. По самому поверхностному наблюдению над людьми, даже только понаслышке, ты должна была бы знать, что брак – одна из самых серьезных перемен в нашей жизни. И ты, такая осторожная во всем, такая разумная, рассудительная, вдруг сразу: „Не угодно ли, мою руку и сердце?“ Твое предложение особенно изумило меня потому, что, судя по твоим письмам, ты в последнее время вся ушла в то новое, что ты только что встретила. Я уже не раз писал тебе, как я счастлив, что ты наконец попала в кружок людей живых и образованных… В каком я восторге от всего того, что ты мне сообщаешь! Ты не поверишь, как меня интересуют твои описания разговоров, которые ведутся в этом кружке, все то, что ты сообщаешь о взглядах и спорах по поводу тех или других вопросов. Я замечаю, что ты начинаешь живее интересоваться всем, что у тебя являются вопросы и мысли, которые еще никогда не приходили тебе в голову, одним словом, что ты наконец просыпаешься. Каким же образом именно теперь в твою голову пришла такая нелепая мысль? Прежде всего я объясняю это твоим замкнутым институтским воспитанием, затем твоею жизнью у тетушек, когда продолжали дремать все твои душевные силы, и тем, что с переменою, которая произошла в твоей жизни, ты еще не могла освоиться. Вероятно, потому, что ты встретила настоящих живых людей, впервые наблюдаешь иную жизнь, ты уже совсем не можешь примириться с обществом ханжей, паразитов и тунеядцев, хотя твое положение у Алтаевых изменилось к лучшему. Быть может, это чувствуется тобою только инстинктивно, но ты скоро сама признаешь, что я прав.
Когда ты побольше познакомишься с жизнью, то увидишь, что счастливые браки между людьми, даже соответственного возраста, явление крайне редкое, а если муж более чем в два с половиною раза старше жены, как это было бы между нами, такие браки кончаются обыкновенно полным разрывом между супругами, ломкою всей жизни и тяжелыми трагедиями.
Ввиду того что тебе, видимо, опостылела жизнь у Алтаевых, не могла ли бы твоя подруга устроить тебя на даче в своем семействе? А если это невозможно, не можешь ли ты попросить своих знакомых подыскать тебе какое-нибудь место учительницы в отъезд?»
Когда мы, Василий Иванович и я, окончили чтение этого письма, мы употребили все наши усилия убедить Тоню, что в ее ребяческом предложении нет ничего постыдного для нее и что задушевный тон письма ее крестного красноречиво говорит о том, что и он так же смотрит на ее выходку.
Долго она еще рыдала и недоверчиво спрашивала: «Вы это только так говорите… чтобы меня утешить!» Наконец волнение ее улеглось, и она дала нам слово немедленно ответить своему опекуну.
– Скажи, пожалуйста, Тоня, почему ты вдруг вздумала сделать крестному такое предложение? – спросила я ее, еле удерживаясь от смеха.
– Не спалось мне как-то. Ворочалась я, ворочалась с боку на бок, и вдруг мне пришла на память ваша вечеринка и рассказ Зарина. Еще гораздо более взволновало меня воспоминание об инциденте со мною, когда я должна была явиться в полицейский участок. И вот передо мною стали рисоваться картины будущей моей жизни, одна ужаснее другой. Просто как-то даже страшно сделалось. И я решила, что спасти себя я могу только выйдя замуж за крестного. Я вскочила с постели и наваляла свое дурацкое письмо… Вот вы всегда издеваетесь надо мной, что я все обдумываю: в первый раз поступила скоропалительно – и устроила такую штуку, о которой всегда буду вспоминать с краскою стыда. Нет… теперь шабаш! Смейся сколько душе угодно, а я после этого еще несравненно серьезнее буду обдумывать каждый шаг.
Желание опекуна Тони поместить ее у нас на лето не могло осуществиться: дача наша, нанятая задолго до этого, была слишком мала даже для членов моей семьи. Не удалось нам и найти для нее места учительницы. Она уехала на лето с тетками в их подмосковное имение.
V
В первом письме из деревни Тоня описывала приволье деревенской жизни. Летом у теток ей жилось еще лучше, чем даже в последнее время в Петербурге. Когда Алтаевы давали ей поручения, которых в деревне было гораздо меньше, она очень радовалась им. Ее посылали обыкновенно в Москву, находившуюся от них по железной дороге в двух часах езды. Она приезжала туда утром и могла возвратиться домой только вечером. Исполнив порученное ей, она в свободное время осматривала Москву и знакомилась с ее достопримечательностями. Несмотря, однако, на прелесть деревенской жизни, Тоня писала, что жизнь у теток ее все более томит. «Не с кем сказать слова, поболтать по душе, никогда не раздается здесь, как и в их городской квартире, ни шуток, ни смеха». Кругом все как-то хмуро, благочестиво без благочестия, фальшиво и просто как-то глупо до дикости. Тетки особенно раздражают меня своей алчностью и показною религиозностью: чтобы не делиться со мною деликатесами, которые они покупают, они уничтожают их наедине, когда отправляются в свои спальни молиться богу и ложиться спать. Они зачастую преподносят богатые дары в различные церкви, раздают медные копейки на паперти нищим, но при мне никогда не помогли ни одному деревенскому бедняку. На днях к ним прибежала баба, их бывшая крепостная-дворовая, которую они как-то сами расхваливали за честность и порядочность. У нее после внезапной смерти мужа осталась на руках куча ребят. Вся ржаная мука у нее вышла, а до нового хлеба приходилось ждать еще более месяца: она умоляла дать ей взаймы четверть ржи. Тетушки приказали исполнить ее просьбу, но вытребовать с нее осенью полторы четверти – «полчетверти за процент»; как они сами объяснили несчастной женщине. Приказание это было внесено в особую книгу, в которой записаны и другие подобные же «благодеяния Алтаевых».
Тоня в сентябре возвратилась с тетками в Петербург. Однако не прошло и недели с их приезда, как их снова вытребовали по экстренному делу в подмосковное имение. Они дали знать о своем отъезде духовенству, собиравшемуся у них по воскресеньям, и просили Тоню присмотреть за домом, а по вечерам поить чайком «божьих людей», если кто из них завернет к ним.
– У нас положение для них такое, – знакомили они племянницу с подробностями своих хозяйственных распоряжений, – пусть чайку попьют, сколько душе угодно, можно и во второй раз для них подогреть самоварчик, но насчет булок – им полагается по одной трехкопеечной на брата. Зато в настоящее время можно им масленку с маслом ставить: в нынешнем году его достаточно получено из деревни. Денег мы даем каждому по пятнадцати копеек в неделю, но их-то уж пусть они подождут до нашего возвращения.
Алтаевы рекомендовали Тоне проявлять особое внимание к страннице Нимфодоре и к монаху Варсонофию, – это, по их словам, люди святой жизни.
После отъезда старух каждый вечер из «божьих людей» приходил кто-нибудь, а то и несколько человек сразу, выпрашивая у Тони хотя четвертачок от ее «усердия к богу» на построение храма.
Не дожидаясь окончания их чаепития, Тоня насыпала вазу сахару, ставила ее на стол перед ними, замыкала буфет (по требованию теток, как видно не рассчитывавших на честность «божьих людей») и отправлялась в свою комнату. Но вот однажды горничная докладывает ей о приходе монаха Варсонофия, которого она особенно не терпела за его бегающие глаза и антипатичное выражение лица. Она распорядилась, чтобы как можно скорее подавали чай. Когда вошел монах, Тоня заявила ему, что тетушки возвратятся еще не скоро. Она сейчас приготовит ему чай, но самой ей некогда беседовать с ним. Он же может не стесняться: тетушки просили его пить чай на здоровье и сколько угодно.
– Значит, брезгуешь человеком: одной рукой, как собаке, корку бросаешь, а другой за дверь швыряешь…
Тоня перебила его требованием называть ее «вы».
– И грех же какой эта твоя строптивость! В твои годы младые ты должна кажинному человеку доброе слово сказать, обласкать, услужить, значит, свое смирение выказать. Вот про тебя и добрая молва пойдет, хорошего женишка скоро найдешь.
– Вот вам чай, – сказала Тоня, вместо ответа поставив перед ним стакан и сахарницу, – а теперь потрудитесь сами угощаться.
– Полагаю, девонька, чудесная ты моя красоточка, строптивость-то твоя от тоски… Сладка ли жизнь со старым хламом, как твои тетки – старые девки, да еще такие скареды…
Тоня в это время уже встала из-за стола и подходила к двери, как вдруг Варсонофий сорвался со стула и бросился ее обнимать со словами: «Слава милосердному!.. Одни мы теперь… Вот и попользуемся!» Однако молодая девушка ловко выскользнула из его объятий и успела уже позвонить. Вошла горничная, и «божий человек» волей-неволей отшатнулся от нее.
– Сейчас же вывести вон этого негодяя! Если у вас не хватит сил, позовите дворников… – закричала Тоня, вбежала в свою комнату и захлопнула дверь за собою.
Однако «божий человек», несмотря на увещание горничной, громко стучал в дверь, посылая Тоне угрозы:
– Ишь ты, каверза подлая! Если посмеешь оговорить, так и я ведь не без языка!
Когда волнение улеглось, Тоня начала укладывать свои вещи, а затем принялась за письмо к теткам. Описав сцену с Варсонофием, она прибавила, что так как это первое оскорбление она получила не в светском обществе, которое они так презирают, а в религиозном, и притом от «божьего человека святой жизни», то она навсегда уезжает от них в среду людей светских; она уверена, что там ничего подобного не угрожает ей.
Хотя она оставила Алтаевым свой адрес, но они никогда не справлялись о ней, и Тоня уже более не встречалась с ними. Лишь года через полтора она узнала о смерти одной из них, а затем очень скоро после этого и о смерти другой, а также о том, что огромное их состояние по завещанию оставлено на богадельни и на постройку церкви в селе, где находилось их имение.
Сцена с монахом заставила Тоню на другой же день после описанного события переехать к нам, что и было изложено в самом начале этого рассказа.
VI
В тот день, когда Тоня окончательно оставила дом своих теток, я не могла долго посидеть с нею, мне необходимо было ехать в школу на урок. Когда я возвратилась домой перед обедом, я застала ее в самой оживленной болтовне и возне с моими маленькими детьми.
– Барышня-то все время не отходит от них. Уж если так любит играть с чужими детками, как же будет своих-то миловать да баловать. Как можно скорее нужно Антонину Николаевну замуж отдавать!
– Я очень даже хочу выйти замуж… да не так-то это легко устроить!
– И, барышня, для вас это вовсе не трудно! Только пальчиком поманите Николая Александровича, господина Маньковича, страсть как был бы рад! Ведь мы с кухаркой насмотрелись, как он, втюримшись в вас, все глазанки просмотрел.
– Да! Это уже ни для кого не тайна, – сказала я, когда няня ушла накрывать на стол.
– Манькович слишком порядочный человек, чтобы выходить за него не любя. О замужестве я много думала и насчет этого выработала очень хорошую теорию.
– При чем тут теория? Конечно, относительно этого, как и во всех других случаях, необходимо иметь известные принципы…
– А вот на подобные требования, которые у вас, современных людей, в таком ходу, я смотрю как на фразеологию. У меня какое-то органическое отвращение к словам: «необходимо выработать миросозерцание, миропонимание, принципы». На меня веет от них чем-то искусственным. Наконец, как это выработать столь досточтимые вами принципы? Укажи такую книгу, где все это объяснено? Ты говоришь – нет такой книги, что это-де вырабатывается жизнью, само собой, размышлением, чтением… А вот у меня ничего не вырабатывается… Да я вовсе и не хочу подчиняться этому вашему катехизису и вообще многим общепринятым обычаям. Например, я прекрасно знаю, что для девушки постыдно говорить о том, что она хочет выйти замуж. Она может сколько угодно распространяться насчет своего стремления приносить обществу пользу, о том, что она мечтает идти вперед в своем развитии, а о том, что ей действительно ближе всего – откровенно высказать желание выйти замуж, – ни гугу!.. А вот я прямо заявляю: хочу замуж, до смерти хочу! Одиночество – это смерть для женщины! Хочу иметь защитника, покровителя…
– Чудачка ты этакая! Неужели ты думаешь, что ты будешь пришита к мужу? У него свои обязанности: уроки, лекции, служба. И в замужестве женщина предоставлена неожиданным неприятностям и опасностям.
– Ну, уж извини: к замужней женщине каждый подходит с осторожностью.
– Наоборот: даже наиболее порядочные из ухажеров подходят к замужней женщине смелее и развязнее, чем к девушке… Ну, да об этом не стоит спорить! Меня интересует вот что: по твоим словам, ты только и думаешь о замужестве. Почему же ты не выходишь замуж? Ты нравишься не только Маньковичу, а многим. Вероятно, все твои поклонники не подходят под твою новую теорию? Воображаю, как она великолепна и головоломна, как глубоко, всесторонне она тобою обдумана.
– За твои издевательства тебя следовало бы лишить возможности познакомиться с нею… Но я сегодня бесконечно добра! Так слушай же. Выходить замуж за общественного деятеля, как это принято теперь у очень многих людей вашего круга, только потому, что он человек не глупый, не дурной, а главное, занимается общественной деятельностью, с моей точки зрения, необыкновенно глупо и смешно. Брак только тогда настоящий, честный союз, если он соединяет два горячо любящих сердца. Мало того, ты имеешь нравственное право только такому человеку вверить свою судьбу, который мало-помалу заставит тебя переродиться, изменить к лучшему твою душу, твою мысль. Если ты любишь по-настоящему, тогда солнышко приветливее манит тебя к себе, аромат цветов опьяняет и волнует кровь, люди кажутся такими добрыми и чудесными, и ты готова их всех обнять, делать для них все, что только в твоих силах… А надежда увидеть «его», властителя твоих дум, заставляет безумно биться твое сердце. Даже для такой девушки, как я, «ледяной глыбы», как меня называли, которая думала только об обыденном и прозаичном, жизнь превратится тогда в волшебную сказку, даже такая, как я, будет задыхаться от счастия в мире грез! Только страстно любимый человек может пробудить от спячки такую индифферентистку, как я, может сделать ее живою и восприимчивою. Только тогда, когда судьба пошлет девушке счастье так полюбить, она смело может выходить замуж. А иначе, зачем менять свое положение? Но мое главное несчастье в том, что я никогда еще так не любила и, сдается мне, никого не могу так полюбить, следовательно, навсегда останусь старой девой с рыбьею кровью.
– В первый раз в жизни встречаю трезвую мечтательницу-идеалистку, – смеясь, сказал, входя к нам, Василий Иванович, слышавший всю экзальтированную апологию любви, произнесенную Тонею. – Поэты обыкновенно награждают мечтателей страстною натурою, безумными порывами и другими подобными атрибутами… А тут целый волшебный мир поэзии и грез создан обдуманно весьма трезвою девицею, и чуть ли не с научною обоснованностью.
За обедом Тоня спрашивала меня, могу ли я через час-другой отправиться с нею на поиски пристанища для нее. Ей так страшно, говорила она, жить у людей, ей совершенно чужих. «Если бы можно было подыскать что-нибудь мало-мальски подходящее у ваших знакомых».
– Вы раньше поживите у нас и, как подобает вам в качестве благоразумной девицы, «всесторонне и глубоко» обдумайте, можете ли вы после блистательных апартаментов Алтаевых помириться с крошечной комнатюркой у нас и с нашею скромною жизнью. А во время этого основательного обсуждения, может быть, кто-нибудь из наших знакомых и будет подыскивать себе жилицу.
– Хотя вы оба сильно пробираете меня за мое «всестороннее и глубокое обдумывание», но я в таком восторге!.. Неужели это правда, что вы оба соглашаетесь, чтобы я поселилась у вас? – И она, раскрасневшаяся и с глазами, блестевшими от восторга, вскочила с своего места, крепко обнимала нас, пожимала нам руки. – Если бы вы дали мне возможность притулиться в уголке вашей передней, но только разрешили бы жить с вами, я бы и тогда была самым счастливым человеком на свете!.. А вы еще отдаете мне комнату в мое полное распоряжение!
И Тоня, необыкновенно оживленная, с помощью прислуги переносила в свою комнату вещи и, разбирая их, вытащила хорошенький альбом. Она подала его мне с просьбою написать ей что-нибудь на память. Я обещала ей это, когда мне что-нибудь придет в голову. Она побежала к Василию Ивановичу. Очень скоро он принес альбом обратно. Тоня громко прочла:
«Вы окружаете любовь какими-то неземными чарами, забывая, что и в ней есть шипы и тернии, отрава и разочарование, что и она несет с собою самые отвратительные чувства: измену, ревность, безумную жажду мести. Даже при взаимной страстной любви над любящими друг друга существами то и дело разражаются житейские бури, а повседневная пошлость и обыденщина быстро охлаждают жар в крови и иссушают сердца. Стремление к удовлетворению таких узкоэгоистических чувств, как любовь, вынуждает этих двух quasi[4] пламенеющих душ вечно ходить точно по вулкану, и в конце концов эта воспетая вами страстная любовь не приносит им ни душевного покоя, ни услады. Ваш взгляд на брак изобретен не вами, а так же стар, как божий мир, и, как все старое и отжившее, требует серьезного пересмотра. Только труд для счастья и просвещения обездоленных масс дает не эфемерное, не призрачное, а истинное счастье и сознание, что человек недаром прожил на свете».
– Да, вам хорошо рассуждать об общественном благе: присели на несколько минут и сразу написали целых две страницы… Значит, в писании ваше призвание, следовательно, вы этим и можете приносить пользу ближнему. А я своего призвания не нашла и, вероятно, никогда не найду. У меня ни к чему нет особенных способностей! И как это жестоко с вашей стороны, Василий Иванович, так разочаровывать меня! Вы так унижаете любовь, самое возвышенное, бескорыстное, самое благороднейшее из всех человеческих чувств! Так безжалостно обрываете все цветы, все красочное, всю поэзию! Да вы и не совсем поняли меня. Ведь я же говорила, что когда человек воспламенится любовью не призрачною, а истинною, он все готов сделать для ближнего. Но вы требуете, хочешь не хочешь, ко всему приклеивай ярлыки! Это какая-то эпидемия, мода. А я хочу подражать моде только в туалетах.
– Что же, работайте на пользу ближних сначала хотя из-за моды, а затем это войдет в привычку, в потребность, в плоть и кровь. Я думаю, Антонина Николаевна, если вы усвоите мысль о необходимости иметь всегда в виду общественное благо, то при вашей обстоятельности она глубоко западет в вашу душу.
Так мы разговаривали и спорили втроем, но чаще всего только вдвоем. Иногда во время таких разговоров Тоня то с искренним сокрушением, то с ирониею восклицала: «Как мне больно, как обидно, что вы оба (то есть Василий Иванович и я) презираете меня за мой заскорузлый эгоизм, за отсутствие в моей натуре „общественной жилки“, как у вас принято выражаться. Что же мне делать, когда я не могу насквозь пропитаться вашими мировоззрениями, миропониманием, принципами и там еще чем-то в таком же роде? Ради бога, не злитесь вы на меня! Хочу быть сама собой!»
– Да это же великое достоинство! – вставлял Василий Иванович, когда до него долетали наши разговоры. – Упорство в преследовании высших общественных идеалов… – Но, заслышав опять слова, которые она недолюбливала, Тоня догадывалась, что ее поддразнивают, махала рукой и убегала в другую комнату.
При нашей совместной жизни Тоня проявляла удивительное внимание, доброту, даже великодушие ко всем членам моей семьи и к прислуге, которая ее обожала. Вообще у нее оказался характер весьма приятный для совместной жизни, и скорее чисто альтруистические склонности, чем тень эгоизма. Она незаметно сделалась моею главною помощницею, правою рукою во всех семейных заботах, и мне приходилось употреблять немало усилий, чтобы ограничить ее слишком большое усердие в этом отношении. Когда я возвращалась домой из школы, запоздав на несколько минут, она уже сидела за обедом с детьми, наблюдая, чтобы они не развлекались во время еды, присматривала за ними, когда меня не было дома. Как только я усаживалась за рабочий стол, она заманивала их в комнату подальше и играла с ними. Ночью, когда кто-нибудь из них просыпался и плакал, она вбегала в детскую. Меня не на шутку сердило ее ночное вставание, но она оправдывалась тем, что на этот раз это был особенно жалобный плач ребенка и что ей хотелось узнать, не заболел ли кто из них. Все это быстро душевно сблизило меня с нею, и мы жили, как сестры, за которых очень многие принимали нас, тем более что нас обеих называли по батюшке Николаевнами.
Заметив, как она по целым часам может возиться с детьми, я ей постоянно говорила, что ее призвание быть «фребеличкой». Но она отшучивалась: «Ведь ты же знаешь, что у меня это еще не обдумано всесторонне».
Она сразу начала вести деятельный образ жизни: много читала под руководством своего прежнего преподавателя, моего покойного мужа Василия Ивановича; в дни моих уроков в школе она нередко все время присутствовала на них, чтобы присмотреться к элементарному преподаванию. Посещали мы с нею и «детские сады».
В то время их было очень немного и они представляли мало интересного и поучительного, так как в них при воспитании детей руководствовались нелепыми немецкими учебниками, совершенно не соответствовавшими русским нравам: их авторы до неузнаваемости искажали основные идеи знаменитого педагога Фребеля. Но вот однажды мы забрели в детский сад Софьи Андреевны Люгебиль (жены профессора греческого языка) и просили ее разрешить нам присутствовать при занятиях и играх детей.
– Присутствовать? – с неподдельным удивлением обратилась к нам эта, еще не старая в то время, худенькая женщина. – Такие молоденькие, и вдруг присутствовать!.. Да вы сами еще как позабавитесь с нашими ребятками! Вам самим будет очень весело!.. – И она без дальнейших слов легонько втолкнула нас в кружок играющих. Мы не заметили, как очутились посреди малышей, державших друг Друга за руки, как вместе с ними мы начали вертеться то в одну, то в другую сторону, как останавливались и повторяли за ними слова песни, хлопали в ладоши, бежали то галопом, то рысью, представляли горячившихся лошадей и, наконец, пустились обгонять друг друга. Вдруг одна из крошек упала и расплакалась. Софья Андреевна схватила ее на руки, прижала к груди, целовала ее глазки, из которых слезы текли ручьями, и пустилась бежать с криком: «Мы с тобою их всех обгоним!» И ребенок уже прыгал на ее руках, глазенки его блестели от удовольствия, и он весело размахивал ручонками.
– Ой, как мы устали: отдохнем, а потом поработаем! – говорила Софья Андреевна, запыхавшись от беготни, и высыпала из нескольких ящичков деревянные кубики.
– Я буду строить дяде стул! – кричал мальчик. – А я ему устрою кроватку! Он придет усталый, усталый!
– Почему дядя не приходит? – вдруг встрепенулись дети, и отовсюду раздавались те же вопросы.
– Какой же это дядя так их интересует? – спросила я у помощницы, сидевшей подле меня.
– Профессор, муж Софьи Андреевны, дети обожают его.
Через несколько минут кто-то позвонил.
– Это дядя! – кричали дети и, как один человек, бросились к двери.
– Я вас в переднюю не пущу, еще простудитесь… – напрасно вразумляла их Софья Андреевна.
– Мы хотим к дяде! К дядечке! – кричали, визжали и пищали дети, сгрудившись у двери.
– Кто тут не слушается? Я его сейчас вынесу на улицу в одной рубашонке и брошу на землю, – стучал профессор в закрытую дверь костяшками своих пальцев. Он проговорил это своим обычным пискливым голосом, но стараясь сделать его как можно страшнее.
Дети хохотали, прыгали около двери, продолжая вопить: «Дядя, дядечка, иди к нам!»
Дверь открылась, и в нее прямо на профессора налетело несколько ребят.
– У меня с утра крошки не было во рту, а вы воображаете, что я сейчас пущусь с вами прыгать? Очень ошибаетесь! Я так есть хочу, что сейчас, малыш, проглотил бы тебя целиком! – И профессор, этот маленького роста человек, хромой или, точнее сказать, сильно припадающий на одну ногу, худенький-прехуденький, с серьезным лицом, с тонкими губами, которые, казалось, никогда не разжимались для улыбки, но в душе которого был заложен кладезь любви к детям, дернул за волосенки одного из ребят.
– И меня, дядечка, проглоти!
– И меня съешь! – кричали ребята, окружив его и не давая ему пройти.
Профессор скорчил свирепую физиономию, что было до невероятности комично, и схватил на руки одного из ребят: потрясая его ноги в воздухе и показывая вид, что он желает ими избить всех окружающих, он таким образом прокладывал себе дорогу в столовую. Дети фыркали и давились от смеха.
– Что это за порядки в детском саду Люгебиль? – строго спрашивал профессор, – Дети, вместо того чтоб заниматься полезною для них работой, набрасываются на человека, который только что входит в комнату, и не дают ему даже поесть.
– Мы работали… Я сделал для тебя стулик! – А я кроватку! – тараторили дети и толкались вокруг него такой густой толпой, что мешали ему даже сесть в кресло.
– Брысь, брысь! – отстранял он их рукой, и они отскакивали с хохотом, но сейчас же опять бросались к нему.
– Да что вы хвастаете, детишки, что вы работали? Ведь никто из вас не кончил начатое! Как только вы звоните, профессор, с ними невозможно справиться!
– Я им покажу, что значит не слушаться! – И профессор обводил толпу, сурово сдвинув брови. Но дети еще пуще заливались от хохота и как пчелы жужжали вокруг него. Когда он наконец уселся с большим трудом, дети вскакивали на ручки его кресла, стояли с той и другой стороны его, толкали друг друга и падали. Девочка-толстушка, прекрасно лазившая, ловко взобралась по спине профессора и, точно мягкий шарик, прямо шмякнулась к нему на колени; остальные дергали его за сюртук, за руки.
– Рук не трогать! Видите… – он указал на только что поставленную перед ним тарелку с котлетами… – Есть хочу!