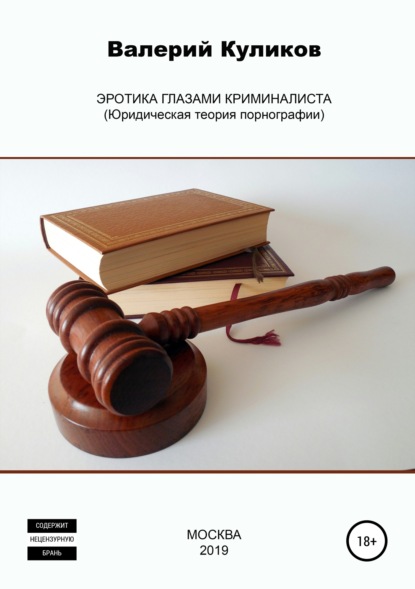Эротика глазами криминалиста (Юридическая теория порнографии)

000
ОтложитьЧитал
Отсюда понятно, что все действующие в обществе законы и подзаконные акты имеют своё нравственное обоснование. За каждой статьёй Конституции Р. Ф. незримо присутствуют моральные нормы, обеспечивающие им нравственное обоснование, а в совокупности эти нормы образуют понятие Конституционной морали, которая в настоящее время занимает господствующее положение в обществе.
Остальные виды морали (мораль отдельной личности и отдельных социальных групп) занимают подчинённое положение относительно норм Конституционной морали.
Во имя торжества принципа справедливости юридическая наука учит отграничивать моральные нормы отдельной личности и общественных объединений, которые не имеют юридической силы, от правовых норм, и различать в поведении людей (в зависимости от тяжести и характера содеянного) аморальный, административный проступок и уголовное преступление.
Чтобы не назначать за малозначительные проступки тяжкого наказания в демократическом государстве только правовые нормы считаются обязательными для исполнения всеми (перед законом все равны) и только их исполнение государство обеспечивает принудительной силой. Моральные же нормы отдельной личности и общественных объединений, которые не имеют юридической силы, таковыми не являются и потому обеспечивать их исполнение принудительной силой демократическое государство не должно.
За аморальное деяние (когда кроме морали вреда ни чему не причиняется) обидчику можно вынести только моральное осуждение, но ни о какой административной или уголовной ответственности тут речи быть не может.
Всякое принуждение само по себе аморально, а административное или уголовное принуждение, ради спасения «общественной нравственности» – аморально вдвойне. Нравственный климат светского общества существенно страдает, когда ради охраны «общественной нравственности» в жертву приносится демократический принцип справедливости, когда гражданский суд превращается в суд совести, в «божий суд».
Такое в жизни бывает, когда церкви удаётся навязать обществу свою мораль в качестве господствующей «общественной нравственности», но к демократии это не имеет никакого отношения. Церковь как раз для того и отделяется от государства, чтобы отделить гражданский суд от божьего, от страшного суда. Каждый чиновник в отдельности, «для себя», вправе исповедовать какой угодно «устав», но на работе, когда речь идёт о «делах «государевых», «судить да рядить должно» руководствуясь исключительно нормами конституционного права и морали.
Из сказанного выше понятно что, занимаясь правовой реформой с целью построения демократического государства, наша законодательная власть, отделив общественные организации и их идеологию от государства и провозгласив приоритет интересов личности над общественными интересами, не должна была выделять «общественную нравственность» какого-то отдельно взятого «общественного объединения» в качестве самостоятельного объекта ни административно-правовой, ни тем более уголовно-правовой охраны.
Делать это было нельзя ещё и потому, что причинить вред «общественной нравственности» просто невозможно по определению.
Заметим, лицо, нарушающее требование тех или иных моральных, либо правовых норм, причиняет вред не этим нормам, а тем отношениям, которые охраняют данные нормы. Например, вор совершает преступление не против Уголовного кодекса вообще или отдельной статьи УК Р. Ф.
Своими действиями он причиняет вред не праву собственности, поскольку в результате кражи право собственности сохраняется за потерпевшим. Своими действиями вор причиняет вред отношениям собственности. Причинить вред как своду правовых, так и своду моральных норм невозможно.
Следовательно, такие выражения, как «посягательство на общественную нравственность» или «преступление против общественной нравственности», которые в настоящее время в виде новелл применяются в главе № 6 Кодекса об административных правонарушениях и в главе № 25 УК Р. Ф., являются ошибочными. Они не верно указывают на объект правонарушения, что делает практически невозможным доказывание наличия состава тех правонарушений, где в качестве объекта правонарушения фигурирует «общественная нравственность». Согласитесь, всякое правонарушение только противоречит нормам нравственности, но вреда им не причиняет. Поэтому «общественная нравственность» не может выступать в роли объекта правонарушения.
Заканчивая очерк об «общественной нравственности» заострим внимание на мысли о том, что культурный прогресс общества невозможен, если он не вносит принципиально нового в положение личности; если человек не получает с каждой новой ступенью развития минимум свободы, хотя бы и ограниченной по разным причинам, но всё же расширяющейся при переходе от одной общественно-исторической формации к другой.
Ход естественно – исторического развития общества характеризуется движением вектора культурного прогресса в сторону возрастания роли гуманного начала в морали, праве, религии, философии.
Права человека и есть тот самый признак гуманного начала, постепенно обретающий ведущее место в политико-правовых доктринах цивилизованных стран, в том числе и современной России.
Действующий ныне каталог прав человека, зафиксированный в международно-правовых документах, – результат длительного исторического становления эталонов и стандартов, которые стали нормой современного общества.
Теперь такие права, как право на жизнь, свободу, достоинство, неприкосновенность личности, свободу слова, совести, мнений, убеждений, на автономию личной жизни и др., стали настолько весомыми и значимыми, что должны безоговорочно признаваться и охраняться всяким государством, которое считает себя демократическим. С учётом этого и была написана Конституция Р. Ф. 1993 г.
Следовательно, в нашем современном обществе господствующее положение занимает мораль светская, (поскольку церковь отделена от государства) и гуманистическая, поскольку установителем этих норм морали является человек, а не бог и защищает она интересы человека, а не бога.
Только светская гуманистическая мораль способна обеспечить нравственное обоснование прав человека, включая право на свободное использование своих способностей для оказания сексуальных услуг за вознаграждение, закреплённое в статье № 34 Конституции Р. Ф.
3.4. О проституции.
По мнению юриста С. Н. Красули проституция в странах Западной Европы прошла один и тот же путь развития. Выше мы отмечали, что падение Римской империи и распространение христианства оказало заметное влияние на изменение нравов народов Европы. Священнослужители, проповедовавшие учение Христа, призывали к «целомудренности» половых отношений. Они вели непримиримую борьбу с тем что, по их мнению, считалось «половой распущенностью», в том числе с проституцией. Однако сломать веками устоявшиеся нравы и прежние религиозные традиции, основывавшиеся на обожании сексуальности, было не просто. При всей враждебности, с которой христианство относилось к половому влечению и, несмотря на проповедуемый этой религией аскетизм, по мнению автора, церковь смогла преодолеть только один вид языческой «проституции», а именно ту, которая ютилась вокруг храмов языческих божеств и называлась христианскими богословами «храмовой проституцией». Но далее автор сообщает, что нравы католического духовенства также не отличались особой чистотой. Папские дворцы превращались в публичные дома, здесь развратничали, соблазняли и насиловали. В Риме женщины «совсем не ходили молиться под страхом святых апостолов, потому что папы насиловали их даже в церкви». Дошло до того, что папа жил даже с собственной дочерью.
Принявшие обет безбрачия монахи и белое духовенство для удовлетворения своих необузданных страстей создавали гаремы. Неограниченная власть над народом давала возможность наживать огромные богатства и пополнять кадры наложниц лучшими женщинами. Духовенство пользовалось правом первой брачной ночи, посещало публичные дома, существовавшие под покровительством светских властей, занималось сводничеством, насаждало в Европе гомосексуализм, способствовало распространению проституции. По статистическим данным 1581 года, во Франции общая численность духовенства с церковными служителями составляла 1018782, количество наложниц составляло 11 51 754, гомосексуалистов 39583, а некоторые из попов и монахов имели по пяти и более наложниц.
Согласитесь, всё это никак не свидетельствует о том, что храмовая проституция была христианской церковью побеждена. Точнее было бы сказать, что она просто видоизменилась, превратившись из языческой проституции в христианскую храмовую проституцию.
Собственно проституция во всех других её формах также благополучно продолжала существовать. Постепенно во времена средневековья она распространилась не меньше, чем в древние времена у языческих народов. Тщетно отдельные христианские правители пытались бороться с проституцией, напрасно против неё соборы издавали строгие постановления, борьба с проституцией оказалась совершенно бесплодной.
При дворах королей за счёт казны содержались сотни проституток. Для управления ими во Франции даже была введена специальная должность министра, на которую при Франциске I была назначена дама. Существовала эта должность до конца XVI века. Екатерина Медичи организовала при французском дворе из знатных проституток «летучий эскадрон королевы». Входившие в его состав женщины разъезжали по стране, а так же направлялись за границу, для совращения тамошних государей и знати. Они выведывали политические тайны, склоняли политических деятелей к отказу от действий, которые шли вразрез с интересами королевы. Все придворные «проститутки» получали жалование, титулы и награды, кроме того, их услуги щедро оплачивались благодарными клиентами.
С наступлением в Европе в конце XV, начале XVI века кризиса, и распространением венерических болезней отношение официальных властей к проституции резко изменилось. Средневековый режим относительной свободы и терпимости сменился режимом крепостного права, строжайшими запретами и репрессиями. Карл V, например, в своём Имперском полицейском уставе 1530 г. повелевал пресекать и преследовать всякое внебрачное сожительство. При австрийской императрице Марии Терезии уголовное наказание применялось не только за занятие «проституцией», но и за всякую любовную связь вне брака. «Проституток» подвергали жестоким наказаниям и ссылке. Обычно «проститутку» сажали в мешок, из которого торчала только обритая голова, обмазанная дёгтем. В таком виде её выставляли на видное место, затем секли розгами и вывозили на тачке за черту города, где толпа забрасывала её камнями и нечистотами. Подобные экзекуции проводились в Вене и других городах Австрии вплоть до 20 годов XIX века. Преследовались в Австрии и мужчины, предававшиеся «распутству». Их подвергали аресту, а при повторном изобличении в «аморалке» подвергали телесному наказанию в так называемых смирительных домах. Если же родители или лица, их заменяющие, способствовали «разврату» своих детей, виновным отрубали голову. Когда такие действия совершались духовным лицом, то после отсечения головы труп сводника сжигали.
В 1751 году в целях защиты «общественной нравственности» Марией Терезией была учреждена «Комиссия целомудрия», просуществовавшая до 1768 года. Члены этой комиссии разыскивали лиц, виновных в прелюбодеяниях и занимавшихся «проституцией», к которым затем применялись телесные наказания, заключение в смирительный дом и ссылка. Как видим, пишет далее автор, в период правления Марии Терезии были использованы самые жестокие средства для уничтожения «проституции», но избавиться от этого «позорного явления» обществу не удалось. Вместо уличных «проституток» и обитательниц публичных домов распространение получила семейная «проституция», прикрывавшая своё ремесло выполнением обязанностей горничных и другой прислуги.
Строгий запрет на проституцию был установлен в своё время и во Франции. Законодательство 1684 г. дела о «проституции» полностью передало в ведение полиции, решение которой не подлежали никакому обжалованию. Людовик XIV предоставил полицейским право заключать проституток в специальную тюрьму Сальпетриер. В 1687 году публичным женщинам, обнаруженным в Версале или в его окрестностях, предписывалось отрезать уши. Строгие карательные меры применялись и к лицам, способствовавшим «проституции». Так, в Париже сводников секли розгами, клеймили, отрезали уши и выгоняли из города. В Англии сходные меры применялись не только к сводникам, но и к клиентам «проституток». В Женеве к смертной казни приговаривались опекуны, если опекаемые ими девушки начинали заниматься «проституцией». В Неаполе, Испании и Португалии сводникам и проституткам отрезали носы.
Непоследовательность и противоречивость жёстких, несправедливых и потому унижающих человеческое достоинство мер по борьбе с «проституцией» привели к кризису запретительной правовой системы. Постепенно такие меры стали вызывать заслуженное возмущение и протесты широких кругов общественности, что вынудило французское правительство в 1791 году отказаться от запретительной системы и исключительных полицейских мер против проституток. Вслед за Францией от запретительной системы постепенно отказалось большинство европейских государств. На смену ей пришла система регламентации. Новый режим стал опять терпимо относиться к проституции, но при условии подчинения её врачебно-полицейскому надзору. С этого момента преследованию подвергается только нелегальная «проституция», как разновидность незаконного предпринимательства.
В 19-ом веке в США, Франции и Великобритании развернулось широкое демократическое движение аболиционистов за отмену законов и положений, закрепляющих рабство и любой вид эксплуатации человека человеком. В США это было движение за отмену рабства негров; в Великобритании, Франции – движение за отмену рабства в колониях. Движение аболиционистов оказало влияние и на отмену крепостного права в царской России. Во второй половине 19 века под «обстрел» аболиционистов попала и проституция. Врачебно-полицейская система регламентации, организованная в условиях господства всё той же диктатуры сексуального аскетизма и брезгливого отношения к «проституции» и проституткам, не оправдала надежд на улучшение положения публичных женщин в целом. Она поощряла безнаказанность полиции нравов за произвол в отношении не только тех, кто занимался «проституцией», но и тех, кто случайно попадал под подозрение. Она не спасала женщину от рабской зависимости от хозяев, не давала ей желаемой свободы. Всё это и послужило толчком к возникновению общественного движения, направленного на защиту чести и достоинства женщин. Впервые оно зародилось в Англии в 60 годах в форме протеста против изданных в 1864–1869 г.г. законов «о регламентации проституции». Большую активность в организации этого движения проявила англичанка Жозефина Бутлер, которая не ограничивалась пропагандой своих идей в Англии. В 70-х годах она совершила поездку по Европе, во время которой пропагандировало идеи аболиционизма, читала лекции, доклады, создавала на местах комитеты по борьбе за права женщин и отмену регламентации проституции. На основе таких комитетов идеи аболиционизма получили распространение в Италии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Франции, Америке. Это крыло аболиционистов активно поддерживала англиканская церковь, другие организации религиозного толка, набожные «научные» деятели, студенчество. В результате в 1886 в Англии были отменены законодательные акты, устанавливающие надзор за проституцией. Затем усилиями Бутлер и её единомышленников была создана международная ассоциация, получившая название Британской континентальной генеральной федерации аболиционистов. В 1887 году состоялся первый конгресс аболиционистов. Открывший этот конгресс член английского парламента Стенсфельд в своей речи объявил собравшимся, что «целью федерации является борьба с регламентацией проституции и обязательным осмотром женщин. Эти меры несовместимы с истинным понятием о свободе, нарушают закон (божий?), оскорбляют нравственные чувства женщины. Задача конгресса – доказать справедливость этих положений и указать средства борьбы с проституцией, что не смогла сделать до сих пор ни одна из регламентированных систем». Впоследствии состоялся ещё целый ряд таких конгрессов, где говорилось, что «..основные их идеи заключались в следующем:
1. принципы нравственности неразделимы и одинаковы для лиц обоего пола.
2. естественные права мужчины те же, что и женщины.
3. нарушение целомудрия у мужчин заслуживает столь же строгого порицания, как и у женщин.
4. государство – представитель правосудия – ни в коем случае не должно благоприятствовать злу, тем более не должно входить в сделку с пороком.
5. проституция есть основное нарушение законов природы (каких же?) и гигиены; её организация противоречит законам (божьим?), карающим за возбуждение в разврату.
6. принудительный врачебный осмотр женщин или мужчин, практикуемый при режиме регламентации, есть вопиющее нарушение прав человека, оскорбление самых возвышенных стремлений цивилизации и несчастная гигиеническая ошибка.
7. женщины, заключённые в дома терпимости, удерживаются там силой и делаются настоящими рабынями, подчинёнными игу матроны, которая самовольно располагает их телом и волей.
8. государство должно запретить всякую коллективную организацию проституции, оно должно подавлять порок, а отнюдь не входить с ним в сделку и регламентировать его».
Как видим, эта организация аболиционистов была чисто пуританской, экстремистской организацией, которая под благовидным предлогом борьбы с рабством и «торговлей белыми рабынями», выступала за отмену «режима терпимости к проституции» и замену его старым режимом «нетерпимости». Устраняя регламентацию проституции, английские пуритане способствовали возврату её в подполье, к бесконтрольной сексуальной эксплуатации женщин своими «душеприказчиками», к самому настоящему средневековому рабству. Это было равносильно предложению ликвидировать само производство ради ликвидации рабства на производстве.
Не законы, не отношения между хозяевами и рабами на производстве предлагали менять аболиционисты: они предлагали уничтожить само производство. Несмотря на очевидную ошибочность взглядов аболиционистов на проституцию, которые вместо совершенствования законов и правил регламентации, выступали за ликвидацию самой регламентации, они сумели привлечь под свои знамёна даже государственных деятелей, созвать с их помощью ряд международных форумов, заключить ряд международных договоров и утвердить на многие годы вперёд свои взгляды на «проституцию» и свои способы борьбы с ней: традиционно жестокую «божью кару» за нарушение предписаний уголовного закона.
На тезисах аболиционистов была основана и действующая ныне «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» от 21 марта 1950 г. По состоянию на 1 января 1989 года её подписало 59 стран. СССР присоединился 11 августа 1954 г., но заявил при этом, что «В Советском Союзе устранены социальные условия, порождающие преступления, предусмотренные Конвенцией. Однако, учитывая международное значение борьбы с этими преступлениями, Правительство Советского Союза решило присоединиться к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, принятой на IV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 1949 года». Приведём основные статьи Конвенции.
Статья 1.
«Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица:
1. Сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица;
2. Эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица.
Статья 2.
Стороны в настоящей Конвенции обязуются, далее, подвергать наказанию каждого, кто:
1. содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или принимает участие в финансировании дома терпимости;
2. сдаёт в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами.
Статья 6.
Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принимать все необходимые меры для отмены или аннулирования любого действующего закона, постановления или административного распоряжения, в силу которых лица, занимающиеся или подозреваемые в занятии проституцией, либо подлежат особой регистрации, либо должны иметь особый документ, либо подчиняются исключительным требованиям, имеющим своей целью контроль или оповещение».
Страны, подписавшие эту Конвенцию могли через пять лет её денонсировать. Важно было в первые послевоенные годы, когда в условиях разрухи проституция распространялась с особой силой, не допустить массовой эксплуатации женщин. Поэтому Конвенция предписывала оставить в покое, освободить от любого контроля или учёта саму «проститутку», но обязывала преследовать в уголовном порядке «эксплуатацию проституции», и организованные формы оказания сексуальных услуг.
Заметим, употребление словосочетания «эксплуатация проституции» в тексте Конвенции было, на наш взгляд, не верно. По определению, эксплуатация человека человеком – это безвозмездное присвоение продуктов труда непосредственных производителей. Авторы Конвенции, скорее всего именно это и имели в виду, но тогда правильно было бы говорить об эксплуатации проституток, а не об эксплуатации проституции. То есть, об эксплуатации человека человеком, а не «производства услуг».
В чистом виде такая эксплуатация действительно имела место, когда «производитель услуг» находился в рабской зависимости от своего «хозяина» и тот, пользуясь зависимым положением «производителя», эксплуатировал его сексуальные способности по своему усмотрению. Такое положение было при рабовладельческом строе и во времена крепостного права. Там между мужчиной и женщиной складывались отношения типа «раб и властелин» и квалифицировать их, говоря современным языком, можно было не как проституцию, а как «понуждение женщины к вступлению в половую связь». Таким оно остаётся до сих пор во всех странах, где «проституция» находится на нелегальном положении, поскольку эксплуатация человека человеком и торговля людьми – характерная черта всякого нелегального, незаконного предпринимательства.
После отмены крепостного права и появления в городах массы свободных женщин, покидавших в деревнях одних «душеприказчиков» и попадавших в городах в лапы новых, появилась насущная необходимость упорядочить резко возросшую при капитализме деятельность по оказанию сексуальных услуг, как вида предпринимательской деятельности. Для этой цели и были приняты законы о регламентации проституции и написаны правила регламентации. Возможно, законы были не совершенны. Возможно, правила регламентации были далеко не идеальны. Конечно, было плохо, что полиция стала заведовать вопросами нравственности. Но само решение о легализации «позорного промысла» тогда было правильным. Поэтому ни у кого из здравомыслящих политиков того времени оно не вызывало возражений. Регламентация проституции разрушала отношения «господ и рабов» и впервые ставила под государственный контроль этот вид деятельности, выбивая почву из под ног бывших эксплуататоров. Разумеется, «душеприказчикам» это не нравилось. На их стороне оказались аболиционисты, посвятившие себя борьбе не только с рабством, но и с «проституцией», «порнографией» и всем тем, что «способствует процветанию разврата».
После 1954 г. внутреннее законодательство СССР было приведено в точное соответствие с принятой Конвенцией, поэтому в советском законодательстве не было статей, прямо предусматривающих ответственность за проституцию.
В уголовном порядке преследовалось только вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних, содержание притонов разврата и сводничество с корыстной целью (ст.210 и 226 УК РСФСР).
Большинство зарубежных стран, подписавших эту Конвенцию, на протяжении почти пятидесяти лет точно старались придерживаться её исполнения. Но в конце прошлого века, например, специалисты Германии и Голландии, внимательно изучив накопленный опыт по борьбе с проституцией, пришли к выводу, что неукоснительное соблюдение предписаний этой Конвенции не даёт положительного результата, поэтому в настоящее время «традиционные» взгляды на сексуальные услуги в этих странах были пересмотрены. Власти этих государств снова отменили у себя запрет на содержание публичных домов и опять утвердили режим «регламентации проституции», но на принципиально новой основе: проституцию там впервые официально перестали считать безнравственным деянием, руководствуясь моральными нормами светской, а не религиозной морали.
Что касается России, то у нас нет свидетельств существования здесь во времена дохристианские проституции в том виде, в каком она существовала, например, в Древней Греции: с публичными домами, специальными законами, классификацией проституток и т. д., но это вовсе не значит, что тогда «позорного промысла» вообще не было. Патриархальный уклад жизни в условиях режима княжеской диктатуры предполагал полное подчинение женщин своим «душеприказчикам»: брату, отцу, мужу, свёкру, помещику, князю, которые распоряжались ими «по своему усмотрению»: братья продавали сестёр, отцы и матери – дочерей. В России, пережившей набеги викингов, тевтонцев, почти трёхсотлетнее татаро-монгольское иго, женщины тысячами подвергались насилию, угонялись в неволю, продавались в рабство. С другой стороны, были невольницы и у русичей, которых хозяева заставляли «обслуживать» нужных людей. Но это была не проституция, а «эксплуатация сексуальных способностей женщины» в форме «понуждения ко вступлению в половую связь». Кроме этого, во все периоды русской истории, подобно бродячим ремесленникам, шли по дорогам женщины, оставшиеся в силу тех или иных причин без семьи и крова. Вот они то и занимались проституцией на ярмарках, которые случались в городах и больших посёлках, прибивались к войскам. Русские войска, как и западные, в походах сопровождались большим количеством женщин. Именно из этого контингента происходила русская императрица Екатерина I. Вокруг военных лагерей и поселений возникали кабачки, обслуживавшие солдат и офицеров.
Крепостное право, которое окончательно было закреплено Соборным Уложением 1649 года, а также «Домострой» (свод житейских правил и наставлений 16 века, возникший в среде новгородского боярства и купечества, и защищавший принципы патриархального быта и деспотической власти главы семьи) способствовали закабалению русской женщины. Все иностранцы, пишет Н. И. Костомаров, поражались избытком домашнего деспотизма мужа над женою.
В Москве, – замечает один путешественник, – никто не унизится, чтоб преклонить колено пред женщиною и воскурить пред нею фимиам.
Вообще после христианизации Руси женщина стала считаться существом нечистым, поэтому женщине, например, не дозволялось резать животное: полагали, что мясо его не будет тогда вкусно. Печь просфоры дозволялось только старухам. В менструальные дни женщина считалась недостойною, чтоб с нею вместе есть. Церковь учила:
«Что есть жена? Сеть утворена прельщающи человека во властех, светлым лицом убо и высокими очима намизающи, ногама играющи, делы убивающи, многи бы уязвивши низложи, темже в доброти женстей мнози прельщаются и от того любы яко огнь возгорается…Что есть жена? Святым обложница, покоище змеино, диавол увет, без увета болезнь, поднечающая сковрада, спасаемым соблазн, безисцельная злоба, купница бесовская».
Русская женщина была постоянною невольницею с детства и до гроба. В крестьянском быту, хотя она находилась под гнётом тяжёлых работ, хотя на неё, как на рабочую лошадь, взваливали всё, что было потруднее, но, по крайней мере, не держали взаперти. У казаков женщины пользовались сравнительно большею свободой: жёны казаков были их помощницами и даже ходили с ними в походы. У знатных и зажиточных людей Московского государства женский пол находился взаперти, как в мусульманских гаремах. Девиц содержали в уединении, укрывая от человеческих взоров; до замужества мужчина должен быть им совершенно неизвестен; не надо было, чтоб юноша выражал девушке свои чувства или спрашивал её лично согласия на брак. Самые «благочестивые» и «набожные» были того мнения, что родителям следует бить почаще девиц, чтоб они не утратили своего девства. Чем знатнее был род, к которому принадлежала девица, тем более строгости ожидало её: царевны были самые несчастные из русских девиц; погребённые в своих теремах, не смея показываться на свет, без надежды когда-нибудь иметь право любить и выйти замуж, они, по выражению Котошихина, «день и ночь всегда в молитве пребывали и лица свои умывали слезами». При отдаче замуж девицу не спрашивали о желании; она сама не знала за кого идёт, не видела своего жениха до замужества, когда её передавали в новое рабство. Сделавшись женою, она не смела никуда уйти из дома без позволения мужа, даже если шла в церковь, и тогда обязана была спрашиваться. Ей не предоставлялось права свободного знакомства по сердцу и нраву, а если дозволялось некоторого рода обращение с теми, с кем мужу угодно было позволить это, то и тогда её связывали наставления и замечания: что говорить, о чём умолчать, что спросить, чего не слышать.
Редко дозволялось женщине иметь влияние на детей своих, начиная с того, что знатной особе считалось неприличным кормить грудью детей, которых отдавали кормилицам; мать в последствии имела над ними менее надзора, чем няньки и дядьки, которые воспитывали детей под властью отца семейства.
Обращение мужьёв с жёнами было таково: по обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая «дураком»; за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал верёвками и сёк «дураком» до крови – это называлось учить жену. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность.
Кто не бил жены, о том «благочестивые» люди говорили, что он дом свой не строит и своей душе не радеет и сам погублен будет и в сем веке, и в будущем, и дом свой погубит.
Домострой «человеколюбиво» советует не бить жены кулаком по лицу, по глазам, не бить железным или деревянным орудием, чтобы не изувечить и не допустить до выкидыша ребёнка, если она беременна; он находит, что бить её плетью и разумно, и больно, и страшно (укрепляет веру и власть), и здорово, т. е. полезно для здоровья!.. Это нравственное правило проповедовалось православною церковью; и самим царям при венчании митрополиты и патриархи читали нравоучения о безусловной покорности жены мужу. Женщины говорили: «Кто кого любит, тот того лупит, коли муж не бёт, значит, не любит».