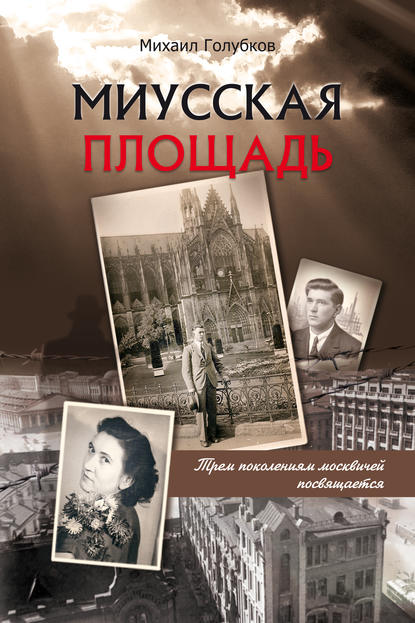000
ОтложитьЧитал
И все же не только горечь, но и неизведанное ранее наслаждение завладевало стариком. Как будто сам воздух миусский, старый, московский, осенний и прелый, почти без привкуса городской копоти, помогал стоять или идти; как будто эти улицы, прямые и перпендикулярные, столь не характерные для старой, да и для новой Москвы, образующие четырехугольник Миусской площади, несли в себе его время, то, когда он был молод, кому-то нужен и не одинок. Кому нужен? Матери, братьям, сестре. Друзьям. Стране. Партии, государству. Он не делал разницы между страной, партией, государством. Им он был нужен, и это давало силу и уверенность. Сейчас не был нужен никому. Матери и братьев не было. С сестрой дороги разошлись, да, конечно, сам виноват, но легче ли от того, что сам виноват? Нет. Партия, страна и государство, когда постарел он и когда подросли молодые и более хищные, рвущиеся в загранкомандировки как мухи на мед, горло перегрызающие друг другу да и вообще всем, кто на дороге оказывается, – тогда партия и государство в лице его министерства просто выбросили его на свалку истории, в малогабаритную хрущевку на московской окраине, устроив предварительно партийное собрание Министерства внешней торговли, и забыли о его существовании – доживай.
Собственно, с этого собрания в пятьдесят седьмом и начался его спуск вниз. Это было – как перелом жизни, как неизбежное и незаметное поначалу изменение траектории полета птицы, в которую попадает не весь дробовой заряд, а, скажем, одна дробинка – тогда траектория полета медленно превращается в траекторию падения. Так и с ним случилось. Два десятилетия до этого собрания он жил в страхе – за себя и за брата, который исчез в тридцать седьмом году. Тогда он оказался врагом народа, а в конце пятидесятых – необоснованно репрессированным. Представить себе, что Боря – враг, было невозможно, да и кто верил, что люди, родные и неродные, жившие рядом, бок о бок, исчезнув внезапно ночью, становились врагами, будто попадали в некое зазеркалье, где все оказывалось наоборот: правое – левым, черное белым, а друзья – врагами? Самые, наверное, тупые верили в мистические социальные трансформации того зазеркалья. В основном, конечно, не верили, но от ужаса делали вид, что верили. Вот этот-то ужас и навалился на него тогда: за себя и за Бориса. Никому в своем министерстве не сказал об аресте брата, и ведь никто не узнал, не сработали тяжелые и неповоротливые шестерни энкавэдэшной машины. Не сошлось что-то, хоть и фамилия одна, и дружили очень, и знали все об этой дружбе, но вот, не сошлось! Но ведь не сказать товарищам, не сообщить в партбюро о постигшем горе безысходном, не отречься многократно и публично, на собраниях, бия себя в грудь и клянясь в собственной верности под сладострастные обличения очередных партийных докладчиков – это тоже преступление! Ты сочувствуешь брату – предателю? Не виновен? Не враг? Органы не ошибаются! Просто ты, дорогой товарищ, личное – любовь к брату, видите ли, – ставишь над общественным – любовью к партии Ленина-Сталина! И лично к товарищу Сталину! Двадцать лет носил эту тайну в груди, никто на работе не знал, а на двадцать первый, уже после хрущевского съезда, вдруг дрогнуло что-то – сам написал в партком министерства. Вот тут-то и грянуло! После двухчасового разноса на общем партсобрании болел целых два месяца. А когда вернулся на работу, понял, что – все! Все! Хотя вроде не изменилось ничего, но его уже не существовало в министерстве. Ему просто как-то не стало места. Не стало дела. Это разительное чувство привело к какой-то атрофии воли и обессилило полностью. Тогда он стал стареть, стареть стремительно. Сам не узнавал себя в зеркале, отворачивался, старался не смотреть. А потом вернулся приятель из долговременной командировки, и не узнал! То есть вообще не узнал, столкнувшись лоб в лоб, прошел мимо! Так и остался тогда Константин Алексеевич стоять в шикарном мраморном холле нового мидовского небоскреба, изготовившись для рукопожатия и дружеских объятий, похлопываний, глядя вслед садящемуся в скоростной лифт человеку. Тот вошел в кабину, нажал кнопку этажа, повернулся лицом к автоматическим дверям, взгляд скользнул по холлу и остановился на Константине – и в этом взгляде сразу были радость узнавания и ужас узнавания, как смотрят на покойника, угадывая измененные смертью знакомые черты. Старый товарищ устремился назад, в холл, почти шагнул из лифта, но двери закрылись, кабина умчалась ввысь, судя по мельканию зажигающихся лампочек на световом табло, а он остался стоять внизу, в холле, на выходе. В своей дурацкой позе. Шаг в лифт, несущий ввысь, к успеху, был уже невозможен. И в этой невозможности была какая-то мистическая предопределенность, напрочь отнимающая надежду.
Почему он стал вспоминать сейчас пятьдесят седьмой? Ведь было не в этом месте, а на Смоленской площади, здесь течет совсем другое время, здесь пространство его десятилетий. Вот из этого подъезда Боря провожал Вальтера на Брестский вокзал, в ту самую командировку. У Вальтера был легкий желтый кожаный саквояж, вещи все ехали в багажном вагоне, он зашел к Боре проститься, так вместе и пошли к Белорусскому вокзалу. К Брестскому. Как все коренные москвичи, братья любили бравировать старыми московскими названиями, это был легкий форс, как и московская манера говорить, растягивая гласные, подчеркнуто акая. В сквере у Брестского вокзала они и встретились тогда. Оба билета на поезд были у Бори, он и заказал им купе СВ на двоих. Конечно, это была некоторая вольность со стороны Константина Алексеевича – не покупать билет через свой наркомат одновременно с оформлением визы и прочих документов, но тогда он мог это себе позволить.
Старик почувствовал, что ему необходимо оказаться около Белорусского вокзала, тем более, что, в общем-то, все равно было, куда идти: к Новослободской или Белорусской. Расстояние примерно одинаковое и одинаково труднопреодолимое. Тем более, что новая дорога, вниз по улице Готвальда на улицу Горького сулила пребывание в том же времени, возвращение из которого в семьдесят третий было неотвратимо, но можно было чуть-чуть оттянуть.
Сквер перед вокзалом изменился, в центре возвышался теперь памятник Горькому – от советского правительства. Машин вокруг сквера было очень много, грузовики мешали легковушкам, пробка образовывалась постоянная. Тогда машин было меньше во сто крат, о пробках вообще не знали. Да и машины были другие – черные, совсем иной формы, строгие. И дышалось легче. Потому что машин было меньше? Или потому что время было его?
Скамейки в сквере расположились полукругом вокруг памятника, и не оказалось ни одной свободной. Старик облюбовал ту, на которой сидели двое – парень лет семнадцати и девчонка, оба длинноволосые, с сигаретами и в одинаковых ярких синтетических куртках. В руках у одного из них был прямоугольный пластмассовый черный ящик, из которого вырывались какие-то невнятные звуки – то, что это можно назвать музыкой, старик не понимал. Осторожно, перенеся опору с палки на ноги, он сел на другой край скамейки – молодые люди не обратили на него ни малейшего внимания. Как, впрочем, и он на них. Случайно сойдясь на короткий миг в одной точке физического пространства, они принадлежали разным измерениям, разным временным континуумам.
* * *
– Ну что ж, посидели на дорожку – и хватит! – сказал Борис, вставая. Держи! – обратился он к брату, подавая матерчатую сумку. Мать с сестрой вам в путь-дорожку собрали поужинать-пообедать. Ну и тебе кое-какие теплые вещички. Пошли потихоньку. Поезд через двадцать минут. Как раз сесть и в вагоне расположиться. Пошли!
Вагон СВ оказался третьим, сразу за ним – вагон-ресторан. Отдав проводнику, солидному и серьезному пожилому человеку с седыми усами, закрученными вверх, прямоугольные картонные билеты, которые он тут же положил в кармашки брезентовой планшетки и сделал пометки карандашом сразу в двух блокнотах, они вышли на перрон, тут же закурили. Честно говоря, Константин Алексеевич с трудом привыкал к портсигару – то, что его нельзя было открыть одной рукой, да еще в кармане, несколько затрудняло процесс курения, но повышало его статус: переводило из автоматического действия в ритуальное, требовавшее большей сосредоточенности. Борис с улыбкой наблюдал, как оба его спутника незаметно для самих себя на какой-то миг все внимание сосредоточили на закуривании, замолчав, выключившись из разговора. Прогуливаясь по перрону, подошли к паровозу, стоящему под парами, и Константин Алексеевич подумал, что из всех машин, виденных им когда-либо, паровоз – самая серьезная и одушевленная, живая. Новый сормовский паровоз, которому предстояло тащить вагоны до Бреста, поражал не только своей невероятной локомотивной мощью, но и, в самом деле, одушевленностью: шесть огромных, выше человеческого роста, красных колес были перекрыты снаружи огромной рехордой, и казалось, что она была нужна не для передачи крутящего момента с ведущей оси на ведомые, а для того, чтобы во время бега добавлять дополнительное ускорение, заставляя машину быстро-быстро перебирать лапами. Паровоз вздохнул и нетерпеливо выпустил пар, что уже окончательно обнаружило в нем живое существо, ибо при этом проявились белые густые усы, почти как у проводника, только устремленные не вверх, а вниз, к самым рельсам. Паровоз вздохнул еще раз, усы исчезли, но тут же раздался оглушительный свист, в результате чего пар появился не внизу, а наверху. Показалось, что паровоз от нетерпения и волнения тоже закурил папиросу, сильно затянулся и что есть мочи выпустил дым из обеих ноздрей – много, быстро и со свистом. Очень не терпелось поскорее ехать, поэтому паровоз как бы невзначай пошевелил рехордой, вроде бы просто проверяя сцепку вагонов – вагоны дернулись.
– Забирайтесь в поезд, курильщики, а то не видать вам Берлина, так на вокзале и останетесь! – Боря дружески приобнял обоих за плечи, потом крепко пожал руку Вальтеру, обнял брата. – Удачи, Костя! Пусть у тебя все получится!
* * *
Вагон мягко покачивался, чуть слышался перестук железных колес, за окном мелькали московские пригороды, кое-где виделись вновь отстроенные дачи, большие двухэтажные деревянные дома, окруженные штакетником, огороды, перелески, болота, поля. Константин и Вальтер сидели в купе, друг перед другом, почти в одинаковых позах, откинувшись на плюшевые спинки диванчиков, положив ногу на ногу – и молчали. Начало дороги, долгого пути, когда в поезде предстояло провести две ночи и день, настраивало на молчание и тишину. Дорога вдвоем была тоже испытанием: ведь милую светскую беседу можно поддерживать ну час, ну два, но ведь не тридцать шесть часов подряд. И все же Константину Алексеевичу казалось, что и этого времени будет им мало – столь интересен ему был этот высокий подтянутый немец в неизменном элегантном сером фланелевом костюме и в черных штиблетах, одна из которых поблескивала сейчас лаком в бьющем через окно луче заходящего солнца. В Вальтере ему виделось достаточно редкое сочетание образованности, ума, интеллигентности и доброжелательности – то сочетание, которое притягивает к его счастливому обладателю других людей. Но главное состояло в другом: он обладал перед Константином Алексеевичем неоспоримым преимуществом, огромной форой, которую получил просто и легко, в первый же день, едва ли не час, знакомства: он был откровенен и легко говорил с ним о вещах, о которых нельзя было говорить! Признаться в том, что он разведчик, что офицер СД! Конечно, за этим стояло нечто непонятное пока, но можно было предположить, что тут кроется расчет Вальтера на откровенность двух профессионалов, которые устанавливают союз – подчас вопреки политической конъюнктуре, возможно, даже вопреки собственным правительствам. И это было, действительно, огромное превосходство: Константин Алексеевич не был готов к подобной взаимной откровенности. Да и с чего бы вдруг? Вся эта странная открытость могла бы оказаться или просто блефом самодовольной актерствующей личности, или же, если предположить, что Вальтер действительно был разведчиком, как раз-таки элементарным непрофессионализмом, замешанным на глупой браваде. Так или иначе, с подобными ситуациями сталкиваться пока не приходилось.
А вагон был действительно прекрасный: зеркало во всю дверь, два плюшевых дивана, бордовый бархат с цветочным рисунком на стенах купе, в цвет ему, но иного тона тяжелые шторы, схваченные книзу золотистыми кистями на витом шнурке, но главное – запах, особый запах нового и чистого, к которому примешивался едва уловимый оттенок запаха железной дороги – паровоза, вокзала, промасленных шпал, пара, – того самого, который всегда знаменовал начало пути в манящее, опасное, неизвестное. И вот это-то сочетание привычного внешнего комфорта, расслабленности, свободной позы, когда любое движение на низком нежащем диване кажется невозможны да и ненужным, уймы свободного времени, когда нет ничего обязательного на время пути, возможность предаться блаженной праздности и лености без зазрения совести, странным образом контрастировало с ощущением приближающейся с каждым километром опасности. В сущности, ничего сверхъестественного ему не предстояло в Берлине, это был лишь первый подход к странной фигуре не то гипнотизера, не то мистификатора, не то ловкого афериста, который и впрямь начинал влиять на нового рейхсканцлера. И все же ощущение опасности было – здесь, рядом, возникло в самом начале пути, из приятного и слегка щекочущего нервы превратилось в противную занозу, которая болела, и боль то отступала, то усиливалась. И где ждала эта опасность – в дороге? В Бресте, В Берлине?
Рука механически полезла в карман – вытащить папиросу – и наткнулась на Борин подарок. Эта неожиданность сломала механический жест и вернула к реальности – два человека, сидящие друг против друга в одном купе и сведенные там отнюдь не волей случая, принявшего вид железнодорожного кассира, но вполне осознанной собственной волей, не проронили за полчаса ни слова. Константин Алексеевич достал портсигар, в котором, конечно же, не осталось уже Герцеговины флор, но лежали другие, купленные перед отъездом, – Дерби, ароматные и достаточно крепкие, и протянул раскрытый портсигар Вальтеру.
– Благодарю, но я курю свой сорт, иначе кашель, беда, – ответил тот, и впервые Константин Алексеевич заметил германизм в его речи. Вальтер достал свой портсигар, казалось, точную копию Бориного.
– Подарок наркомата? – оживился Борис Алексеевич.
– Какого наркомата? Скорее уж, рейхсканцелярии. Боюсь, что в СССР такая символика пока невозможна, – и Вальтер, закрыв крышку, протянул портсигар Косте. И по размеру, и по материалу, и по весу, и по тому, как он ложился в руку, то была точная копия его собственного. Но на серебряной крышке был отчеканен совсем иной рисунок. В центре, как бы осеняя собой композицию, располагалась фашистская свастика, новый государственный символ Германии, а ниже, в противоположные стороны, устремляясь друг от друга, рвались мускулистые немецкие рысаки. Вся композиция производила впечатление удивительной силы, готовой смести любые преграды на пути мощно разгоняющихся скакунов. Не в состоянии отвести взгляда от портсигара, Константин Алексеевич протянул Вальтеру свой, и почувствовал, что тревога как-то неожиданно отступила, рассеялась, и даже свастика, не очень-то приятный символ, не мешала этому. Она была не то чтобы излишней в этой картине или неуместной – без нее композиция распалась бы, – но не она определяла ту динамику, тот витальный энергетический заряд, которыми обладала эта изящная вещица.
– Удивительно похожи! – сказал Вальтер, разглядывая Костин портсигар. – И символика сельскохозяйственная, и композиция, и идея! И даже вес! Вот только папиросы разные. Жаль, что не могу попробовать. Впрочем, рискну.
В его руках появилась бензиновая зажигалка. Они закурили и, когда купе наполнилось ароматным дымом, медленно поднимавшимся к круглой никелированной вытяжке на потолке, Константин Алексеевич подумал, что папироса обладает способностью рассеивать напряжение и завязывать разговор, почти так же, как и вино.
– А между тем в этой схожести мало удивительного, – произнес Вальтер. – В схожести эстетики и тематики, мелочь, казалось бы, проявляется схожесть национальных судеб. Вы никогда не задумывались, как схожи наши судьбы?
– Сейчас, мне кажется, не вполне схожи. Мы строим социализм, у вас – частный и государственный капитализм. У вас к власти пришли фашисты, простите, национал-социалисты, чтобы вас не обижать, у нас руководство принадлежит ВКП(б). Согласитесь, вполне разные социальные системы, политический режим, идеология.
– Я говорю несколько о другом… и вы мне отвечаете на другом языке, если хотите. На этот язык мне не хотелось бы переходить, мало того, я боюсь, что если мыслить на этом языке начнут наши правительства и наши народы, это не может кончиться хорошо. Он может быть пригоден лишь для пропаганды, да и то очень ограниченное время, чтобы уж совсем не заболтаться.
– Какой же язык вы предлагаете?
– А представьте себе, что мы с вами смотрим несколько шире, чем нам отпущено временем. Ну, скажем, имеем возможность заглянуть лет на пятьдесят вперед. Или на сто. Что там остается от вашей и нашей идеологии? От фашизма? От вашей ВКП(б)? От коммунизма? Ведь то, чем сейчас кипит красная Россия, то, что происходит в Германии, станет уделом кабинетных ученых. Они будут спорить, что было лучше: фашизм ли, коммунизм ли. А мне, честно говоря, и сейчас не очень это интересно. Я бы сказал, все равно. Идеология, режим, фашизм, коммунизм – это всего лишь одежды, которые обветшают, когда износятся – на тряпки пустят, а потом и выкинут за полной ненадобностью.
– А что же останется, позвольте спросить?
– Россия и Германия. Они-то и должны остаться. И останутся. А кто из них носит звездочку на кокарде, а кто повязку со свастикой на рукаве, большого значения не имеет. Это всего лишь обстоятельства, притом случайные во многом. Не более того.
– А я, честно говоря, думал, что как раз сейчас и творится история, и не кабинетная, а вполне реальная. Я более или менее себе представляю, каким будет коммунизм где-нибудь через полвека.
– Я не представляю про коммунизм ничего, хотя и не смею вас разубеждать. Но ответьте мне на такой вопрос. При коммунизме Россия сохранится как государство, а русские – как нация? Или нет? И сохранится ли Германия, будь в ней коммунизм или капитализм? Или же будет мировая революция, и как результат – сплошной интернационал? Как все это представлял себе ваш Троцкий? Насколько я могу судить, Сталин думает уже о национальном, об общенародном, а не о классово-интернациональном. Не заметили, как политика потихоньку поворачивается?
– Может быть, вы способны предвидеть не только неожиданный поход в гости – помните, как с вином давеча? – но и будущее наших стран? Лет эдак на сто?
– Вполне понимаю вашу иронию, сам бы с удовольствием поиронизировал. Но, увы, предвидеть не могу! Подобные случаи бывают у меня весьма редко, да и то только бытовые вещи затрагивают. Хотя сами по себе меня очень интересуют. Сама, так сказать, природа подобного. Пробовал даже тренироваться, ничего не получается, развить этого в себе, наверное, нельзя. Только иногда, очень редко, вдруг приходит некое знание – и все.
– Знать бы, откуда.
– И в самом деле! Как ты можешь знать, что будет через час, или сегодня вечером? Ведь этого еще, как бы сказать, не существует в природе: будущего же еще нет, оно только собирается стать… настоящим.
В дверь постучали, и на пороге купе появился второй проводник, средних лет мужчина в черной форменной куртке и железнодорожной фуражке. От него, как показалось Косте, пахнуло чем-то очень давним, дореволюционным, что сейчас почти не помнилось, но показалось уютным и ласковым – взгляд ли прищуренных глаз был такой, простая фраза ли сказана с особой дорожной интонацией:
– Чайку желаете? – на подносе стояло два стакана в стальных подстаканниках с темным, хорошо заваренным, густым сладким чаем, это было видно по цвету, по раскрывшейся, набухшей, ожившей чаинке, ставшей опять верхним лепесточком чайной веточки, принявшей и преобразившей в призме стекла оттенки купейного бархата. Но вид раскрывшегося лепесточка вновь вернул ощущение тревоги: способность видеть крохотные детали бытия приходило в минуты опасности, совершенно непонятной сейчас.
Чай стоял на столе, от мягкого покачивания вагона позванивали стаканы в подстаканниках, и этот равномерный звук опять поселил в купе молчание, впрочем, ненадолго:
– Однако, вы, Константин Алексеевич, нарушили свое правило – не курить до еды.
– Дорога настраивает и вносит другой ритм, время в дороге по-другому течет…
– Вот-вот, время, это вы очень точно заметили, – оживился Вальтер. Впрочем, как может течь то, чего нет?
– Чего нет? Времени нет?
– Конечно! Вы его можете пощупать, потрогать? Определить, наконец, что это такое? Может быть, это чистая умозрительность? Почему мы представляем себе будущее где-то впереди нас, а японцы думают, что оно позади? И кто из нас прав – мы или они? Впрочем, бог с ним, со временем – давайте хоть выпьем под хорошую папироску! – Костя невольно бросил взгляд на пиджак Вальтера, думая увидеть под полой бутылку вина. – Ну уж нет, на сей раз давай обойдемся без фокусов для дам. В этот раз ничего фантастического не будет происходить, я же прекрасно знал, что предстоит поезд, а в поезде я предпочитаю ехать с бутылочкой хорошего коньяка.
Вальтер достал из-под дивана желтый кожаный саквояж и в его руках появилась бутылка коньяка.
– «Ани», шесть лет выдержки. Мне кажется, один из лучших советских коньяков. Армянский! Давайте выпьем за нашу неожиданную встречу, которая, надеюсь, выльется в крепкую дружбу, и за то, чтобы наши цели оказались общими. Так их легче достигать.
Только сейчас Костя хватился сумки, которую передал ему Борис. Она, наверное, осталась на вокзале. Ну да: в зале ожидания доставали билеты, сумку поставил на мраморную скамейку, а чемодан около нее, на пол. Надо же, жалость какая! Старались же и мама, и сестренка, собирали для него… Растяпа! Ну да ладно, без закуски будем.
– Так что же со временем? – спросил Константин Алексеевич, согревая в пальцах железнодорожный стакан тонкого стекла и вдыхая терпкий коньячный аромат. – Если даже представить его, как вы предлагали это у Ани, в виде некого пространства, то что нам это дает? И если действительно два патриотически настроенных человека, как вы нас с вами давеча определили, попробуют по этому пространству прогуляться, то смогут ли они что-то изменить? Ведь если вашу гипотезу принять, то получается, что все уже и так есть, существует, предопределено, стало быть?
– Сами посудите. Мы спокойно передвигаемся по нашему земному пространству, скажем, по дачному участку, если он у нас есть, конечно же, и при этом легко его можем изменять: можем вскопать грядку, можем не вскопать, можем посадить розы и ухаживать за ними, а можем не посадить и забросить землю: тогда вырастет чертополох.
– Я бы предложил тогда тост за возделывание роз и за борьбу с чертополохом! – произнес Константин, держа стакан на уровне глаз и любуясь цветом коньяка. Тревожное состояние отступило – был ли коньяк причиной того, или сама невнятная причина тревоги куда-то отошла.
– Вот именно! Но я боюсь, что кое-кто и у нас, и у вас уже возделывает кое-какие грядки, культивируя чертополох, как это ни грустно. Поэтому я очень рад, что именно вы будете пытаться каким-то образом найти этого странного мистификатора, Ганусена, что ваши коллеги хотят на него повлиять, хотя и знаю, что это не просто, а может быть, и невозможно. Давайте выпьем за откровенность – как вам такой тост?
Да уж деваться некуда, куда уж откровеннее! Уж и имя назвал! Таиться, похоже, смысла нет. И Константин Алексеевич, как ни в чем не бывало – выучка дипломатическая сказывалась – поднял стакан, который в его сознании давно превратился в бокал, и ответил на тост Вальтера:
– По-моему, откровенность стала хорошей традицией с первой же нашей встречи!
– Нет, дорогой Константин Алексеевич, нет! Я прошу у вас взаимной откровенности! В самом деле, ничего от вас не утаивая, на то же хотел бы рассчитывать. Тут наши с вами интересы сходятся как нельзя ближе. Сами подумайте – ведь мы с вами почти зеркальное отражение друг друга, как наши портсигары немецкого и русского изводов. Мало того, что мы внешне с вами похожи – и ростом, и выправкой, так ведь и службой, да еще и на страны наши смотрим примерно с одинаковых позиций. Вы воспринимаете Германию примерно так, как я Россию. Я люблю русский язык, русских, Москву люблю, девушек русских, черт возьми! Насколько я понимаю, вы тоже не безразличны к Германии. А может, и к немецким девушкам, а?
– Прошу прощения, Вальтер, но откровенность – так до конца: русские девушки мне нравятся чуть больше, – подержал шутку Костя.
– Бог вам судья! Но если всерьез, то скажу вам, что Россия, конечно же, не стала моей второй родиной, хотя образование у меня русское, да и воспитание, пожалуй, тоже, но эта страна мне дорога так же, как и Германия. Именно поэтому такой страх внушают мне, как и многим моим друзьям, те росточки чертополоха, что замаячили на нашем общем горизонте.
– И что же видно?
– Не хочется говорить даже. Если пойдет так, как хотят некоторые партийные дураки, может быть беда. Не приведи Господи – война…
Уж что-что, а войну с Германией Константин Алексеевич представить себе не мог. Собственно, то, что война будет, и будет неизбежно, говорили часто, но не с Германией же! Зачем? Абсурд! Не лучше ли союзничать – сила-то какая сложится в Европе, другой такой не будет. Да и потом, неужели не хватило прошлой войны, чтобы понять, что нельзя нам друг с другом воевать! Бессмысленно, взаимный разгром, пиррова победа на собственном пепелище! Ну и потом: уж слишком мы похожи друг на друга, чтобы друг друга и мутузить: и нравом, и шутками, и жизнелюбием, даже пивом, да и тем, как жизнь складывалась последние десять лет.
– Я полагаю, что войны избежать нельзя, лет через семь-десять грянет обязательно, но с кем? Кто будет по разные стороны и с кем рядом? – ответил Костя.
– Важно, чтобы мы оставались рядом. Чтобы ваш генеральный секретарь и наш рейхсканцлер не намутили бы какой чепухи – под тряпьем идеологии социалистической или нашей, национал-социалистической, что еще хуже, но разницы принципиальной, впрочем, нет. Но от них не так много зависит, как кажется поначалу.
– А от кого же зависит?
– От стечения множества обстоятельств. У вас же идут чистки партии? Фракционная борьба внутри партии была? Была, пока Сталин не разорил своих противников. Троцкого – и то задавил! Бухарина разгромил! Сталин, конечно, сильнее всех, кто рядом с ним, но от расклада, какой и с кем у него возникнет, многое зависит. То же самое и у нас: все эти недоучки наши полуграмотные – Геббельс, Геринг, Гесс, Гиммлер, Кальтенбруннер тоже ведь расклад определяют.
– Это, я бы сказал, политический трюизм. Вождь, лидер, всегда опирается на соратников и прислушивается к ним.
– Да бросьте вы! Какая там, к чертовой матери, опора! Бешеная борьба озверелых псов! Вы же не на партсобрании и не в наркомате, честное слово!! Неужели страх в вас всех уже так въелся, что и поговорить по-человечески с вами нельзя?!
– Но я правда так не думаю! – искренне возразил Константин Алексеевич. Может быть, у вас это и так – по крайней мере, когда на площадях раскладывают костры и там жгут книги, притом свои же, немецкие, в этом видится, действительно, нечто псовое. Знаю только, что в двадцатые это было невозможно.
– В конце концов, не имеет никакого значения, как мы оцениваем наци или большевиков. Важно, куда они ведут. И до прихода Гитлера это было не так страшно, а вдвоем эти герои много дров могут наломать. Особенно если к одному из них представлен Ганусен – пустейший человек, этакий современный граф Калиостро, но обладающий несомненной волей внушать и подчинять. Все эти его астральные откровения о призвании немецкой расы двигаться на Восток, которыми он делится с рейхсканцлером, могут очень дорого всем нам стоить. Он, к сожалению, оказался орудием самых черных сил. Его воздействие на фюрера невероятно, несмотря на то, что он чистокровный еврей, его дед был старостой синагоги! – и знаете, почему? Ведь Гитлер болен, у него мании и самая настоящая паранойя. Такой-то человек и может оказаться в полной зависимости от этакого Калиостро. А ваш Сталин – он что, психически нормален? Вы о судьбе Бехтерева знаете?
Константин Алексеевич отрицательно покачал головой – он не знал ничего о Бехтереве. Зато он знал точно другое: этот разговор, буде он известен дома, мог стоить не карьеры, не работы, – свободы и жизни.
– Бехтерев – великий русский психиатр, был приглашен Сталина осматривать и поставил диагноз: паранойя! И в тот же вечер пошел в театр. А из театра домой пришел и помер. Потому что диагноз стал известен пациенту.
Костя почти умоляющее посмотрел на Вальтера.
– Вальтер, мне перестает нравится наш разговор. Я вовсе не считаю свое правительство, партию, ВКП(б) чем-то совершенно никчемным, как считаете вы. Стоит ли нам спорить по этому поводу, не лучше ли выпить еще коньяка?
– Ладно, умолкаю. Скажу только напоследок, что Ганусена искать – дело совершенно бессмысленное. Выступать он перестал, на публику его теперь не выпускают его новые антрепренеры из рейхстага, доступа к нему нету, рычагов воздействия – тем более. Но Ганусен – это оружие, притом очень опасное после выборов нынешних. А если оружие нельзя отобрать, значит, его нужно обезвредить.
– Как? Что же с этим Калиостро можно тогда сделать?
– Убить, – просто ответил Вальтер.
* * *
Поезд стоял в Бресте около трех часов – меняли вагонные оси. Эта неизбежная остановка, как бы мистически обозначавшая бытийную границу между Россией и Западом, незримую, но совершенно реальную и труднопреодолимую, была на руку пограничникам, неспешно проверяющим выездные документы, а для пассажиров означала некий этап пересечения пространства, порог между двумя мирами. Сормовский паровоз отцепился, бросил состав, выпустил много пара седыми усами на шпалы, как-то обиженно присвистнул и налегке укатил задом по параллельному пути, залихватски попыхивая самокруткой трубы и размахивая рехордами вокруг красных колес – из окна вагона он не казался уже таким невероятно огромным. Через три часа, когда состав будет поставлен на новые оси, в него толкнется другой паровоз, такой же черный, огромный, дымящий и одушевленный, только уже немецкий, и потащит до Берлина.