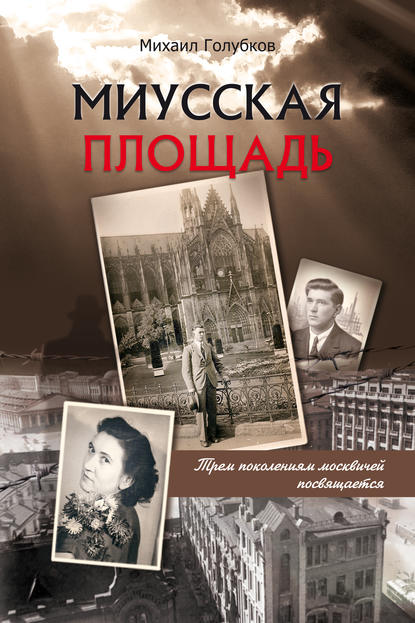000
ОтложитьЧитал
На подиум вышел небольшого роста средних лет весьма невзрачный человечек, в мешковатом черном костюме, в штиблетах, которые казались великоваты, ссутуленный, взволнованный. Во всей его маленькой фигурке чувствовалась какая-то обида и затравленность, как будто он ждал удара. Мессинг нервно и с недоверием смотрел на благополучных и довольных людей, сидящих в зале. Да и вообще, в его облике было нечто нервическое, как будто болевой порог у этого человека был слишком низок и боль могло доставить что угодно: резкий звук, яркий свет, слово, и он все время ждал очередного болезненного укола действительности. Он подошел к самому краю подиума, приложил пальцы правой руки к щеке, потом за ухо к голове, как будто там в кость было вмонтировано колесико радионастройки, и стал пристально вглядываться в людей, сидящих за столиками, как будто искал или знакомого, или очень важного для него человека, которого он не знает, но старается угадать среди сидящих. Во всем этом не было ничего наигранного – ни в нервичности, ни в ожидании боли, ни в поиске кого-то. Константину Алексеевичу стало жаль его. Именно в этот момент их глаза встретились, показалось, что артист даже кивнул – и успокоился. Движения стали менее суетливы, рука опустилась вниз, как будто голова уже была настроена на нужную радиостанцию. Мессинг поклонился в разные стороны и как-то успокоено ушел за кулисы.
– Первый психологический опыт будет самым простым, господа! – воскликнул импресарио. – Вы видите этот цилиндр? Я пройду по залу и, прошу прощения, ограблю вас, мои дамы и господа! Я попрошу самых красивых женщин (а сегодня – он внимательно оглядел зал – красивы все!) снять свои драгоценности и положить в цилиндр! И мужчин: вы сдадите кольца, перстни, золотые и серебряные портсигары – я не уйду из зала, пока цилиндр не будет полон золота. А потом… А потом будет самое невероятное и фантастическое! Вольф Мессинг выйдет на сцену и раздаст драгоценности, при этом каждый получит именно свою вещь!
Зал загудел – с волнением, но одобрительно. Импресарио пошел между столиками, подходя то к одной даме, то к другой, прося снять колье или кольцо. Если кто-то отказывался, импресарио прикладывал руку к груди и с поклоном извинялся, шествовал к следующей жертве. Все это заняло довольно много времени, цилиндр был велик и наполнялся не так быстро. Наконец он поравнялся со столиком, где сидели друзья, взял со стола портсигар Константина Алексеевича – тот уже успел закурить – и, спросив взглядом разрешения, положил его в цилиндр – Косте оставалось лишь улыбнуться и не то разведя руки, не то вздымая их к небу, показать таким жестом полную покорность судьбе. Наконец импресарио вернулся на эстраду:
– Итак, господа, первый сегодня психологический опыт. Артист сделает то, что сейчас никто кроме него не может сделать – даже я не вспомню, чьи вещи я взял, и, конечно, вернуть все хозяевам не смогу. А Мессинг сможет! Ваши аплодисменты, мои дамы и господа! – и он театрально воздел вверх руки, взывая к магу и чародею, который не замедлил появиться из-за кулисы. Ярко вспыхнули люстры.
Мессинг взял в руку цилиндр – и чуть не уронил его, поддержав второй. Спустился в зал, поставил цилиндр на столик – и пришел в еще более нервическое состояние, чем был в первый раз: рука вновь оказалась прижата к голове и ерошила черные волосы за ухом, другую он то подносил к подбородку, то ко лбу, то нервно сжимал обе руки до хруста пальцев. Потом он вдруг запустил руку в цилиндр и достал едва ли не с самого дна красивейшее колье с тремя бриллиантами, сверкавшими в переливах яркого света. Он поднял это колье, посмотрел в зал с испугом затравленного зверя и вдруг рванулся к самому дальнему столику, остановился не добежав, резко изменил направление и оказался у соседнего столика, за которым сидела дама с солидным господином в синем в полоску костюме, по виду промышленником или банкиром.
– Это ваше… – произнес Мессинг на плохом немецком, и было не очень понятно, это вопрос, утверждение или просто мольба принять колье. Господин, сидящий рядом, ударил несколько раз в ладоши, обозначив аплодисменты, потом взял из рук Мессинга колье, встал, обошел столик и надел его на обнаженную шею своей спутницы. Зал аплодировал.
Так продолжалось около четверти часа. Мессинг метался между столиками, мчался к одному, затем резко менял направления раз, и два, и три, иногда повторял негромко: «Не мешайте мне! Не мешайте! Зачем вы мне мешаете?» и наконец подходил к восхищенному человеку, принимавшему из его рук свое украшение. При этом на сами вещи он практически не смотрел, казалось, даже не отличал, что было у него в руках – брошь, колье, женское колечко или мужской перстень, – было ясно, что ему важно не видеть вещь, а осязать. Но весь этот опыт давался огромным трудом: глаза были безумны, густые черные волосы слиплись и потускнели, с лица капал пот. После того, как он вернул золотые часы на цепочке немецкому офицеру в черной форме, в руке артиста оказался Костин портсигар. Пальцы нервно забарабанили по крышке, он ринулся в одну сторону, в другую, а потом подскочил к их столу и на секунду остановился в нерешительности, рука дернулась к Косте, потом замерла, рванулась к Вальтеру, чтобы отдать ему портсигар, потом опять к Косте, вновь замерла в воздухе… Это длилось мгновение – Мессинг обернулся всем корпусом к Вальтеру и сказал: «Это ваша вещь! Это ваша вещь! Зачем вы мне мешаете? Я же вижу – ваша! Возьмите!». Невероятное напряжение, исходившее от артиста, передалось Константину Алексеевичу, и он почувствовал, Вальтеру. Взглянув на друга, он поразился: лицо его было совершенно белым, глаза широко открылись, губы подрагивали, но в чертах помимо страха отражалась еще и железная воля, как будто бы ему предстояло принять из рук гипнотизера не изящную вещицу, а знак судьбы. Борьба длилась секунду, и все же воля победила. Глаза опустились вниз, на лицо вернулось обычное выражение любезности и дружелюбия. Вальтер с легким поклоном головы принял портсигар.
– Ошибся! Чуть-чуть ошибся! – шепотом сказал Костя. – Столик определил, а хозяина – нет. Но портить представление не будем, верно?
– Не знаю. Может, и не ошибся… – сказал Вальтер. Он встряхнул головой, как будто сбрасывал какое-то оцепенение, и уже весело произнес: – А знаете, Константин Алексеевич, мой так мой! Давайте-ка в знак нашей дружбы обменяемся: ваш будет у меня, коли артист так распорядился, а мой – у вас? Все же не случайно мы с вами встретились, а? Дружить – так дружить, и табачок не будет врозь, так? – и он достал из брючного кармана свой портсигар, со свастикой и рысаками. – Угощаю напоследок из своего!
Номер кончился, Мессинг, усталый и раздавленный, скрылся за кулисой. Заиграли музыканты, зал наполнился шумом голосов, люди что-то громко обсуждали, разглядывали свои вещи, радостное возбуждение владело залом. Выпив вина, Константин Алексеевич с удовольствием открыл портсигар Вальтера, закурил. Удивление тем, насколько Вальтер потрясен ошибкой Мессинга, стало уходить, да и Вальтер, казалось, напрочь забыл об этом. Вновь на подиуме появился импресарио.
– Господа! Следующий номер Вольфа Мессинга будет еще более интересен и невероятен! Сейчас на подиум выйдет любой из вас – любой! И напишет на этом листе бумаги, или на любом другом, свое приказание великому артисту. Этого никто не будет знать – только бумага! И я не буду знать, поскольку спущусь к вам в зал, а человек будет писать за столиком на подиуме – сейчас его установят, – поэтому никто не сможет прочитать приказанное нашему другу. И он не сможет, потому что бумагу я положу тотчас же себе в карман. А мы ее прочитаем только потом уже, когда Вольф Мессинг это приказание выполнит на наших глазах.
На подиум поднялась приглашенная им дама в бордовом вечернем платье с меховой накидкой на узких изящных плечиках. Жеманно присев на стул, она задумалась на минуту и что-то написала на листе, потом еще и еще. Импресарио принял из ее рук бумагу, не читая сложил, поворачиваясь лицом в разные стороны зала, и театрально утрируя жесты, опустил во внутренний карман пиджака и трижды ударил в ладони:
– Просим, маэстро!
Когда Мессинг выходил из зала, думалось, что он больше не сможет работать, что все силы исчерпаны. Но каждый раз, когда он вновь появлялся на подиуме, было понятно, что эти десять минут как раз и нужны были для полного восстановления. Он вбежал на эстраду, и в быстрых суетливых движениях опять виделась растерянность, но уже совсем иная, чем при первом появлении. Зал принял его, контакт был обретен, ушло ощущение того, что артист борется с желанием ссутулиться и вжать голову в плечи. Он встал у края подиума, как будто не знал, что делать дальше, и готовность сделать множество самых разнонаправленных движений сказывалась и в позе, и в фигуре: он впитывал в себя зал, пытаясь определить, кто будет его индуктором. Наконец он выделил даму, написавшую ему задание, и заметно успокоился. Он бросился с подиума в зал, подбежал к столику, попросил у сидящего наручные часы с дорогим браслетом из змеиной кожи, метнулся через зал к другому столику и положил часы там. Эти метания и движения показались Константину Алексеевичу даже и утомительными: ничего принципиально нового по сравнению с раздачей драгоценностей не происходило.
– Неужели такой талант, я бы даже сказал, дар, тратится на всякие пустяки, на развлечение публики? Ведь это игра в фанты, в сущности. Сам-то он, интересно, понимает, что такое на самом деле его искусство? Какие возможности открываются перед теми, на кого он будет работать? Если будет…
– Не знаю, – Вальтер пожал плечами. – Просто, я думаю, у нас профессиональный взгляд на эти возможности. Поэтому, заметьте, нам с вами интереснее, чем кому-либо еще. Ну а потом… для него эти концерты – деньги, притом неплохие.
– Надо бы, чтобы он работал на нас, – про себя, как бы размышляя вслух, пробормотал Костя.
– Вот именно! На нас с вами! – поднимал Вальтер стакан вина на уровень глаз, предлагая Константину присоединиться. Делая ответный жест с бокалом вина, Костя. размышлял о том, что Вальтер судя по всему, очень хороший разведчик, что он ведет свою и весьма самостоятельную игру, и отнюдь не против СССР, и что он, Костя, нужен ему в этой игре не как средство, орудие, волшебный предмет, талисман, но именно как друг и союзник. И объяснение этому было довольно простым: в Вальтере ему виделся человек, желавший помешать тому же, чему и он хотел бы помешать – новой чудовищной исторической распре России и Германии; способствовать тому же, чему и он хотел: союзу СССР и Германии.
А Мессинг все метался по залу, и уследить за его перемещениями было практически невозможно. В какой-то момент, пробегая мимо, он бросил перед Константином Алексеевичем сафьяновую визитницу – вероятно, задание дамы в бордовом платье включало в себя и этот пункт. Рука механически взяла крохотную складную папочку, куда джентльмены укладывают полученные во время светских раутов визитные карточки, но в этот момент заиграл туш. Импресарио поднялся на подиум, достал из внутреннего кармана исписанный дамой листок, разогнул его и начал читать. Обнаружилось, что артист исполнил абсолютно точно все, что было записано на листке. При чтении все новых и новых пунктов, досконально исполненных, люди начинали хлопать в ладоши, подвыпивший офицер вскочил и закричал «Браво!». Это произвело невероятное общее возбуждение. Зал неистовствовал, почти все вскочили со своих мест. И видно было, что этот восторг придает Мессингу силы, он буквально черпал их из ликования зрителей: плечи распрямлялись, он становился как будто даже выше ростом.
Всеобщее ликование переросло на какое-то время в обычную ресторанную ситуацию, между столиками вновь засновали официанты с подносами. Люди, улыбаясь, вставали разыскивать свои вещи, их новые владельцы раскланивались с прежним хозяевам, возвращая часы, запонки, драгоценности; артист, в первый раз поклонившись, убежал с подиума за кулисы. Константин Алексеевич рассеяно взял сафьяновую визитницу и оглядывал зал: он не заметил, чья это была вещь; хозяин тоже не подходил. Пока он в растерянности крутил визитницу в руках, из нее выпал ровный листок бумаги, действительно похожий на карточку. Костя механически взял его, чтобы положить обратно, и увидел, что это не карточка, там не было ни имени, ни адреса с телефоном. На ней было выведено по-русски печатными неумелыми буквами (видно, писавший почти не знал кириллицы, скорее, пытаелся правильно копировать незнакомые буквы): «ВАС ХОТЯТ УБИТЬ! УЕЗЖАЙТЕ! У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ!»
– Почитайте, Вальтер! Оказывается, я удивительно популярен в Берлине: зайдешь случайно на концерт, а тебя уж знают, записочки несут! – сказал он, протягивая Вальтеру листочек и пытаясь за шуткой скрыть от самого себя гнетущее ощущение пустоты, какое, наверное, бывает, когда осознаешь провал. – Не наша ли брестская цыганка со своими предсказаниями вновь о себе напоминает? Опять тремя днями пугает. Или какая-нибудь новая, берлинская, на нашем горизонте объявилась?
Если задуматься, записка эта была штукой очень даже неприятной. Конечно, никакие цыганские пророчества за ней не просматривались. Означала она, в сущности, только одно: слежку. Что вся идея с поставками сельхозмашин провалилась и, строго говоря, о ней можно было забыть, что Костя, не успев приехать, остался без своего внешнеторгового прикрытия. Так что, смех-то смехом… На сцене вновь появился импресарио.
– А теперь, мои дамы и господа, кульминация нашего сегодняшнего представления: Вольф Мессинг и сеанс каталепсии!
На подиуме появился Мессинг, но это был уже совсем другой человек – ни нервозности, ни вслушивания каким-то десятым чувством в зал, он даже шел медленно, как будто с трудом, и был выше ростом и шире, сильнее. Он встал посредине подиума – оркестр заиграл какую-то мелкую дробь, – напрягся, вытянулся, задрожал от напряжения, как если бы на руках и плечах у него лежала невыносимая тяжесть… и вдруг одеревенел, стал неживым телом, превратился в деревянную куклу, в искусно выполненный манекен. Какое-то время он простоял не двигаясь, и вдруг на прямых ногах стал заваливаться навзничь, именно как кукла, в членах которой не было ни одного шарнира. Зал замер в ожидании грохота, который произведет падение манекена, только что бывшего человеком, несколько женщин ахнули, – и прямое тело действительно свалилось бы навзничь, если бы не два дюжих служителя в черных костюмах с атласными лацканами, выросших чуть ли не из земли, которые подхватили падающее тело и аккуратно положили его на пол – было очевидно, что оно совершенно одеревеневшее, жизнь изошла из него. Служители подняли на подиум два стула, поставили их напротив друг друга. Оркестр продолжал дробно играть. Под эту музыку служители с большим трудом подняли тело и положили его пятками на кончик одного стула, затылком – на другой стул – тело не прогнулось, оно не могло быть живым!
– Дамы и господа, это и есть каталепсия! – воскликнул ведущий. – Наш друг сейчас без сознания, и его тело не слушается его, но оно абсолютно утратило гибкость, оно невероятно твердое, тверже бетона и стали! И мы сейчас покажем и докажем это!
Он оглядел зал и пригласил на подиум самого крупного и полного господина в темно-синим полосатом костюме. Тот, не с первой попытки, преодолел высоту ступени.
– Сейчас мы попросим нашего гостя присесть посредине… прямо на живот Вольфу Мессингу!
Приглашенный хотел было отказаться и даже сделал попытку покинуть подиум, но умоляющие жесты импресарио удержали его. Он с опаской посмотрел на неподвижное тело, потом вновь на ведущего и уступил, пытаясь как можно легче сесть на указанное место. Поняв, что под ним нечто близкое по твердости к бетонному монолиту, он расположился уже посвободнее – видно, что неожиданный эксперимент увлек и его самого – потом даже поджал ноги… Тело не пошевелилось. Господин, сидя на нем уже в полный вес, потрясенно развел руками и остался на месте. Но на сей раз импресарио уже его поторапливал, мягко выпроваживая с подиума и поддерживая при этом под талию.
– Кто еще, мои дамы и господа?
Еще несколько человек, правда, менее тучных, решили последовать примеру первого, а номер закончился тем, что двое служителей сами уселись на неподвижно висящее между двумя стульями тело.
– А теперь – самый трудный момент номера: выход из состояния каталепсии! Мы попросим поднять нашего друга и привести его, так сказать, в вертикальное положение. Прошу вас! – служители тут же убрали стулья, недвижимое мертвое тело было поднято и поставлено на негнущиеся деревянные ноги. – Маэстро, музыка! Сейчас я постараюсь вернуть нашего друга к жизни, к нам, сюда, в этот мир! Это очень трудно! Если вы увидите судороги, припадки как при эпилепсии, не беспокойтесь – это жизнь возвращается в тело! – Повернувшись спиной к публике и глядя прямо в лицо Мессинга, импресарио трижды хлопнул в ладоши, каждый хлопок сопровождая счетом: «Раз! Два! Три!» – и отошел.
Какое-то время тело, поддерживаемое сзади служителями, не двигалось, потом резко дернулось, стремясь еще более выпрямиться, потом его стали сотрясать судороги, конвульсивные движения как бы расслабляли члены, возвращая им подвижность, но стоять Мессинг еще не мог. Глаза открылись, но он явно не понимал, где он и перед кем. Судорога вновь прошлась по всему телу, повторилось движение как бы распрямляющее и без того вытянутое в струнку тело, и артист встал на непослушные ноги, еще более вытягиваясь. Вдруг лицо исказила страшная гримаса, судорога повторялась вновь и вновь, он оттолкнул смотрителей, пытавшихся его удержать, и стоя на неверных ногах, вытянув руки и чуть разведя их в стороны, сжав кулаки до костного хруста, вдруг попытался что-то сказать. Судорога лица отступила, оно было измучено нечеловеческим напряжением, которое не хотело уходить, глаза смотрели в одну точку и не видели ни зала, ни гостей. Казалось, что безумный взгляд устремлен куда-то за пределы зала, а может быть, и времени… Вдруг Мессинг замер – ноги расставлены, руки со сжатыми кулаками опущены вниз и чуть-чуть разведены, голова закинута – и из горла донесся уже не хрип, не стон, а внятные громкие слова, почти переходящие в крик, как будто кричал не он сам, а кто-то, живший в нем, помимо его воли, которой он сейчас не имел:
– Русские танки будут в Берлине! – и замер, обводя зал невидящими глазами.
Музыка стихла, за столиками воцарилась полная тишина. Мессинг мелко-мелко задрожал, потом судорога вновь прокатилась по телу, голова запрокинулась, вены на горле вздулись и из горла опять вырвался хриплый крик:
– Гитлер сломает шею на Востоке! Русские танки будут в Берлине! В Берлине! – и свалился, с грохотом рухнул без сознания на деревянные доски подиума.
Зал зашумел, многие повскакивали с мест. Во всеобщей суматохе Константин Алексеевич почему-то выделил неуклюжую длинную фигуру офицера в черной форме с двумя блестящими зигзагами в петличках, который беспомощно озирался, поправляя нарукавную повязку со свастикой. Двое служителей наконец пришли в себя и унесли безвольно обвисшее в их руках тело за кулису.
Костя, потрясенный увиденным, еще раз вспомнил цыганку в Бресте, предрекшую то же самое. Неужели действительно можно узнать то, что будет через десять или двадцать лет? И неужели есть люди, наделенные этим страшным даром – знать наперед и предупреждать? И чем же платят они за этот дар? И ведь как дорого платят!
* * *
– С Ганусеном дела совсем плохи. Я, как вы понимаете, успел уже кое-с кем поговорить из своих друзей… В общем, он одержим идеей движения на Восток. Внушает Гитлеру, что это главная идея немцев, мистический смысл национального бытия, осуществить который призвано нынешнее поколение. В этом, дескать, и состоит не только историческая миссия Германии, но и ее онтологическая сущность. Миссия фашизма – в ее осуществлении, а жертвы не важны. В общем, что есть силы подводит оккультную базу под идею восточной войны. Сам, естественно, остается в тени. Так что вот такой он, наш Ганусен-Лаутензак. Мистицизм, чертовщина. Оказывается, его устами говорят даже души умерших. Во всяком случае, все эти фокусы очень по нраву рейхсканцелярии. Все-таки, конечно, малограмотность – большой порок.
– И Мессинг такой же, не знаете?
– Похоже, нет. И вот здесь-то нам с вами и можно построить кое-какую игру. Продумать пока не успел, но суть ее в том, что и у Гитлера, и у Сталина должно быть по своему Ганусену, который будет убеждать, что историческая миссия Германии – дружить с Россией, а России, то есть, простите, СССР, дружить с Германией. Тут нам с вами нужно будет хорошенько подумать, а?
– Сталин, по-моему, вовсю готов дружить.
– Так-то оно, может, и так, да только военная разведка не всегда с этим согласна. Есть кое-какие факты, и прямые, и косвенные… В общем, военная машина СССР готовится к молниеносному прыжку на Запад – не сразу, конечно же, и не единственный это стратегический план, а так, один из многих… А на Западе-то как раз Германия. Не Польшу же станет Сталин воевать, а?
Они шли шурша листьями и наслаждаясь прохладой и уютом грустноватого сентябрьского вечера по тенистому берлинскому бульвару, который потихоньку вывел их на Бергманштрассе, на углу Цоссенерштрассе прошли мимо крытого рыночка, уже опустевшего в поздний час. Константин Алексеевич поймал себя на странной мысли: он сформулировал то, что неясно ощущал все последние дни – какую-то непостижимую, не от него зависящую внутреннюю связь своей судьбы с Вальтером. Он ощущал доверие к нему, мало того, понимал, что нет у него в Германии ни среди немцев, ни среди своих, русских, в посольстве или торгпредстве, человека столь же близкого. Ему казалось, что в Вальтере он встретил… себя самого, только не в русском, а в немецком варианте, как если бы он попал в зазеркалье, и зазеркальем таким была Германия.
Они остановились, присели на парковую скамейку, Вальтер отложил свою аристократическую щегольскую трость с тяжелым набалдашником в виде львиной головы. Косте не очень хотелось говорить, и молчание не угнетало, так могут молчать друг с другом близкие друзья. А Германия, подумалось, действительно становилась то ли кривым зеркалом России, то ли ее увеличительным стеклом. Берлин гротескно отражал Москву. Дома мы привыкли к гимнастеркам, к военной форме, к петличкам, к командирским ромбикам – здесь же это все отражалось и возводилось в степень красотой, броскостью, яркостью немецкой формы – черная кожа портупеи, высоких сапог, перчаток, на рукавах черная свастика на красном фоне круга, символизирующего солнце. Сходство судьбы, общность судьбы.
Странное дело, но Константин Алексеевич поверил Мессингу. Представить себе, что этот человек выполнял чей-то заказ, было невозможно. Побывав на его концерте, каждый понял бы, что он вообще вне каких-либо политических игр, они его в принципе не могли интересовать. Да и видел Костя слишком хорошо чудовищные физические муки, который переживал этот человек во время того странного представления, развлекая публику диковинным своим даром. И самым страшным был, конечно, последний номер – эта его каталепсия. Наверное, за эти муки и давался дар провидения, когда настоящее время, эта скорлупка, которая не позволяет нам видеть ничего, иначе как здесь и теперь, крошится перед ним, и само время предстает… ну как местность, на которой ты различаешь дороги, или как карта, на которой вместо населенных пунктов обозначаются будущие события, нанесены меты жизни целых государств и просто людей. Да, не договорятся нынешние правители, и ни он, Костя, ни Вальтер, ничего не смогут противопоставить этому бесноватому уроду с черными усиками, орущему на площадях в скрытые трибуной микрофоны. Русские танки будут в Берлине… Наверное, будут, Костя почти физически ощущал правоту внезапного предсказания Мессинга, истинность провидческого экстаза, в котором он был, выкрикивая независимо от собственной воли это вовсе уж неуместное в Германии, примеряющей военную форму, пророчество. Но сколько этим танкам до Берлина катиться? И сколько из них по дороге сгорит? И въедут они в Берлин, или вплывут на красных потоках русской и немецкой крови?
– Вальтер, вы поверили вчера Мессингу? Я имею в виду, конечно же, две его заключительные реплики? – нарушил молчание Костя.
– Нет, – коротко и резко ответил Вальтер. Помолчав, добавил: – Я не хочу и не могу в это верить, – и в его голосе слышалась какая-то обреченность. – Во всяком случае, я буду всеми силами этому противодействовать.
– А возможно ли? Помните, вы сами рассуждали при первой нашей встрече, что время – это пространство. Если так, то все уже есть, все распланировано, и изменить нельзя? Что если Мессинг видит время как пространство, и поэтому обладает даром предсказания?
– А не можем ли мы на этом пространстве выбирать разные пути? По крайней мере, я постараюсь это… проверить.
– Как? Мне тоже очень бы хотелось… проверить, как вы выражаетесь.
– Как, говорите? Я уверен, что и Третий Рейх, и СССР несут в себе некие мистические тайны, определяющие исторические миссии наших народов. Их вожди – тоже мистики, или же подвержены в высшей степени мистическому влиянию. Сейчас это влияние, оказываемое, по крайней мере, на Гитлера, насколько мы знаем, резко негативное. Следовательно, мы его нейтрализуем. Вы, наверное, догадываетесь, что у меня есть для этого кое-какие возможности? Скажу по секрету, все уже спланировано, так что наш с вами Ганусен-Лаутензак обречен. Вопрос нескольких дней.
– Я думал, вы в поезде шутили давеча. Убивать-то зачем? Убрать, отодвинуть… Да и вообще, может он тут ни при чем. Ведь все это, некоторым образом, умозрительность, наши с вами соображения, не больше…
– Но и не меньше. Да и согласитесь, Константин Алексеевич, что жизнь этого шарлатана в историческом контексте – совершенно незаметная, я бы даже сказал, ничтожная частность, которую мы с вами вряд ли можем учитывать, – и Вальтер улыбнулся так мило и мягко, как будто говорил о вчерашней газете, объясняя недотепе, почему он хочет ее выбросить, а не отвезти в публичную библиотеку, чтобы сдать в архив для подшивки.
– Если наш герой действительно обладает телепатическими возможностями, то ему не составит труда раскрыть ваш план и противодействовать ему. Насколько я понимаю, у него достаточно высокие покровители в рейхсканцелярии.
– Волков бояться – в лес не ходить! – расхохотался Вальтер. – Давайте уж решим, что это – мои дела. А ваши пусть будут связаны с Мессингом. Нельзя нам его упустить во всей этой мистической чертовщине.
– Тем более, что кто-то его пасет, и меня заодно. Помните записочку давешнюю, с предупреждением? Думаю, записочка эта к тому, что интерес к мистикам, телепатам, гипнотизерам и прочая и прочая не только мы с вами испытываем.
– Я бы сказал даже больше: вчера думал, что есть очевидная рациональная связь между нелепым брестским предсказанием и запиской. Уж больно все сходится у цыганки и вашего неизвестного корреспондента. Но позвольте предположить… вдруг сия связь существует не на уровне агентурной игры, что нам проще понять, а на другом, мистически предопределенном? Что если действительно звезды через три дня как-нибудь не так сойдутся? Может быть, вам действительно стоит откланяться? Право, не сочтите меня мракобесом, но несколько жутковато становится… Да и в самом деле, может быть, вам интереснее было бы побыть пока дома? Вы не находите странным, что Мессинг пока не при дворе – ни при советском, ни при немецком. Так что берите его под белы руки да везите к себе на Восток, в Москву, да прямо к Сталину. После вчерашнего, думаю, его хорошо примут. Газеты сегодня смотрели? Все желтая пресса только и пишет о русских танках в Берлине. Официальная-то, конечно, нет. Но гастроли прервали, знаете?
Они не сговариваясь встали со скамейки и вновь пошли по бульвару – один похлопывая по ноге мягкими кожаными перчатками, другой слегка поигрывая тростью.
– Вальтер, а вы тогда… В первый день нашего знакомства, во время обеда на Палихе… помните? Потом вернулись к Анне?
– Нет, конечно. Она же нравится вам. Вот вы и вернетесь как-нибудь, вечерком, к ночи поближе, – улыбнулся Вальтер. – Привет передайте, пожалуйста.
* * *
Константин Алексеевич прекрасно понимал, что его миссия, его интерес к Ганусену, а отнюдь не к немецким поставкам тяжелого машиностроения, не остались незамеченными заинтересованными лицами в соответствующих германских службах. Были тому свидетельства, косвенные и прямые, кроме записочки были. Даже при том, что никаких путей к Ганусену в рейхсканцелярию он не искал, целиком доверившись Вальтеру, казалось, что там его ждут – и ждут весьма недоброжелательно. Интерес к скромной фигуре Константина Алексеевича был самый что ни на есть вызывающий. То к нему, идущему по тротуару, подъезжал вытянутый акулообразный черный «Хорьх» с гестаповскими номерами и бесцеремонно ехал рядом, то по пути с сельскохозяйственной выставки за ним увязывались двое невзрачных ступачей в дешевых драповых пальто с поднятыми как у русских урок воротниками и шли на расстоянии пяти-десяти метров. В сущности, это не беспокоило, но напрочь лишало возможности заниматься подлинным делом. Действительно мог представлять интерес для Кости именно Мессинг, но в сложившихся условиях искать к нему хоть какие-то пути было просто невозможно. Да и помимо всего прочего, ходили слухи, что он срочно выехал из Германии после единственного своего выступления. В общем, надо было собираться, может быть, в Варшаву, чтобы пытаться как-то понять, что за личность этот Мессинг. Более неудачной командировки трудно было припомнить. Завершив за два дня все формальности по немецким поставкам, Константин Алексеевич заказал на завтра билет в Москву в посольской кассе и позвонил Вальтеру – попрощаться. И все же решили еще разок свидеться и посидеть напоследок – просто выпить немного пива. Договорились вечером встретиться напротив здания городского суда. Ресторанчик назывался смешно – «У последней инстанции», что намекало на окончательность судебных решений, которые принимались в здании напротив, и обратившиеся к юстиции могли здесь их либо отпраздновать, либо залить горе шнапсом.
Вечер получился грустный, пиво не веселило, и даже классическая берлинская печенка с луком и яблоками и гороховым пюре на гарнир была не в радость. Вальтер одобрял отъезд, понимал его причины, но думал, казалось, о чем-то своем. Наконец заговорил о том, что действительно волновало обоих: