Редактор Татьяна Королёва
Издатель П. Подкосов
Продюсер Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Ассистент редакции М. Короченская
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Корректоры Ю. Сысоева, Е. Чудинова
Компьютерная верстка А. Фоминов
Фото на обложке Ева Абатова
© Манойло Е., 2023
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *

Рекомендуем книги по теме
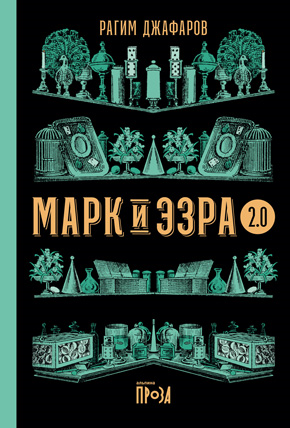
Рагим Джафаров

Ислам Ханипаев

Александр Иличевский

Королева Лир: Чудесные истории
Людмила Петрушевская
Посвящается Кате
1
Угрюмая трехэтажка, в которой родился и умер Маратик, напоминала похоронную контору. В предрассветные часы ее фасад был почти черным. Только с первыми лучами солнца дом вновь приобретал свой темно-багровый цвет – цвет потемневшего от времени кирпича.
Перед подъездами были разбиты клумбы, похожие на похоронные венки, с неподвижными восковыми цветами. К общему впечатлению добавлялось хмурое выражение окон, в которые, казалось, редко заглядывало солнце.
Раз в месяц перед одним из двух подъездов собирались жители поселка, чтобы проводить в последний путь своего друга, родственника или соседа. Мужчины, как правило, стояли поодаль, женщины молчаливо теснились вокруг высокого подъездного крыльца и с опаской и благоговением смотрели на окна квартиры, где накануне умер человек.
Купить или унаследовать квартиру в этом доме считалось редкой удачей. На фоне кривых потрескавшихся хибар трехэтажка смотрелась так солидно, что даже самые суеверные старухи закрывали глаза на то, с какой частотой из дома выносили ковры с покойниками.
Маратика, на удивление мусульманам, вынесли в гробу. Ящик размером с колыбель, обшитый красными рюшами, поставили головой в сторону запада. Засыпанный чернильными, розовыми и белыми астрами гробик напоминал цветничок – такие обычно разбивают у Вечного огня или у стелы на въезде в город. От асфальта, который длинной пыльной заплатой тянулся перед трехэтажкой, шел жар, как от печи.
Мужчины в тюбетейках морщились и жались от палящего солнца ближе к подъезду. В пятнистой желтой тени карагачей стояли женщины во главе с матерью Маратика, тридцатилетней Наиной. В длинном черном платье из тонкого сукна она казалась очень высокой. Ее бледное лицо светилось отрешенной скорбью. Из-под темного платка, завязанного слабым узлом, выбивались светлые волосы, похожие на стекловату.
На мать трехлетнего покойника зыркали черными глазами три суйекши. Все низкорослые, с горбиками жира, прокопченными лицами и странно бледными руками. Их в дом привела сестра мужа Аманбеке для последнего омовения. Сказала, что, если Наина не позволит соблюсти традиции, Маратику станет скучно и он придет за сестричкой.
Наина протянула самой молодой суйекше узел с одежкой Маратика, частично неношеной, и неожиданно завыла пересохшим ртом. Мужчины переглянулись, но продолжили читать молитву. Замер только Серикбай, отец Маратика. Он покосился на лицо жены в надежде увидеть слезы. Но покрасневшие глаза Наины оставались сухими. Ее горе выдавала только рука, что поднимала троеперстие ко лбу и бессильно падала, не совершив крестного знамения.
Серикбай все время плакал. Слезы его сливались с каплями пота на блестящих на солнце щеках и растворялись в черной бороде, оставляя едва заметный соляной налет. Тело била дрожь, и с мокрыми морщинами и трясущимися руками он казался этим утром немощным и старым, несмотря на неполные сорок лет.
Когда имам закончил читать молитву, Серикбай прошаркал к гробу и замер, пытаясь совладать с непослушными руками. На помощь пришел его напарник, тоже дальнобойщик. Плечистый и высокий, он взял гроб под мышку, будто коробку с куклой, и двинулся к катафалку. Серикбай благодарно кивнул и молча пошел рядом.
На кладбище по обычаю ездят только мужчины, но в поселке никто не удивился, когда Наина сказала, что должна проводить сына. Под руку с ней из тени на солнцепек вышла Аманбеке. Сухощавая, с живым блеском в темных глазках и птичьей верткой головой, она казалась самой энергичной в этом дворе. Уже залезая в катафалк, она быстро оглянулась, нашла глазами племянницу и подмигнула ей.
Катя не сводила глаз с матери и тетки, поэтому тут же поймала взгляд Аманбеке и нелепо вздрогнула. На нее впервые обратили внимание с тех пор, как Маратик умер. Она вытерла влажные ладони о теплый бархатный халат, который еще с утра в полутемной комнате точно был черным, а теперь на солнце переливался зеленым и фиолетовым, и снова приставила руку ко лбу козырьком, прячась от солнца.
Кате хотелось выпрыгнуть из жаркого платья и в одних трусиках побежать к речке. Или залезть на карагач и оттуда наблюдать за всеми: как страдает отец, как шаркает к катафалку мать, как перешептываются старики. Но больше всего Катя хотела услышать необыкновенный голос Маратика.
Родители так и не дождались, когда их сын заговорит нормально. То, что Маратик не говорил, а пел, расстраивало их так сильно, что они не замечали красоты его голоса и как безошибочно он пропевал взрослые слова, словно ему было не три года, а лет десять. Только Катя, услышав однажды по радио Робертино Лоретти, ахнула от мистического сходства ангельских голосов.
Когда катафалк скрылся из вида, женщины заторопились в квартиру, чтобы готовить поминальный обед. Катя сделала вид, что тоже идет, но, когда убедилась, что никто на нее не смотрит, бросилась к реке. В обычное время дорога занимала пять минут, она знала точно, потому что не раз бегала сюда на спор с мальчишками. Сейчас Кате казалось, что она передвигает ноги очень медленно. Из-за чужих заборов лаяли собаки. Они бросались на доски, гремели цепями, и Катя боялась, что они вот-вот схватят ее за пятки. Вязкая пыль, словно во сне, поднималась от дороги и мешала бежать.
Взрослые запрещали нырять в реку с подвесного моста. Сверху река выглядела не глубже ржавого бака для полива, что стоял на огороде у Аманбеке. Водовороты, которые каждый год забирали жизни нескольких человек, лениво закручивались в широкие плоские воронки.
Под развесистой ивой, слепящей на солнце серебром, Катя освободилась от платья и вошла в воду. Теплая, цвета куриного бульона, река не освежала Катю, а будто медленно варила. Она немного побарахталась и вышла на глинистый берег. Только сейчас, оставшись одна, девочка могла думать о том, как умер Маратик. Выжав косички, похожие на джутовые веревки, и улегшись на расстеленном халате, Катя подставила веснушчатое лицо солнцу. Под алыми веками поплыли радужные пятна, и Катя стала вспоминать вчерашнее утро.
Маратик хныкал, размазывая кулачком сопли по смуглому лицу. Из-за этого его мокрый нос задирался и шевелился, словно резиновый. Ему хотелось пробраться в родительскую спальню и узнать, не привез ли отец подарок из рейса, но Катя по-хозяйски, словно щенка, брала его в охапку и закрывала рот ладошкой каждый раз, когда он уже делал глубокий вдох, чтобы запеть. В зале она расстелила любимую корпе – лоскутное одеяло – напротив телевизора и похлопала рукой по узору рядом с собой.
– Идем сюда, Маратик!
– Иде-е-ем сю-ю-юда-а-а! – пропел Маратик и вытащил откуда-то из-за спины окарину, собираясь засвистеть.
С деревянной игрушкой Маратик не расставался уже полгода. Отец привез окарину из долгого рейса в надежде, что игра на музыкальном инструменте заменит пение и сын заговорит, но этого не произошло.
– Ты что! – вскрикнула Катя и, отобрав игрушку, рассмеялась в ладошку.
Маратик тоже улыбнулся, обнажив ряд детских полукруглых зубов.
Катя улеглась на корпе и пальцем с обгрызенным ногтем стала поглаживать цветные квадраты ткани.
– Смотри, Маратик, это табарик. Этот кусочек нам дали, когда умер атака, ты помнишь атаку?
Маратик качнул головой и улыбнулся.
Катя вскочила на ноги, заправила майку в шорты и, схватившись за поясницу, заковыляла по комнате, изображая деда.
– Видишь этот кнут? – Катя сдвинула брови и стянула с дивана пояс от материнского халата.
Мальчик не понял.
– Ну, представь, что тут кнут! – Катя замахнулась поясом, словно погоняла скот.
– Кну-у-ут!
– Да, кнут. Вот муж, ой нет, жена тебя будет им бить! Потому что нельзя быть таким непослуш-шным! – Катя грозно прошипела последнюю фразу и с грохотом упала на содранные колени. – А этот кусок папа принес с дня рождения того противного Кайрата или как там его, синий – с похорон ажеки, красный – с похорон этого. Кхе-кхе-кхе. – Катя понарошку закашлялась и изобразила удушье.
За самодеятельным театром Кати наблюдала с надтреснутой доски в темном окладе сутулая Богородица с мешками под глазами, как у школьной учительницы рисования. Катя ловила ее суровый взгляд и нарочито противно хихикала.
– Какой же ты весь сладенький, Маратик. Так бы и съела тебя, мой баурсачек! – Катя стянула корпе, накрылась ею с головой и изобразила призрак. – Я – одеяло смерти, я съем тебя!
– Я сме-е-е-е-ерть, – затянул Маратик громче обычного.
– Ой нет, нет! – Катя зажала Маратику рот. – Все, тихо, сейчас будут мультики.
Катя быстро глянула на Богородицу, что висела над телевизором, и, словно получив разрешение, включила старый тяжеленный «Рекорд». Телевизор громко затрещал. Чтобы черно-белая картинка была более или менее четкой, приходилось настраивать комнатную антенну. Телевизор шипел и сопротивлялся, пока один ус антенны не упирался в рот младенца на иконе, словно Иисус давал интервью.
Наконец на экране появился мультяшный дятел и залился истеричным смехом. Катя потянулась к переключателю громкости, но вспомнила, что его открутил Маратик, когда играл с ним накануне. Из телевизора торчал только железный штырек, который не поддавался Катиным пальцам.
– Маратик, а где…
Катя не успела ни задать вопрос, ни остановить брата. Он крепко держал окарину в пухлых ручках и изо всех сил дул. Смех дятла и свист Маратика наполнили комнату, Катя метнулась к двери в надежде удержать звуки в зале, но на пороге уже стоял сонный отец. Взгляд его был невидящий, а движения – резкие и беспорядочные.
– Что вы мне спать не даете? Катя, ты почему не смотришь за Маратиком?
Серикбай уже замахнулся для подзатыльника, но Катя ловко увернулась и отпрыгнула на другой конец комнаты.
– Псмиля! – буркнул отец.
Пошатываясь, он поплелся к телевизору. Его крупная фигура рядом с маленьким Маратиком, сидящим на полу, выглядела зловеще гигантской. Он зашарил в поисках выключателя громкости. Исподлобья глянул на Маратика. Тот улыбнулся отцу, но свистеть не перестал. Мультяшный хохот и свист Маратика смешались в сонном сознании Серикбая. Он забормотал казахские проклятия, полез за тумбу, убрал «микрофон» от лица Иисуса и потянулся к розетке, чтобы вырубить телевизор от сети. Тумба накренилась.
Свист прекратился внезапно.
Шипящий и хохочущий «Рекорд» падал на Маратика, как в замедленной съемке. Кате казалось, что отец успеет поймать телевизор, но он, словно пьяный, пошатнулся и беспомощно упал на колени. Катя услышала треск окарины и чего-то еще. Из-под упавшего телевизора торчала ручка Маратика. Катя завизжала от страха и бросилась к братику.
– Тихо! – Отец схватил дочь за плечо и с силой потряс. – Давай помогай мне.
Отец и дочь впервые что-то делали вместе. Они осторожно приподняли телевизор, и Катя увидела треснувшую окарину на красном мокром лице Маратика.
– Папочка!
– Тсс!
Из маленького уха на бархатный квадрат ткани корпе медленно выползала кровь, густая и как будто тоже бархатная. В телевизоре, теперь уже стоявшем на полу, все еще бесновался дятел. Серикбай вытащил осколки окарины изо рта сына и приложил большую свою кудрявую голову к его груди.
– Может, это сон все еще, – пробормотал Серикбай и заплакал как ребенок.
Катя взяла краешек корпе и квадратом ткани с похорон деда вытерла лицо Маратика. Ей вспомнились слова Аманбеке, что раздавать лоскуты на похоронах очень хорошая традиция, особенно когда умер кто-то старый. Как будто с его тканью гостям передается и секрет долголетия. Катя не знала ни одной молитвы, но бормотала незнакомым голосом все, что приходило в голову.
– Жиси на небеси, улбосын бисмил-ляхь!
На третий раз она заметила, как дрогнули ресницы на маленьком лице, и, поймав страшный взгляд отца, побежала к матери.
Мать замешивала тесто и сама как будто замешивалась, плавно двигая плечами. В кастрюле на плите что-то успокаивающе булькало.
– Мам, там Маратик…
Наина обернулась на дочь и по ее запачканным кровью рукам поняла, что случилось что-то страшное и необратимое.
На седьмой день после смерти Маратика в квартире Абатовых собралось меньше людей, чем ожидалось. Жители поселка разделились на два лагеря. Одни пришли на поминки Маратика, другие хоронили старого пастуха Аманкула.
На кухне женщины, готовившие поминальный дастархан, ловко рассыпали по кисайкам изюм, курагу, финики и между делом пересказывали историю, как маленький покойник являлся к старику последние несколько дней и не давал спать, все пел. Перед смертью Аманкул дергал себя за жиденькую седую бородку и жаловался снохам, что какую бы фразу ни сказал вслух, Маратик перепевал ее и ветром разносил по полю. Он все оглядывался, искал шутников, махал кнутом, но в ответ на проклятия получал только новые песни. Это продолжалось несколько дней, старик чесал уставшие глаза, вытирал тюбетейкой мокрое лицо и разговаривал с ветром. Дома ему не верили и валили все на шайтана и водку, которую Аманкул пил после заката солнца.
Мертвый сынок обрастал легендами. Серикбай слышал, о чем говорят за его спиной, и бессильно сжимал кулаки. Уходил из комнаты, из квартиры, из поселка. Только когда он впивался кулаками в руль, ему становилось легче.
Следующие, кто услышал песни Маратика, были сестры Ибраевы четырнадцати и шестнадцати лет. Они несли стирать ковер на речку и обсуждали, как вывести с ворса предательские следы крови – доказательство любви младшей сестры Мадины к старшекласснику Дагиру.
Старшая из сестер Махаббат в трикотажном купальнике с выцветшими маками полезла в воду.
– Мадин, а ты порошок взяла? – крикнула она, расплетая длинную черную косу.
– Да! И мыло хозяйственное, – ответила Мадина.
– Если родители узнают, они тебя убьют. И меня заодно.
– Тихо! Еще не хватало, чтобы нас услышали!
Разложив ковер на виду и поминутно на него оглядываясь, Мадина пошла к воде. Мелкая волна намочила ее ступни, смыв пыль с загорелых пальцев. Вдруг голыми лопатками она ощутила чье-то присутствие, резко обернулась, но за спиной никого не было. Быстро окинула взглядом старый карагач с тарзанкой, под которым обычно собиралась малышня, подвесной мост и большой камень, на котором Мадина разложила свой сарафан с мокрыми подмышками. Никого.
– А кто тебя просил раздвигать ноги перед Дагиром! – Махаббат не дождалась ответа сестры, сделала глубокий вдох и с головой ушла под воду.
– Муха, хватит! Ты надоела! – прокричала Мадина и устремилась к сестре.
У Махаббат была своя игра. Она любила резко погружаться на глубину и чувствовать, как тяжелеет расплетенная коса и распластывается медузой в воде. Внезапно кто-то схватил ее за волосы и сначала потянул вверх, а затем стал мотать из стороны в сторону, словно полоская. Открыв в воде глаза, она увидела мутный бледный живот сестры в пузырьках воздуха и ударила в него со всей силы. Вынырнула и, отплевываясь, часто задышала. В ушах, закупоренных водой, приглушенно зазвучал незнакомый мальчишеский голос.
– Никто не просил Мадину раздвигать ноги перед Дагиром, а она раздвинула. Раз-дви-и-ину-ла!
– Кто здесь? – Махаббат щурилась на гладь реки, словно звук раздавался оттуда.
– Так это не ты повторяешь? – вынырнув, растерянно спросила Мадина.
– Делать мне больше нечего, ага!
– Никто не просил Мадину раздвигать ноги перед Дагиром, а она раздвинула. Раз-дви-и-и-ну-ла-а-а! – на этот раз прозвучало откуда-то из-за дерева.
Мадина ужаснулась. Лицо ее было бледным, и посиневший рот сделался будто чужой. Махаббат уже плыла к берегу. Головы сестер с прилипшими черными волосами, торчащие из воды, издалека были похожи на обгорелые головки спичек.
Выбравшись из воды, сестры Ибраевы прямо на мокрые купальники натянули одежду и, забыв про запятнанный ковер, потянулись за голосом вдоль берега. Мадина шла впереди, ускоряя шаг, когда песня звучала с новой силой. Она не обращала внимание на укусы крапивы и на запах полыни, на которую у нее была аллергия. Махаббат быстро, но аккуратно шла по следам сестры, добивая резиновой подошвой сланцев колючки и сорняки. На железнодорожном переезде голос вдруг затих, и сестры присели на пропитанные креозотом шпалы отдышаться.
– Мух, как думаешь, Дагир женится на мне? – спросила Мадина, щурясь от блеска рельса за спиной сестры.
– Теперь уже и не знаю, Ма.
– Ты понимаешь, что меня ждет, если кто-нибудь разболтает, что мы с ним… ну, это самое.
– Да. Выйдешь за противного старикана-вдовца и будешь раздвигать ноги перед ним.
– Пойде-о-о-ошь за-а-амуж за вдовца, раздвинешь ноги перед ровесником отца-а-а! – затянул голосок с новой силой.
– Муха, блин! – Мадина протянула руку к сестре, словно собираясь ее задушить.
– Подожди! – Махаббат резко обернулась.
– Да ты издеваешься!
– Тсс! – Махаббат прислушалась и поняла, что голос доносится уже со стороны поселка. – Я поняла, кто это.
– Кто? Если это гад Мауленбердинов, я… – Мадина подобрала тонкую палку и ткнула ей в сухую коровью лепешку. – Он у меня говно жрать будет!
– Не Мауленбердинов! Хуже. Это тот недоразвитый Маратик, которого похоронили недавно.
До дома девочки шли молча. На автобусной остановке встретили соседку, которой носили парное молоко по утрам. По ее отстраненному взгляду из-под нависших папиросных век сестры поняли, что дело плохо. Таким взглядом вместо приветствия их обдавал каждый прохожий, казалось, весь поселок уже слышал песню Маратика.
– А где ковер? – спросила мать, когда девочки показались на пороге летней кухни.
– Что тебе ковер, если дочерей не уберегли? – крикнул отец злым ртом и с размаха хлестнул ремнем по спине младшей.
Мадина взвизгнула и свернулась калачом на домотканом половике. Махаббат, боясь попасть под горячую руку отца, схватила таз с грязной посудой и выбежала с ним на улицу. Следом вышла мать, и вдвоем они принялись чистить подгоревшее дно большого казана землей. Под плач Мадины они по очереди наклонялись к посудине, негнущимися руками соскребали гарь и, выпрямляясь, косились в окно кухни. Со стороны это напоминало замедленный механизм на старых часах, когда медведи по очереди стучат молотком на тик-так.
Когда Ибраев-старший устало вышел из летней кухни, по поселку уже зазвучали другие песенки Маратика. За один вечер люди узнали, что Истемир украл себе жену, но та его к себе не подпускает. Аскар умирал от рака, и его жена Айман начала готовиться к похоронам. Нурик зарезал чужую корову. Редькины пропили свою убогую насыпную избушку, а когда новые хозяева снесли ее, чтобы построить коттедж, в строительном мусоре рабочие нашли человеческие кости.
Люди секретами больше не делились. Стали бояться сплетничать. Они шли с вопросами к имаму, почему Маратик не дает им жизни. Старец прислушивался или делал вид, что прислушивается, опустив взгляд в священную книгу, затем поднимал коричневые, словно накрашенные тенями, веки на посетителей мечети. Напрасно люди всматривались в его белки цвета молока, в которое капнули кофе, на все вопросы имам отвечал молитвой. Пронзительный голос его вырывался из тонких фиолетовых губ и вибрировал под сводами мечети, пока не превращался в монотонное «м-м-м». Маратик подхватывал эту дрожащую медь и разносил по поселку. Тогда люди шли с вопросами к Абатовым.
Хуже всего приходилось тем, кто натыкался на Наину. В отличие от мужа, она не расспрашивала о голосе Маратика, а долго и зло смотрела в упор на гостя, шепотом обещая тому дорогу в ад.
– Молиться надо, молиться! Это не мой сын, это Сатана вас испытывает, – восклицала Наина напоследок и захлопывала дверь.
В такие моменты Катя злилась на мать. Чем больше времени та проводила перед мрачными иконами, тем сильнее Катя их ненавидела. Материнское и как будто с облегчением сказанное «На все воля Божья» Катя теперь считала заговором против Маратика. Она косилась на лики святых, которых в комнате становилось все больше, и боялась, что однажды они сплетут заговор и против нее.
Повзрослев, Катя часто думала, как ей не повезло, что она родилась в своей семье первой. Девочка-первенец воспринимается как неудача и в лучшем случае как нянька для будущего мальчика.
И действительно, втайне от мужа, который мечтал о наследнике, Наина просила у Богородицы девочку, приговаривая: «Сначала няньку, а потом ляльку». Серикбай был уверен, что родственники, так и не простившие ему русскую жену, смягчатся после рождения сына. Он часами представлял, как будет брать сына с собой в поездки, научит его седлать коня, забивать овец, да и просто разбираться в людях. С такими мыслями он бежал к роддому в день рождения Кати.
Наина показалась в окне не сразу. Серикбай беспокойно нарезал круги по исписанной мелом и красками площадке. До него вдруг дошло, что он тоже мог написать Наине благодарность на асфальте. Он улыбнулся своим мыслям и решил, что сделает это к выписке. Или даже вечером. После того, как Аманбеке накроет дастархан с его любимыми блюдами и они с родственниками и друзьями отметят рождение сына. Он уже представлял, как с напарником пройдет в рабочий гараж, найдет там кисть и краску поярче, когда за стеклом показалось счастливое крупное лицо Наины.
– Смотри, какая красавица! – крикнула Наина в форточку и развернула младенца лицом к мужу.
Сквозь слезы в глазах, которые должны были литься от счастья, сквозь двойное стекло палаты Серикбай разглядел сморщенное личико, похожее на запеченное яблоко. Он не мог посмотреть жене в глаза и цеплялся взглядом то за пряди ее белесых волос, которые выбились из пучка, то за штамп роддома на сорочке жены, то за байковое одеяло с новорожденной. Наина улыбалась свертку и не обращала внимания на понурого мужа. А он переминался с ноги на ногу, часто моргал и тяжело вздыхал.
– Что тебе принести? – крикнул и замер. – Я бы сейчас собрал, да делами занялся.
– Да тут все есть. Нам с Катюшей хватает пока что, – то ли мужу, то ли дочери проговорила Наина.
Серикбай не расслышал ни слова, но понял, что жена ни в чем не нуждается. Махнул Наине и быстро пошаркал прочь, словно пытаясь стереть подошвой чужое жирное и красное «Спасибо за сына» на асфальте.
Дома Серикбая ждали родственники, но он не торопился туда и тянул время. Постоял на воротах на школьном футбольном поле, пока мальчишка-вратарь бегал по нужде в кусты. На спор с пацанами попрыгал на половинках автомобильных шин, торчащих из земли. Сделал круг, чтобы не идти через двор с прилавками, который местные называли базарчиком. Там он встретил бы знакомых, и перед каждым пришлось бы держать ответ, кто у него родился. А женщины тянули бы его в магазин и советовали, чем обрадовать Наину. Серикбай и так планировал купить жене хороший подарок за сына, а вот потратить заначку на побрякушку за дочь у него не поднималась рука.
На заднем дворе дома, на земле у запертого на амбарный замок бомбоубежища, Серикбай заметил что-то красное, похожее на заветренный кусок мяса. Он пригляделся и понял, что это яшма. Серикбай сунул камень в карман и пошел домой.
Дверь ему открыла счастливая Аманбеке в праздничной, расшитой бисером и металлическими бусами жилетке поверх красного платья. Ее выщипанные и густо накрашенные брови быстро изогнулись вопросительными знаками и тут же встали на место. Аманбеке поднесла пальцы в перстнях к губам, словно пытаясь удержать слова во рту.
– Дочь, – тихо сказал Серикбай.
– Значит, будет Улбосын. – Аманбеке вздернула подбородок, и тяжелые серебряные полумесяцы в ушах качнулись.
Имя Улбосын в поселке давали дочерям в семьях, где ждали наследника. Имя означало «Да будет сын», и каждый день и час оно звучало как молитва. Все Улбосын, не имея прямого родства, походили друг на друга сутулостью, мягкостью форм и всегда виноватым взглядом. Серикбай согласился с сестрой.
Подобранный камень Серикбай отдал местному ювелиру в его лавку, где красную яшму отполировали и оправили в серебро. Кассирша со знанием дела предложила купить бархатный подарочный мешочек, в котором Серикбай и подарил кольцо жене.
- Мифогенная любовь каст
- Дневник неудачника, или Секретная тетрадь
- Картахена
- Сато
- Типа я
- 1984
- История его слуги
- Смерть современных героев
- Молодой негодяй
- Процесс
- Исландия
- У нас была Великая Эпоха
- Подросток Савенко, или Автопортрет бандита в отрочестве
- Чёрное пальто. Страшные случаи
- Время вышло. Современная русская антиутопия
- Радин
- Ночная смена
- Книга воды
- Королева Лир. Чудесные истории
- Марк и Эзра 2.0
- Нашествие
- Холодные глаза
- Отец смотрит на запад
- Страх
- Его последние дни
- Большая Суета
- Ветер уносит мертвые листья




