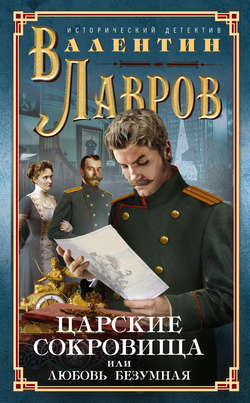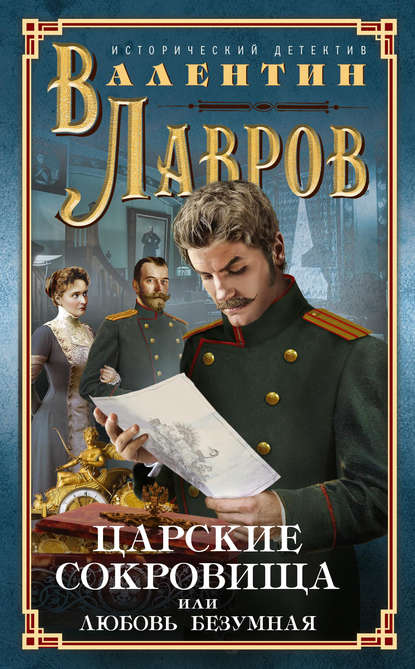© В.В. Лавров, 2019
© «Центрполиграф», 2019
* * *
Боже, как тяжело за бедную Россию!
Николай II, пятница, 20 октября 1917 года, Тобольск
От автора
В основу этой книги положены подлинные исторические события, случившиеся летом – зимой трагического для России 1917 года.
Благодарю за добрую помощь в предоставлении важных, прежде не публиковавшихся материалов научного руководителя Государственного архива Российской Федерации, доктора исторических наук, профессора Сергея Владимировича Мироненко, а также сотрудников архива Н.И. Абдулаеву, Л.И. Кулагину и О.Н. Копылову.
Часть первая. Сумасшедший мир

Погребальный марш
Июнь 1917 года. Гений сыска, атлет-красавец граф Соколов, узнав о гибели на океанском пароходе сына, отца и жены Мари, погрузился в страшную меланхолию. Почти месяц он заливал горе в портовых кабаках, где не вспоминали о сухом законе, который в годы войны ввели в России. Наконец, однажды утром он поднялся с постели с твердым решением: все, пора действовать – спасать государя. Теперь после многих опасных приключений он стремился в Петроград. Он не жаждал покоя и уединения. Он хотел одного: проникнуть к заточенному в Царском Селе государю Николаю Александровичу. И не ведал наш герой, что неугомонная судьба уже уготовила ему очередное, пожалуй, самое суровое испытание…
* * *
Все рухнуло.
Могучая, громадная Российская империя с хорошо отлаженным, сложнейшим государственным механизмом нежданно рассыпалась. Не стало порядка, не стало закона, исчезли городовые, размножились грабители и насильники, былое изобилие сменилось всеобщим голодом и разрухой.
Россию теперь не боялись враги и не уважали друзья. Ее мог унизить всякий, ибо у государства отсутствовал стержень, который дает силу и прочность сложной государственной конструкции, – у нее не было дисциплинированной армии и не было крепкого правительства. Но еще страшнее было то, что народ не был объединен единой и манящей целью – победить в войне.
Зато был великий раздор. Смута кровавым вихрем гуляла по некогда великой России. Император Николай Александрович под истеричным напором русской интеллигенции и глумливой толпы отрекся от престола.
Все рухнуло.
Власть захватили горлопаны-аферисты, скромно назвавшие свое правительство Временным. Это правительство оказалось совершенно непригодным для управления громадной страной, которая к тому же находилась в состоянии тяжелейшей войны.
Фронт разваливался на глазах. Солдатня, за три года устав от окопной жизни, соскучившись по родному крову и бабьему телу, с интересом слушала хитрых людишек с вороватыми глазами – агитаторов. Эти типы неведомым образом, словно вши окопные, пролезали повсюду, заводились не только в тылу, но и на передовой. Они терлись среди людей, внезапно выскакивали вперед, начинали торопливо, словно пулемет, строчить наяривающим голоском, привычно сыпать словами:
– Товарищи, от кого наши беды? От мировой буржуазии и ее эксплуатации. У буржуев промеж себя уговор – жизнь нашу угнетать. И войну они на вред простым людям начали, дескать, перебейте друг дружку! Товарищи, бросайте оружие и расходитесь по домам. Срочно! Партия большевиков и лично друг солдат и трудящихся товарищ Ленин призывают: «Всю помещичью землю – крестьянам, заводы и фабрики – рабочим». И барахло эксплуататоров – все ваше, товарищи! Не сомневайтесь, метите подчистую. Потому как они награбили, а вы – заслужили.
Выпуливая опасные слова, агитатор все время, как ворона на плетне, вертит головой и, острым черным глазом заметив офицера, тут же соскакивает на землю, норовит смешаться с толпой.
Мели, Емеля, Германия через своих посредников-большевиков за все платит!
Работенка у агитаторов была опасная, порой давно не стриженную голову вместе с пенсне теряли. Но, изощрившись в хитростях, попадались не все, а интерес денежный агитаторы имели хороший. Впрочем, лживые речи падали на подходящую почву. Всходы были зловещими.
Каждая война начинается под звуки патриотических песен, а кончается погребальным маршем.
* * *
Все рухнуло.
Наслушавшись смутьянов, начитавшись листовок германской печати, солдаты промеж себя рассуждали: «Воевали-то мы за царя, веру и Отечество, а теперь ничего этого нету. Царя свергли, а про Бога ученые объяснили, что его для свечной торговли попы выдумали. Воевали за Отечество. А где оно? Разве Керенский – Отечество? Тьфу, видимость одна. Так чего в окопах вшу кормить? Может, и впрямь хватит терпеть эту, как ее, эксплуатацию? Айда по домам! Умные люди не попусту пишут: давно пора воткнуть штык в брюхо мировой буржуазии. Будя, попили нашей рабоче-крестьянской кровушки. Теперь мы станем ихнюю, буржуазную, кровь пить да ихнее добро по домам растащим, баб ихних пощупаем, – может, и впрямь слаще наших, крестьянских? Землю помещичью промеж себя поделим. Сами помещиками заживем, разлюли малина! Только спешить надо. Народец нынче наглый пошел, не успеем глазом моргнуть, как без нас все схапают, растащат по избам, вот и поспеем к морковкину заговенью!»
Началось брожение миллионов, с дьявольской гениальностью продуманное в германском Генштабе и поддержанное российскими революционными клоповниками. Разнузданной и алчной оравой солдаты устремились к своим деревням, разбросанным по бескрайним просторам несчастной России. Бежали не с пустыми руками – заплечные мешки набивали до отказа: патронами, гранатами, бабьим платьем, сдирали с окоченелых мертвецов гимнастерки и сапоги, – все в доме сгодится.
Эшелоны облепляли, как саранча, набивались в вагоны – не вздохнуть, не выдохнуть. По нужде не пробраться до тамбура, ибо и в тамбуре стояком стояли, и на крышах лежали, и на подножках и на буферах сидели, откуда, на мгновение забывшись сном, летели на рельсы, превращались в кровавое месиво.
На войну шли, выплясывая под гармонь, высвистывая и горланя непристойные частушки и разухабистые песни. Теперь разбегались тишком и с позором.
Шел страшный 1917 год.
Правительственная телеграмма
Бывший московский губернатор, бывший товарищ министра внутренних дел России, генерал свиты его императорского величества генерал-лейтенант Джунковский в мае семнадцатого года воевал на Западном фронте, служил командиром Пятнадцатой Сибирской дивизии.
Этот человек был редкой породы и крепкого замеса. Превыше всего он ставил честь русского офицера, а смысл жизни давало служение Отечеству, престолу, Православной церкви.
Неустрашимость в бою, забота о солдатах, неприхотливость в быту – все это для Джунковского не являлось какими-то особыми достоинствами, для генерала это было столь же естественным, как и дыхание.
Джунковского солдаты обожали. К каждому рядовому, пусть самому некудышному, он относился как к близкому человеку, многих знал по имени, интересовался их семьями. Порой укорял:
– Ты, Васька, когда письмо матери писал?
Рядовой ел глазами начальника и с отчаянным восторгом кричал:
– Виноват, господин генерал! Все нет время…
Джунковский укоризненно качал головой:
– Чтобы сегодня же написал, понял? Соображать, глупая башка, надо – мать заждалась… А кормили вас нынче как?
– Спасибо, ваше превосходительство, нечего Бога гневить – хорошо поели: щи с мясом, каша с маслом!
Генерал шел дальше, а солдаты шумели:
– Вот это командир! Да мы за такого головы не пожалеем!..
Действительно, дивизия Джунковского была самой надежной и боеспособной на Западном фронте.
Утром 29 мая Джунковский сидел на стуле около штаба и точил шашку. Шашка была великолепной златоустинской работы, с тонкой золотой отделкой. Еще в 1913 году, когда он прощался с губернаторством, московские купцы поднесли ему шашку в подарок.
И ходил командир дивизии в конную атаку, словно был не седым генералом, а молоденьким офицериком, рубал в отчаянном бою врага, и смотрели на него подчиненные с искренним восхищением.
Из штаба выскочил телеграфист. Это был узколицый белобрысый парень из лифляндцев. В руках у него была лента. Он вытянулся перед Джунковским:
– Господин генерал, вам срочная телеграмма.
– Читай! – кратко приказал Джунковский.
Телеграфист повесил меж пальцев ленту, с расстановкой и заметным акцентом прочитал:
– «Начальник штаба Девятого армейского корпуса Геруа извещает начдива пятнадцатой Сибирской стрелковой дивизии генлейта Джунковского: необходимо теперь же выехать в Петроград для допроса в Чрезвычайную следственную комиссию Временного правительства по делам Министерства внутренних дел. Известить о времени отъезда и сообщить, кому сдано командование дивизией».
Джунковский принял ленту, прочитал ее раз, другой и был весьма удручен содержанием. Однако стал собираться в дорогу.
* * *
Офицеры подняли граненые стаканы, пожелали Джунковскому скорейшего возвращения, хотя все по чему-то были уверены: любимого командира арестуют и больше они не увидят его.
– Чего нюни распустили? – Джунковский обвел боевых товарищей взглядом. – Я даже все свои вещи оставляю, знаю, что вернусь.
Произнеся последнюю фразу, Джунковский осекся, поймав себя на мысли, что, вопреки правилу всегда говорить правду, на сей раз лукавит: в возвращение верилось не очень. Махнул рукой:
– Ну, вернусь не вернусь, в любом случае держите в дивизии дисциплину железную! Паршивых агитаторов преследуйте без жалости. Кормежка солдат – особый разговор, хоть сами от голода валитесь, а солдат всегда сытым должен быть. И еще – относительно приказов, которые приходят от членов Временного правительства и военно-морского министра Керенского. – Вздохнул, откашлялся, подыскивая правильные слова. – Приказы следует выполнять неукоснительно – об этом нет нужды говорить, сами знаете. Но… – обвел офицеров хит рым взглядом, подмигнул, – выполняйте, господа офицеры, приказы из Петрограда с разумением, дабы от ваших действий не последовало вреда для дела, а была бы только польза. Поняли?
– Так точно, господин генерал, поняли! – поддержали офицеры. – С приказами Временного правительства только в нужник ходить…
Джунковский строго пресек:
– Лишнего не говорить! Приказы начальства не обсуждают, а выполняют… с разумением. – Взглянул на карманные часы – как бы на поезд не опоздать. – Ну, друзья, уезжаю, а сердце оставляю с вами. Пьем прощальную, на посошок! Как у нас, преображенцев, говорили: за всех больных и в жопу раненных!
Офицеры рассмеялись, на душе от незатейливой шутки чуть легче стало.
…Вскоре генерал Джунковский садился в поезд, направлявшийся в революционный Петроград.
В Минске его поджидала еще одна дурная весть: Верховного главнокомандующего толкового Алексеева заменили Брусиловым.
Ехавшие с Джунковским в вагоне молодые офицеры спросили:
– Почему это назначение так вас огорчило?
Джунковский отвечал с армейской прямотой:
– Слава Брусилова дутая. По натуре своей он лакей и среди офицеров уважением не пользуется.
И действительно, вскоре стало известно: прикатив в новом качестве в Могилев, Брусилов сразу принял заискивающий тон по отношению к местным Советам, держал себя униженно. Дошло до того, что, когда на вокзале его встретила почетная стража, сделавшая ружья «на караул», Брусилов обошел весь строй, здороваясь с каждым солдатом за руку. Все были поражены такой неуместной странностью.
Знакомые ливреи
Утром 31 мая Джунковский прибыл в Северную столицу. Странно и жутко было подъезжать к граду Петра – впервые после переворота.
Решил: «Прямиком с вокзала, не заезжая домой, отправлюсь на допрос. Поскорее сделаю дела, быстрее в армию вернусь! А если арестуют, то вещички, что в чемодане, в Крестах пригодятся». Крикнул лихача.
Здоровый, в синем армяке малый с наглым и по-цыгански красивым лицом подкатил на рессорной коляске, колеса на дутиках – для мягкости езды. Переспросил:
– До Зимнего дворца? Это можно! С вас, господин генерал, как раз пять рубликов будет.
– Ты что, братец, очумел? Тут пешком – два шага!
– Топайте себе пешком, теперь демократия, лихачи за двугривенный не возят. Вы, видать, у нас давно не были? Жизнь теперь веселая, свободная!
– Ты, братец, просто разбойник с большой дороги! А почему ты не на войне?
– А это без вас разберемся! А вам надо ваньку нанимать, он за стакан семечек везет. – Извозчик нагло сверкнул глазами и отъехал.
Огляделся боевой генерал да поплелся на ваньке – выезд плохой, лошадка едва тощие ноги переставляет, зато дешево.
Казалось, все на месте: те же дома, улицы, трамваи. Но поразил какой-то отпечаток всеобщего беспорядка и разнузданности. На каждом шагу горы мусора и грязи. Столбы, заборы, дома оклеены листовками и воззваниями. Подумалось: «Прежде Петербург был самым чистым городом Европы. А люди? Раньше были нарядные, улыбчивые, спешащие по своим добрым делам. Теперь все это сменилось мрачными толпами, без дела слоняющимися по проезжей части, кучками стоящими на каждом углу. Масса солдат-дезертиров. Почему их не вылавливают, не проверяют документов? Вон сколько патрулей фланирует, болтается без дела. К продовольственным лавкам – громадные голодные очереди. Как все быстро перевернулось!»
Подъехав к Зимнему дворцу, Джунковский подумал: «Хорошо, что в чемодане теплое белье, мыло, ветчина в консервных банках. Все сидеть веселей будет!» Уже у подъезда знакомые лица – швейцары, лакеи бывшего высочайшего двора. Расспрашивают, не таятся:
– Ваше превосходительство, Владимир Федорович, скажите на милость, когда настоящая власть придет? Побаловался народец малость, да пора и честь знать, порядок навести! – И тихонько: – Как бы государя уговорить, чтобы на трон вернулся. Прежде, не в пример нынешнему, лучше было!
Джунковский усмехнулся:
– Одумались! А в феврале, поди, радовались: «Отрекся Николка!»
– Грешны, батюшка, радовались, потому как дураками были! Вот Бог и наказал за дурость: ни порядка, ни продуктов. Когда это было видно, чтобы нам за два месяца жалованье задерживали? Да и что на него теперь купишь, на наше жалованье? Краюху хлеба и хвост селедки…
– Где, братцы, у вас следственная комиссия?
– И до вас, Владимир Федорович, добрались? Уж кого только не допрашивали! И Протопопов с Хвостовым – это которые были министры МВД, – и князь Андроников, и генерал Хабалов, и Бурцев-разоблачитель, и начальник охранки Белецкий, и бывший военный министр Гучков, и самого, страшно сказать, Плеве притянули, и многих других важных господ. Приезжали сюда, к примеру сказать, своим ходом, на своих рессорных колясках, а отсюда их отправляли на казенном транспорте в Петропавловку. Сидят-с, но чтобы расстреляли кого – об том пока слуха не было. Господи, хоть скорее бы вся эта волынка кончалась! Глядишь, и до нас, рабов, доберутся. Проходите, ваше превосходительство, к Эрмитажу! Допрашивают в запасных комнатах, в тех, где вход с набережной. А вы уже и с вещичками? Это правильно, лучше загодя все предусмотреть. Позвольте, поможем вам…
* * *
Большая приемная забита народом, преимущественно чиновного вида, есть несколько дам. Это, как выясняется, свидетели по различным делам. Комиссия их долго не задерживает. Одни входят, другие выходят, но народ в приемной не уменьшается.
То и дело с бумагами в руках снует человек с удивительно знакомым лицом. Джунковский, к своему изумлению, в этом служащем узнает поэта Александра Блока. Думает: «А этот что тут делает?»
Блок тоже узнает Джунковского, вежливо кланяется и протягивает несколько замусоленных листков. Глуховатым голосом говорит:
– Вам, господин генерал, придется подождать. Если желаете, можете познакомиться с Положением о Чрезвычайной следственной комиссии.
– Желаю! – И, откинувшись на спинку стула, Джунковский читает: «Чрезвычайная следственная комиссия учреждается… для расследования противозаконных по должности действий лиц. Предоставляется право расследовать преступные деяния… Возбуждение предварительного следствия, привлечение в качестве обвиняемых, а также производство осмотра и выемок почтовой и телеграфной корреспонденции производятся с ведома следственной комиссии… Акты окончательного расследования комиссия представляет со своим заключением генерал-прокурору для доклада Временному правительству. Подписано министром-председателем князем Львовым, скреплено министром юстиции Керенским 11 марта 1917 года».
Джунковскому даже стало любопытно: какие такие он совершил преступления? За всю жизнь чужого алтына не взял, и на тебе: допрос, следствие и кандальный звон!
После трех часов ожидания подходит секретарь и торжественно возглашает:
– Гражданин Джунковский, вас приглашает следственная комиссия.
Ничтожества в мантиях
В просторном, с высоченными потолками зале – длиннющий стол, покрытый зеленым сукном. За столом большинство знакомых физиономий. Председатель – балагур и картежник с сытым веселым лицом присяжный поверенный Муравьев, слева – всегда отличавшийся бестолковостью сенатор Коцебу, справа – бывший прокурор Петербургской судебной палаты, страдавший запоями Завадский, главный военный прокурор Апушкин, специалист по буддизму и фольклору академик Ольденбург и прочие, менее значительные деятели.
Джунковский стоит перед этими людишками и по привычке мечтает: «Хорошо бы вас, гладкомордых, в атаку послать! То-то со страху в порты наваляли бы, вонь до Петербурга дошла бы. А сейчас с умным видом вопросы станут задавать».
Несколькими минутами прежде, попивая кофе в комнате отдыха судей, председательствующий Муравьев весело рассказывал Завадскому, как вчера на Лиговке князь Вихров навестил известную актрису Цветкову. В разгар свидания вернулся муж, цирковой атлет Валентин Силаев, сграбастал князя и голым вышвырнул в окно со второго этажа. Князь на время укрылся в комнатушке дворника, прежде чем ему принесли одежду. Десятки прохожих видели князя голым, и эта история уже попала в газеты.
Завадский знал эту историю, но приличия ради выслушал ее, взглянул на брегет и произнес:
– Николай Константинович! Пора начинать.
Муравьев, словно актер перед выходом на сцену, в момент изменил выражение лица, напустил на себя серьезную мину, поправил на сальной переносице золотое пенсне, перед зеркалом вспушил душистые баки и распорядился:
– Господа судьи, все готовы? Выходим!
Муравьев, в бытность Джунковского губернатором Москвы, несколько раз обращался за помощью к нему, и Джунковский неизменно бывал любезным, всегда оказывал содействие.
Теперь Муравьев намеренно не желал вспоминать об этом эпизоде их отношений, наоборот, считал признаком порядочности быть с Джунковским очень строгим. Судьи уселись за стол, с любопытством поглядывая на допрашиваемого.
Едва кивнув на приветствие Джунковского, Муравьев сытым голосом, вальяжно развалясь в кресле, спросил:
– Гражданин Джунковский, вы предупреждаетесь, что за дачу ложных показаний несете уголовную ответственность согласно соответствующим статьям Уголовно-процессуального кодекса Российской империи. Переходим к существу дела. В феврале пятнадцатого года вы приняли должность товарища министра внутренних дел. Так?
Джунковский старался быть серьезным и уважительным, но ему мешала мысль, что весь этот допрос – насмешка и все это какая-то детская игра взрослых холеных мужиков, создающих видимость чего-то очень важного, чем они занимаются. И невольно он говорил тем тоном, каким терпеливые няни объясняют прописные истины своим малолетним глуповатым подопечным.
– Я вступил в должность пятого февраля тринадцатого года и сдал ее шестнадцатого августа 1915 года.
– Владимир Федорович, скажите откровенно: какие изъяны вы нашли в Департаменте полиции? Нас особенно интересует политический розыск. Хотелось бы, чтобы вы осветили вопросы секретного сотрудничества. Это правда, что на жалованье полиции состояли лица, бывшие членами революционных организаций?
– Первым делом я занялся корпусом жандармов, я желал сделать из него боевую единицу на железнодорожном транспорте, ибо железные дороги играют важную стратегическую роль. Другое важнейшее дело – агентура в войсках. Иметь агентов-солдат – это разврат и развал всей армии.
Джунковский рассказывал интересные вещи. Следователи слушали с любопытством. Муравьев задумчиво жевал бороду, и на его румяном лице было написано: «Вот как я тебя! Все изменилось под нашим зодиаком, эка я тебя поставил…» Неотрывно глядя в рот Джунковского, застыл сидевший за отдельным столиком поэт Блок.
Когда Джунковский закончил, Муравьев глянул в бумагу, подготовленную для него секретарем, многозначительно спросил:
– Очень хорошо – военная агентура. Мы к ней, знаете ли, вернемся. Теперь не припомните ли что-нибудь об агентуре в средних учебных заведениях? Вам ведь есть что сказать?
Джунковский на некоторое время задумался, потом, подбирая слова, неспешно произнес:
– Однажды потребовались имена сотрудников по какому-то делу, и я вдруг увидал: гимназист седьмого класса, шестого… Меня это возмутило. Я приказал: «Впредь ни один учащийся в агентуре не должен числиться!»
– Очень интересно. – Муравьев постукивал тупым концом карандаша о крышку стола. – Расскажите о каких-либо, так сказать, конкретных фактах… Ставили, скажем, тайную типографию?
– Да, была такая мода – силами полиции открывать для революционеров типографию, а потом ее накрывали и получали за это ордена. Провокация – дело недопустимое.
– А конкретно все-таки что-нибудь…
– Ну, когда я был еще губернатором, с провокационной целью устроили побег тринадцати заключенным женщинам, замешанным в терроре, а потом ни одну не сумели поймать. Я приказал наказать виновных, но провокации изжить никогда полностью не удавалось. Впрочем, то, что я вам говорю, это прописные истины, они известны любому сотруднику охранки, незачем меня было вызывать с передовой позиции.
Козлобородый заикающийся Коцебу строго прикрикнул:
– Н-нам указывать н-не надо!
Муравьев согласно встряхнул кудрями:
– Да, Владимир Федорович, вы, так сказать, отвечайте только на вопросы. Пока что мы вас допрашиваем, а не вы, так сказать, нас…
Джунковский усмехнулся.
* * *
Допрос продолжался еще часа три.
Муравьев вспомнил, что сегодня он идет в гости к отцу жены, а времени уже четвертый час и надо допросить еще нескольких из тех, кто вызван и ждет в приемной. Он заторопился, задал несколько пустяковых вопросов и решил: «Надо его и завтра вызвать! А то начнет звенеть, дескать, из-за ерунды с линии фронта командировали! Архив охранки у нас в руках, скажу секретарю, он вопросов подготовит вагон и маленькую тележку!»
Звякнул в настольный кнопочный колокольчик, обращая внимание коллег, сидевших за столом:
– Владимир Федорович, на сегодня хватит! Допрос продолжим завтра. Ровно в десять ноль-ноль ждем, так сказать.
Джунковский удивился:
– Но мне на фронт надо быстрей возвращаться! Я все разъяснил…
Муравьев, желая досадить бывшему губернатору и показать, кто есть власть, добавил:
– Позвольте, сударь, мне знать, «все» или «не все», – и, словно злая сила в ребро толкнула, неожиданно для себя строго произнес: – Мы, так сказать, и завтра не успеем закончить. Как минимум три дня будем работать, ведь у нас и другие подследственные есть…
* * *
Два следующих дня были похожи на первый. Муравьев, а порой и члены следственной комиссии задавали какие-то вопросы, Джунковский кратко, но вразумительно отвечал.
Интересовало следователей все на свете, ибо их целью было найти хоть какое-нибудь слабое звено в деятельности Джунковского. Собственно, ради этого его и вызвали с фронта. Вновь говорили о провокации, о причинах разногласий Джунковского с директором Департамента полиции Белецким.
Чуть не час давал объяснения по поводу ближайшего сподвижника Ульянова-Ленина – провокатора-большевика Малиновского, которого полиция протащила в Госдуму.
– Я в принципе был против этой акции, а провокатора провели тайком от меня, – объяснил Джунковский. – И всегда считал, что нельзя оказывать давление на избирателей при выборах в Государственную думу.
Муравьев с нажимом, словно схватил за руку преступника, гневно воскликнул:
– А вы, как московский губернатор, не знали, что большевик Малиновский три раза судился, так сказать, за кражи со взломом? Это был обыкновенный уголовник, и по закону он не имел права быть избранным!
– Я все это узнал лишь потом, позже.
На третий день расспрашивали о секретном фонде полиции, к которому Джунковский не имел отношения и которым никогда не пользовался. Затем речь зашла о Распутине, с которым у Джунковского если и были отношения, то самые неприязненные.
Наконец, председательствующий вытер пот со лба и покрутил головой:
– Мы, так сказать, хорошо поработали. У господ членов комиссии нет вопросов? Вы, Владимир Федорович, свободны. Объявляю перерыв на обед.