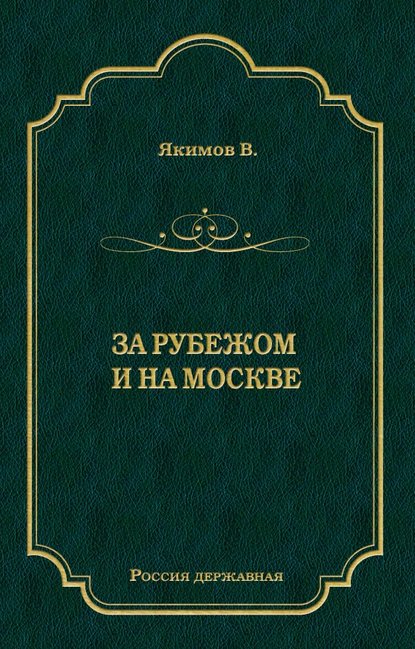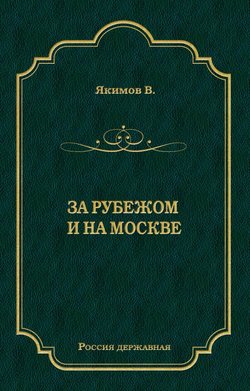
000
ОтложитьЧитал
XV
Два дня тому назад исчез Баптист. Куда он девался – никто этого не знал. Яглин расспрашивал всех в посольстве, но никто не мог ему ничего сообщить.
– Сбежал, должно быть, – сказал Прокофьич. – Чего ему около нас-то околачиваться? Вольный казак он, ну, не понравилось – и ушел.
Это было очень неприятно Яглину. Он привык к солдату, который тоже, как казалось, привязался и к нему. К тому же Баптист своим видом постоянно напоминал Яглину об исчезнувшей прекрасной «гишпанке».
Роман стал ходить с Прокофьичем по парижским кабачкам, надеясь там встретить солдата. Но последнего там не находил. Тогда Яглин махнул на все рукой и с рвением принялся за посольские дела, стараясь усиленной работой заглушить свою тоску.
Двадцатого сентября Берлиз известил Потемкина, что двадцать третьего король даст русскому посольству прощальную аудиенцию и вручит ответное письмо царю, так как на следующий день он уедет в Шамбор.
Потемкин заволновался.
– Как же это так? – воскликнул он. – Да я же ведь просил королевских советников, чтобы они прежде дали мне на просмотр спись[28] с письма. Бог вас знает, что вы там напишете! Быть может, такое, что мне нельзя будет в Москву и глаза показать.
– У нас этого никогда не делается, – ответил Берлиз. – Мы письма отдаем всем посланникам запечатанными и заранее на просмотр не даем.
Потемкин заволновался еще более. В его уме уже вставало представление о «порухе» на великое царево имя, за что его в Москве по головке не погладят.
– Тогда я лучше дам отрубить себе голову, умру с голоду, дам себя разрубить на куски, а к королю вашему на отпуст[29] не поеду! – в гневе закричал он.
Берлиз встал в тупик перед этой вспышкой гнева.
– Хорошо, я скажу об этом министру, – сказал он и, откланявшись, ушел.
На другой день он принес по поручению Льона латинскую копию письма короля к царю.
Получив в руки этот документ, Потемкин крайне обрадовался. Он поцеловал бумагу и приложил ее к глазам и к голове.
– Подать сюда вина! – распорядился он затем. – Хорошее дело всегда надо весело кончать. – Вино было подано, и Потемкин, разлив его по стаканам, предложил один Берлизу. – За здоровье короля, – возгласил он затем и, выпив вино, ударил о пол стаканом, который разбился вдребезги. – Пусть так разобьются и все враги короля! – воскликнул посланник. – Ну а теперь посмотрим, что там написано. Прочитай-кось, Роман! – обратился он к Яглину.
Молодой человек стал читать и уже с первых слов остановился.
– Ты что же? – спросил посланник.
– Да неладно титло царское поставлено, государь: «царь казанский и астраханский» поставлено после «князя смоленского».
– Как так? Это так нельзя. За это с меня в Посольском приказе спросят.
– Да титла «князя обдорского» нет.
– Воротить!.. Воротить назад письмо! Я это письмо взять не могу, – обратился он к Берлизу.
– Да не все ли это равно? – сказал тот. – Ведь от того, что пропущено немного в титуле, величие вашего государя не умалится.
– Не могу!.. Не могу!.. Титло государево должно писать полностью.
Берлиз начал было спорить с ним, но Потемкин продолжал настаивать на исправлении текста, и Берлиз взял обратно письмо, чтобы возвратить его министрам для исправления.
Вечером того же дня Потемкин получил извещение из Сен-Жермена, что латинская копия будет вручена ему вместе с письмом.
– Слава богу! Слава богу! – произнес после этого довольный Потемкин, расхаживая по комнате. – Посольство сошло хорошо. Теперь можно и к дому собираться, Семен, – обратился он к Румянцеву.
– Благодарение Богородице и всем святым угодникам, – отозвался последний. – В Посольском приказе могут остаться вельми довольны нами. И дело сделали, и порухи на имя царево не положили…
Невесело было одному Яглину, один он не радовался возвращению на родину. Здесь, во Франции, он оставлял самое дорогое для себя. Здесь он познал то, чего никогда не знал у себя на родине, а именно любовь прекрасной женщины. Здесь и в нем самом зародилось это прекрасное и могучее чувство, чувство свободной любви. И здесь же, благодаря нелепой и слепой судьбе, он все это потерял навек! Что же дальше ждет его? Возвращение на родину, которая его, привыкшего уже к другим порядкам в чужеземных странах, не манила к себе. Нелюбимая невеста-теремница, грубая, так не похожая на женщин Европы.
– Нет, лучше смерть! – воскликнул Яглин, в отчаянии ломая себе руки.
Утренний рассвет застал его еще не ложившимся в постель.
XVI
Двадцать четвертого сентября к дому, занимаемому русским посольством, опять подъехали сопровождаемые конными гвардейцами золоченые экипажи, чтобы отвезти членов посольства на прощальную аудиенцию французского короля.
В Сен-Жермене их встретили с такою же церемонией, как и в первый раз. При входе во дворец маршал объявил Потемкину, что король возвращает посольству взятые с него в байонской таможне сто золотых. После этого их провели в тронный зал.
Король сидел, как и в первый раз, на возвышении под балдахином, окруженный министрами и придворными. Потемкин подошел ближе и, сняв шапку, почтительно поблагодарил короля за все заботы, которыми они были здесь окружены и которые заставят посольство всегда помнить дни, проведенные в его государстве. После этого король встал, снял с головы шляпу и подал Потемкину два письма к царю: одно на французском языке, а другое – в переводе на латинский язык.
– Я очень рад, что вам так понравилось в моей столице, – произнес он затем. – Передайте вашему государю, что его подданные всегда могут найти прибежище в моем государстве и, быть может, будет когда-нибудь время, когда оба наши государства вступят между собою в тесный союз.
Сказав это, он удалился во внутренние апартаменты дворца.
Так закончилась прощальная аудиенция царскому посольству. После этого посольство отправилось, как и в первый раз, завтракать к графу де Люду.
– Прежде всего посмотрим, ладно ли написаны письма к царю, – сказал Потемкин, сев за стол и подавая Яглину оба письма.
Роман взял их и стал внимательно сверять.
– Неладно, государь, – немного погодя сказал он. – В латинской речи титло-то исправлено, как надо быть, а на ихнем языке по-прежнему стоит.
– И «князя обдорского» нет, и «царь казанский и астраханский» после «князя смоленского»?
– Да, по-прежнему.
– Что же это такое? – обращаясь к Беллефону, взволнованно сказал Потемкин. – Я такое письмо взять не могу. Что же это? Все так хорошо шло – и на последях вы такое непотребство сотворили…
– Хорошо, хорошо, – стал успокаивать его Беллефон. – Дайте мне письмо. Я пойду к королю и все устрою. А вы пока позавтракайте.
– Нет, есть я не буду, – ответил раздраженный Потемкин. – Пока письмо не исправите, я к еде не притронусь.
Беллефон взял письмо и пошел в комнаты короля. А русские сидели за накрытым столом и не притрагивались к кушаньям.
Вскоре вернулся Берлиз.
– Король приказал вновь написать письмо, – сказал он, – и поставить все титулы по порядку. Ошибку эту сделал писец, писавший письмо.
– Ну, если так, тогда дело другое, – сказал Потемкин, и посольство стало есть.
Пили и ели много. Произносили речи. Пили за здоровье короля и царя.
Когда завтрак близился к концу, вошел секретарь с переписанным письмом и подал его Потемкину.
– Проверь, Роман, – обратился он к Яглину.
Последний развернул письмо и чуть было не выронил его из рук.
– Государь, такое письмо мы принять не можем, – сказал он. – Это поруха государеву имени.
Оказалось, что письма не переписали, а лишь зачеркнули ошибки, чтобы вписать требуемые титулы и слова «самодержец всея России» пришлись как раз на зачеркнутом месте. Это было прямое оскорбление.
– Я не могу принять такое письмо: это поруха цареву имени! – воскликнул Потемкин. – За это с меня голову снимут.
– Взять письмо и переписать! – сказал секретарю рассерженный Беллефон.
Секретарь чуть не кубарем вылетел из комнаты вместе с письмом.
Завтрак подошел к концу. Когда все вышли из-за стола, Потемкин подошел к Беллефону и сказал:
– Исполать тебе, воевода, что ты так пекся о нас все время! Спасибо! Не погнушайся принять от меня подарок. – С этими словами он снял с себя свою высокую горлатную шапку из дорогого соболя с султаном из драгоценных камней и нахлобучил ее маршалу до самого носа. – Ну, вот, стало быть, ваш народ и наш теперь в братском союзе и приязни находятся, – произнес посланник смеясь.
Пораженный Беллефон оцепенел и долго ничего не мог сказать. Когда же он освободился, от шапки, то рассыпался в благодарностях и, протянув Потемкину свою простую шляпу, просил его принять ее на память о нем.
Через некоторое время принесли новое письмо Людовика Четырнадцатого. Яглин и Урбановский нашли его в порядке, и спустя час, полюбовавшись на королевскую семью, отправлявшуюся кататься со своей свитой, посольство поехало восвояси.
XVII
Яглин несколько раз вспоминал Баптиста, но напрасно ломал голову над вопросом: куда скрылся солдат?
«Зарвался как-нибудь, и убили его где-нибудь в трущобе», – решил он, а потому чрезвычайно удивился, когда на следующее утро Баптист явился.
– Где ты пропадал? – изумленно воскликнул Роман.
Баптист махнул рукой вместо ответа и затем немного погодя произнес:
– Дайте вина, если есть. С утра не пил и не ел.
Выпив залпом три стакана вина, он лег на постель и тотчас же уснул.
Яглин не будил его. Платье солдата было все в пыли, испачкано и изорвано; лицо похудело, поросло бородой; под глазом виднелся свежий кровавый шрам.
«Где он мог быть?» – раздумывал Яглин и не приходил ни к какому ответу.
Часов через шесть Баптист проснулся и, протирая свои заспанные глаза, оглянулся кругом.
– Теперь ты расскажешь, где ты был? – спросил Яглин.
– Погодите. Дайте сначала справиться со своей головой, припомнить все, а там, может быть, что надумаем.
Какая-то робкая надежда закралась в душу Яглина, но он тотчас же отогнал ее прочь, не желая возбуждать в себе ничего, что могло бы затем повести к разочарованию.
Баптист попросил еще вина и стал пить. Как ни приставал к нему Яглин с расспросами, тот даже не отвечал на них, и Роман скоро отступился от него, тем более что вскоре его позвали к посланнику.
– Ну, Роман, пора и в дорогу! – сказал последний. – Слава богу, все мытарства отмытарили. Послужили царю-батюшке, – пора и о себе подумать! Будет на чужеземщине болтаться, – скоро и Москву златоверхую увидим. Рад ты, поди, Роман?
– Рад, – безучастным тоном ответил Яглин.
– Ну, как, поди, не рад, – продолжал веселым тоном Потемкин. – Ведь там тебя невеста-разлапушка ожидает…
Эти слова больно кольнули в сердце Романа, и он, чтобы не выдать своего волнения, отвернулся в сторону, как бы роясь в каких-то вещах.
– Да, царь не забудет нашей службы, – продолжал Потемкин. – И король тоже, наверно, пожалует нас.
И действительно, Людовик в тот же вечер прислал посольству подарки. Потемкину он подарил портреты во весь рост с себя, королевы и дофина, а остальным членам посольства прислал в подарок ковры, сукно, настенные часы, ружья, пистолеты и шпаги.
– Не забыл он и вас, толмачей, – сказал посланник и передал присланные Людовиком XIV Яглину и Гозену по семисот ливров и Урбановскому – четыреста.
Но полученные деньги не радовали Яглина, и он, равнодушно положив их в карман, спустился к себе, где его ждал Баптист.
Последний в это время успел умыться, почиститься и вообще привести себя в порядок.
– Скажите мне, – произнес он, едва Яглин вошел в комнату, – вы очень любите свою красотку?
– Ты знаешь что-либо о ней? – живо спросил Яглин.
– Да, я недаром провел эти дни, шляясь по окрестностям Парижа.
– Где она? Где? – с нетерпением воскликнул Яглин.
– Скажите прежде всего: вы тоже поедете с посольством к себе на родину? Если да, то вы должны навсегда отказаться от нее.
– Не могу я!.. Не могу!.. – с отчаянием ломая руки, воскликнул Яглин.
– Тогда вам придется оставить ваше посольство, остаться здесь, и мы поедем с вами за вашей Элеонорой. Чем скорее, тем лучше, так как через несколько дней ее увезут в Дьепп, и Гастон де Вигонь уедет с нею на корабле в Новую Францию[30]. Выбирайте!
Яглин в тяжелом раздумье опустил голову и несколько минут ничего не говорил.
– Дайте мне подумать, – глухо произнес он затем, поднимаясь с места, и вышел вон.
Солдат с участием посмотрел ему вслед.
Наступила ночь, тяжелая, мрачная. Яглин лежал на своей постели с открытыми глазами и думал свои тяжелые думы. Что делать? Что выбрать? Ехать на родину, в Москву? Там остались старик отец, незаконченное дело мести, не отплаченная врагу гибель невинной сестры. Но зато здесь остается любимая девушка, с которой он впервые увидал свет. Остаться здесь? Сделаться беженцем со своей родины, бояться показаться на Москве? Но зато здесь он, быть может, опять найдет свою милую, а с нею – радость, свет, счастье и любовь. Как быть?.. Что делать? И Роман до боли сжимал себе руками виски.
Наступило утро, и рассвет осветил бледное, измученное лицо Яглина.
– Слушай, Баптист!.. – окликнул он спящего солдата.
Тот открыл глаза и вопросительно взглянул на молодого русского.
– Я решился… я остаюсь… – глухо произнес Яглин.
Любовь победила.
XVIII
Двадцать шестого сентября царское посольство выезжало из Парижа к себе на родину. Все были веселы, так как, пространствовав почти год по чужеземным странам, все сильно соскучились по родине и нетерпеливо рвались к ней. Даже Потемкина и того захватило всеобщее настроение, так что он не обратил внимания на то, что и на этот раз, как и при въезде посольства в Париж, улицы были пустынны и только редкие случайные прохожие смотрели с любопытством на этих «полуазиатов».
– Домой, домой!.. Слава тебе, Господи! – весело говорил Прокофьич. – Не дали Господь и Пресвятая Богородица умереть на чужой стороне. И ты рад, поди, Романушка? – обратился он к Яглину, ехавшему вместе с Баптистом верхами.
– Рад, Прокофьич, рад! – весело ответил Роман.
– А как же, брат Романушка, та-то?.. Гишпанка-то? Забыл разве?..
– Ну, что помнить об этом! – тем же веселым тоном ответил Яглин. – Разве у нас на Москве девок-то мало?
Ночь застала посольство около небольшой деревушки, на берегу реки. День был жаркий, и все утомились во время перехода.
– Пойду купаться, – сказал Яглин Прокофьичу. – Баптист, пойдем со мной!
Они оба ушли на берег речки.
Когда на другой день утром посольство стало сниматься, чтобы двинуться дальше, то подьячий обнаружил, что Яглина и Баптиста нет. Испуганный, он побежал к Потемкину, чтобы рассказать тому об их исчезновении.
– Что за притча? – в недоумении сказал посланник. – Куда же они могли деваться? Не сбежал же Роман-то?
Стали расспрашивать остальных. Трое из челядинцев сказали, что они видели, как вчера Яглин и солдат пошли на реку, но позже не встречали их. Один же вспомнил, что вскоре после того, как они ушли, он услыхал чей-то крик с той стороны.
– Уж не потонули ли? – предположил Потемкин и велел осмотреть берег реки.
Пошли искать и через несколько минут нашли на берегу платье Яглина и Баптиста.
– Утонул, сердешный! – завыл Прокофьич о своем друге.
Потемкин опустил голову: его Настасья лишилась своего жениха и обрекалась быть «вековушей», «Христовой невестой».
Отслужили посольские священники панихиду по «усопшем рабе Романе», и через день посольство двинулось дальше, к себе на родину, в Москву златоверхую.
Часть третья
«Заморский дохтур»
I
Пришедший из Англии корабль бросил якорь в виду Архангельска. Матросы покончили уже с уборкой парусов и занялись в ожидании приставов московского царя переносом на палубу товаров.
Около самого края стоял молодой человек с сильно загорелым лицом и русой бородой, одетый в немецкое платье и черную треугольную шляпу. Рядом с ним находилась молодая женщина с массой роскошных волос на голове и с нежным загаром на лице. Она зябла и куталась в теплый платок: море лишь несколько недель тому назад очистилось ото льда, и пришедший к Архангельску корабль был первый в этом году.
Молодой человек задумчиво глядел на берег, где толпились любопытные горожане. Молодая женщина молча посмотрела на него, а затем тихо дотронулась до его плеча. Он вздрогнул и оглянулся.
– О чем ты думаешь? – спросила она.
– О чем? – переспросил он и, указывая рукою вдаль, на берег, продолжал: – Там – родина. Как-то она примет меня? Ведь я – беглец. За это мне могут снять голову.
– Разве я тебе не говорила этого?
– Да, я знаю. Но жить на чужбине тяжело. К тому же у меня на родине старик отец… неоконченное дело. Ради своего счастья, – при этом молодой человек нежно взял свою спутницу за руку, – я не мог покинуть все это и остаться там, во Франции. Меня вечно за это мучила бы совесть.
– И я сама никогда не простила бы себе того, что ты ради меня оставил свое дело, – сказала женщина.
В это время к ним подошел капитан корабля, высокий белокурый англичанин, и сказал:
– Мистер Аглин, сегодня вы оканчиваете свое водное путешествие и отправляетесь сухопутьем к московским дикарям.
– Да, мистер Джон, – ответил названный Аглиным. – Благодарю вас за все ваши заботы о нас во время путешествия.
– О, зачем об этом говорить! Я сделал все это не даром: вы заплатили за это деньги, мы – квиты. Желаю вам успеха, доктор, при дворе московского деспота. Впрочем, я не завидую вам в этом. Попасть к московскому царю, к турецкому султану, к персидскому шаху – одно и то же: не можешь сегодня поручиться, что завтра будешь иметь голову на плечах. Все они одинаковы, нехристи.
– Но ведь московиты – христиане, – заметил Аглин.
– Да, но хуже язычников. Варварский народ. Впрочем, говорят, что они рады видеть у себя нашего брата, чужеземца, особенно если он хорошо знает какое-нибудь ремесло! – сказал капитан и отошел в сторону, чтобы отдать какое-то приказание матросам.
Начала надвигаться ночь, а царских приставов все не было. Аглин и молодая женщина сели на кучу канатов и стали смотреть на берег. Что-то там их ждет? Радость и счастье или горе и злоключения? Бог ведает. Даль так туманна, а будущее так темно, что трудно сказать что-либо определенное. Быть может, там давно приготовлена плаха, около которой ходил палач, играя светлым, остро отточенным топором. Вот он, этот чужеземец, кладет свою голову на плаху, а дьяк читает, что «по приказу великого государя, за его предерзостный побег и укрывательство в чужих странах надлежит его смертию казнить». Удар – и голова, отскочив от туловища, прыгает по ступенькам помоста.
При этой мысли Аглин зажмурил глаза и невольно вздрогнул.
– Ты что? – спросила молодая женщина.
– Холодно! – солгал он. – Избаловался я у вас там теплом-то. Теперь надо привыкать к нашим холодам. Смотри не замерзни здесь ты!..
– С тобою? О нет!
Молодой человек тихо прижал спутницу к себе и, вызывающе кивнув головою на берег, мысленно сказал:
«Э, будь что будет! От своего не отступлю… хотя бы пришлось и голову сложить на плахе».
II
На другой день рано утром подъехали к кораблю на лодках пристава с дьяком во главе, и были предупредительно приняты капитаном.
– За какой такой нуждой приехали в наше государство? И из какой земли? И с каким товаром? И что намерены здесь купить? И нет ли у вас больных моровой язвой людей? И нет ли у вас противу нашей земли порохового зелья и пищалей и иных прочих огнебойных орудий? И есть ли люди, охочие великой государевой пользе послужить? – начал делать через толмача-англичанина дьяк по списку вопросы.
Капитан подробно отвечал на них, а при последнем вопросе указал на Аглина как на желающего отправиться в Москву, чтобы там служить великому русскому государю.
Однако дьяк не обратил внимания на Аглина, а занялся определением размеров пошлин на разные привезенные товары.
Когда последнее было окончено, пошлины уплачены и разрешено свозить товары на берег, дьяк обратился к Аглину и стал спрашивать его, тоже через толмача: откуда он, какой веры, зачем в Москву едет и какое его занятие?
Аглин ответил:
– Подданный я французского короля, католической веры, дело мое докторское и еду в Москву послужить великому государю, так как наслышан, что его величество жалует искусных докторов.
– Письма рекомендательные имеешь? – спросил дьяк.
– Какие письма? – с удивлением спросил Аглин.
– От короля вашего или от какого другого потентата, кои бы твое искусство подтвердили и тебя хорошим доктором представили!
– В этом я имею свидетельство от коллегии, где я испытание держал и которая меня доктором представила.
– Э, что твое свидетельство и твоя коллегия! Свидетельство ни при чем: захочет наш царь дать докторское свидетельство, так кому хочет даст[31].
Молодой человек на это ничего не ответил. Он хорошо знал, что такие случаи возможны в Московском царстве, где считалось, что царь может делать все.
– Так писем у тебя никаких нет – ни к нашему великому государю, ни к кому из его ближних людей или каким-либо боярам? – продолжал допрашивать дьяк.
– Нет, ни к кому нет, – ответил Аглин. – Я думал, что моей грамоты, выданной коллегией, достаточно, чтобы пользовать болящих людей в Московском государстве.
– Ну нет, этого мало! Кто тебя знает, что ты за человек? Может быть, какой чернокнижник и врагами нашего великого государя подослан, чтобы его царского величества здоровье испортить или поветрие какое на царство пустить. Или, быть может, ты по звездам читаешь и соединение светил небесных такое соделаешь, что на пагубу православному народу сие сбудется. Уж не проверить ли мне тебя?
– Как же так? – с изумлением произнес Аглин. – Что же вы-то в нашем искусстве знаете? У нас, в немецких, английских и франкских народах, люди несколько лет употребляют, чтобы врачебное искусство изучить, которому вы не обучались.
Это, должно быть, задело дьяка, и он с раздражением ответил:
– В вашем искусстве нет ничего такого, чего бы человеку, в Писании наученному, не знать. Если ты в Писании сам научен, то твое искусство от Бога, а если от дьявола, то от твоего искусства только соблазн и вред народу православному, и потому волен я тебя не пускать в наше государство. А что до моей веры[32] к тебе, то у нас сохранились записи с веры, чиненной в царствование благоверного царя Бориса дохтуру Тимофею Ульсу печатником Василием Щелкаловым и посольским дьяком, и франкскому аптекарю Филиппу Бриоту через дохтура Дия, и аптекарю Госсениуса, и глазного дохтура Богдана Вагнера… И по тем записям я тебе буду веру делать.
Аглин прекрасно видел, что спорить против этого было бы бесполезно, что в случае его нежелания подвергнуться экзамену ничего не понимающего дьяка его попросту не пустили бы в Московское государство и он должен был бы ехать обратно за рубеж.
– Хорошо, – ответил он. – Я согласен на вашу веру и докажу вам свое искусство.
– Если ты эту самую веру как следует выдержишь, то мы выдадим тебе на дорогу опасную грамоту, с которой ты доедешь до Москвы, – сказал дьяк. – И никто в дороге тебе с этой грамотой не может никаких притеснений чинить. А буде пожелаешь на родину возвратиться, то с этой грамотой вплоть до рубежа можешь доехать. А ежели ты на государевой службе преуспеешь, то великий государь может приказать тебе путевые издержки возвратить. Вот если бы ты приехал сюда по приказу великого государя, то я тебе и все деньги на дорогу выдал бы. Вот дохтуру Блументросту великий государь дал из Пскова на его самого, на сына, на двух дочерей, двух девок и еще на одиннадцать мужеска пола двадцать пять подвод для проезда в Москву и поденный корм; а кроме того, выдано поденных путевых денег – дохтуру по шести алтын и четыре деньги в день, детям его – по восьми денег, людям его – по шести денег в день каждому.
Аглин молчал.
Затем дьяк приказал одному из приставов получить следуемые таможенные деньги и уехал, сказав Аглину, чтобы тот завтра переезжал на берег и явился к нему.
Когда баркас с русскими служилыми людьми отплыл от берега, Аглин, задумчиво стоя у борта судна, смотрел на берег и не заметил, как к нему сзади тихо подошла молодая женщина и дотронулась до его плеча.
– Ты задумался о чем-то? – спросила она. – Разве есть что неприятное?
– Не стоит думать об этом, – ответил Аглин. – В будущем еще много будет предстоять неприятного. Ну, да мы еще посмотрим!
Молодая женщина крепко пожала ему руку, как бы ободряя его для будущего, которое – они были уверены – будет принадлежать им.