Общая теория капитала. Самовоспроизводство людей посредством возрастающих смыслов. Часть первая
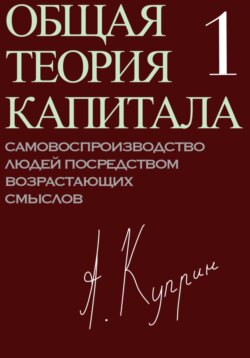
000
ОтложитьЧитал
Качество и количество смыслов
В обществе-культуре действуют законы вероятности. С одной стороны, действует закон возрастания и усложнения смыслов по мере того, как люди (ре)комбинируют их. С другой стороны, действует закон убывания и упрощения смыслов по мере того, как люди теряют их при передаче:
«Большие группы населения могут преодолеть неизбежную потерю информации при культурной передаче, поскольку, чем больше людей пытаются чему-то научиться, тем больше шансов, что кто-то в конечном итоге получит знания или навыки, которые, по крайней мере, так же хороши или лучше, чем были у человека, у которого они учились. Взаимосвязанность важна, потому что она означает, что больше людей имеют шанс получить доступ к наиболее квалифицированным или успешным учителям и, таким образом, имеют шанс превзойти их и рекомбинировать элементы, полученные от различных высококвалифицированных или успешных учителей, для создания новых рекомбинаций» (Henrich 2016, p. 220).
Сложность смыслов определяется численностью, разнообразием и социальностью популяции, а численность человеческой популяции определяется сложностью смыслов:
«Если бы, например, какой-нибудь один член племени, более одаренный, чем все другие, изобрел новую западню, оружие или какой-либо новый способ нападения или защиты, то прямая личная выгода, без особого вмешательства рассуждающей способности, заставила бы других членов общества подражать ему, и таким образом, выиграли бы все. С другой стороны, привычное упражнение в новом ремесле должно было, в свою очередь, развивать до некоторой степени умственные способности. Если новое изобретение было важно, то племя должно было увеличиться в числе, распространиться и вытеснить другие племена. В племени, которое стало многочисленнее вследствие таких причин, будет всегда более шансов для рождения других одаренных и изобретательных членов» (Дарвин 1935-1959, т. 5, с. 242).
Те же механизмы, которые ведут к возрастанию сложности общества-культуры, могут при определенных условиях вести к потере сложности. Если популяция начинает уменьшаться или оказывается в изоляции, она начинает терять адаптивную культурную информацию. Джозеф Генрих приводит следующий пример: когда европейцы впервые столкнулись с тасманийцами, их орудия выглядели примитивными даже по сравнению с орудиями других палеолитических общин. Археологические раскопки показали, что десятки и даже сотни тысяч лет назад аборигены располагали более сложными орудиями – до того времени, когда примерно 12 тысяч лет назад остров оказался отрезан от Австралии поднявшимся океаном. В условиях изоляции относительно малочисленное население Тасмании не смогло поддерживать прежнюю сложность своих орудий (см. Henrich 2016, p. 220-222).
Человеческая деятельность – это совокупность материальных социальных абстрактных действий, результатом которой являются сами люди. Качество смыслов определяет качество людей, а качество людей определяет качество смыслов. В этом цикле «субъект – смысл» качество субъекта и смысла определяется их материальностью, социальностью и абстрактностью. Качество материальной деятельности и ее средств зависит от размеров общины и особенностей общения:
«Размер группы и социальная взаимосвязь между индивидами играют решающую роль в этом процессе. Самый очевидный пример того, что размер группы может иметь значение, заключается в том, что большее количество умов может генерировать больше удачных ошибок, новых рекомбинаций, случайных озарений и преднамеренных улучшений» (Henrich 2016, p. 213). «… Сила коллективного мозга группы зависит от ее социальных норм и институтов… В людях тесно переплетаются социальность и технологические ноу-хау» (Henrich 2016, p. 322).
Материальность и социальность тесно связаны с абстрактностью, то есть со способностью к установлению причин и мотивов, к вычислениям и расчетам, взятым в самом широком смысле. У приматов размер префронтальной коры зависит от размера сообщества: чем больше социальных связей, тем больше размер коры (см. Sapolsky 2017, p. 51). Психика человека – такое же напластование разных периодов и эпох, как его мозг, в нем можно проследить всю последовательность от древнейших до современных элементов и функций:
«Когда мы смотрим на бактерию под микроскопом, она отвечает нам непрерывным «computo ergo sum» [«вычисляю, следовательно, существую» (лат.) – А. К.]. Нужно уметь слушать. Но что это может означать, когда нам говорят: «Я вычисляю сама?». Это означает, что я ставлю себя в центр мира, в центр моего мира, мира, который я знаю, чтобы обработать его, рассмотреть его и выполнить все меры защиты, обороны и т. д. Понятие субъекта появляется вместе с computo и его эгоцентризмом. Представление о субъекте неотделимо от этого акта вычисления, в котором каждый является не только своей собственной конечностью, но и конституирует свою собственную идентичность» (Morin 2008, p. 73).
В живой природе субъект появляется там, где есть, так сказать, «биомеханический расчет». В обществе-культуре хозяйственный субъект, или экономическая единица, появляется там, где начинается «хозяйственный расчет». Хозяйственным субъектом были и палеолитическая родовая община, и двор феодального монарха, и контора новоевропейской фабрики. Расчет, или выбор, – это эволюционный процесс, то есть процесс, который сложился в ходе самовоспроизводства людей и служит продолжению этого самовоспроизводства. Расчет как сопоставление прошлых, настоящих и будущих затрат и выгод предшествовал всякому производящему хозяйству. Для общины охотников и собирателей характерен свой способ расчета и свой тип отношений между людьми, основанный на этом способе расчета. Косвенная взаимность – это способ расчета, при котором после удачной охоты добыча группы делилась на всех членов племени. Это обеспечивало долю в добыче при неудачной охоте в будущем и решало проблему хранения добытого мяса (см. Sapolsky 2017, p. 324-325). Развитие производства расширяло круг ценностей, отсутствовавших в природе, но необходимых для самовоспроизводства общин. Это вело к повышению роли расчета и к повышению «субъектности» общины, то есть значения разума по сравнению с инстинктами и практиками.
Люди являются субъектом и объектом собственной деятельности, природа и культура – ее средствами. «Простые моменты процесса труда следующие: целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 189). К этим моментам необходимо добавить человека как субъекта (движущую силу) деятельности и его потребности как источник этой движущей силы. Эволюция качества смыслов связана с развертыванием потребностей и выражается в развитии ценностей – материальных, социальных и психологических. Как мы говорили выше, ценности являются, с одной стороны, представлением потребностей в сознании людей, а с другой стороны, проекцией потребностей на вещи и обстоятельства среды. «Ценность не является имманентной, она не находится внутри предмета. Ценность внутри нас; она – способ, которым человек реагирует на окружающие его обстоятельства» (Мизес 2005, с. 92). Проекции могут быть как положительными, так и отрицательными, как благами, так и злами.
Человек как движущая сила деятельности – это деятельная сила. Люди ведут свою деятельность, складывающуюся из огромного количества действий, чтобы воспроизводить самих себя. Возрастание смыслов связано с их разделением, умножением и сложением. Разделение, умножение и сложение смыслов равнозначно накоплению смыслов, а процесс такого накопления называется кумулятивной культурной эволюцией. Результатом и исходным пунктом деятельности являются сами люди (их деятельная сила) и средства их деятельности. В совокупности люди и средства деятельности образуют средства самовоспроизводства. Средства деятельности, в свою очередь, делятся на средства производства и предметы потребления или жизненные средства. В ходе аграрной эволюции из предметов потребления выделились средства производства, а опыт присвоения и потребления продуктов природы дополнился опытом производства продуктов культуры.

Иллюстрация 2. Средства самовоспроизводства
В отличие от потребления, производство направлено не на удовлетворение непосредственных, текущих потребностей, а на удовлетворение опосредованных, будущих потребностей. Экономисты традиционно сводят средства деятельности к благам. Согласно Карлу Менгеру, блага низшего порядка направлены на удовлетворение потребностей людей (предметы потребления), а блага высшего порядка (средства производства) – на производство благ низшего порядка: «блага высшего порядка получают и удерживают свой характер не по отношению к потребностям непосредственно настоящего времени, но исключительно по отношению к тем потребностям, которые предусмотрены человеком и проявятся по окончании производственного процесса» (Менгер 2005, с. 81-82). Однако на самом деле средства деятельности не сводятся к благам, поскольку в своей деятельности люди потребляют (как непроизводительно, так и производительно) не только блага, но и зла.
Помимо способности удовлетворить человеческие потребности (будь то прямо, в качестве предметов потребления, или окольно, в качестве средств производства), средства деятельности объединяет то, что все они являются продуктами деятельности. Маркс в первом томе «Капитала» (1867) ввел понятие «абстрактного труда», чтобы привести все конкретные виды деятельности к общему эквиваленту и ввести понятие количества труда:
«Если отвлечься от потребительной ценности товарных тел, то у них остается лишь одно свойство, а именно то, что они – продукты труда» (Маркс и Энгельс 1954-1981, т. 23, с. 46, перевод исправлен).
Введя понятие «абстрактного труда», Маркс не показал, что является его субстанцией. Георг Зиммель писал в работе «Философия денег» (1900) о том, что в отличие от энергии, которая при качественной неизменяемости может по-разному проявляться – как теплота, электричество или механическое движение – различные виды труда не имеют общего эквивалента или общей субстанции, которая бы позволила сравнивать между собой, например, «мускульный» и «психический» труд. При этом Зиммель допускал, что такой эквивалент существует:
«Должен заранее заметить: я не считаю вообще невозможным, что когда-либо будет найден механический эквивалент и для психической деятельности. Конечно, значение содержания этого эквивалента, его объективное место в логической, этической и эстетической связи находится абсолютно по ту сторону всяких психических процессов, подобно тому как значение слова лежит по ту сторону его физиологически-акустического звука» (Simmel 1930, S. 467; русский перевод см. Зиммель 2015, с. 218).
Как верно предполагал Зиммель, всеобщий эквивалент, который обеспечивал бы сведение к общему эквиваленту всех видов человеческой деятельности, находится по ту сторону психических и физических процессов. Для того, чтобы психический и мускульный труд можно было свести друг к другу, для них необходим не «механический», а «информационный» и «ценностный» эквивалент – то есть смысл. Смысл является искомой субстанцией деятельности и ее результатов.
Фигуры как элементы смыслов
Смысл как единица культуры – это социальная информация в действии. В генах информация записана в виде последовательностей нуклеотидов. Каким образом записывается информация в смыслах? Отдельный смысл складывается из фигур – изменений и различий. Таким образом, смысл складывается как из непрерывных, так и из дискретных фигур. В этом смысл схож со светом, имеющим корпускулярно-волновую природу.
Величина смысла определяется количеством изменений и различий. Дело не меняется от того, о какой из сторон смысла идет речь – о вещении и вещи, общении и обществе, или мышлении и символе. Величина смысла во всех случаях определяется количеством фигур, необходимых для его воспроизводства. Невозможно свести смысл только к выражению, только к содержанию или только к норме, поскольку смысл – это материальная и социальная абстракция в действии, взятая в единстве всех изменений и различий, необходимых для ее воспроизводства. Как социальное и материальное абстрактное действие, смысл основан на расходовании энергии и времени. Энергия и время являются ограничителями, но не мерой смыслов. Величина смысла определяется количеством содержащихся в нем фигур.
Теория информации называет изменения и различия битами и измеряет информацию в битах. Бит – это такое изменение и различие, которое сведено к тому, чтобы быть изменением и различием и ничем больше: «1» или «0», «вкл.» или «выкл.» и т. п. Самый простой элемент смысла, самая простая фигура – это не просто бит (0 или 1), а бит, взятый с оценкой. У культурного бита есть не только модуль (0 или 1), но и знак («+» или «–»). Если информация – это определенность, то смысл – это направленная, ценностная информация. Смысл можно наглядно представить себе как строку s, состоящую из фигур, а критерием для определения величины смысла является количество фигур в строке s.
Если отдельный смысл – это строка из фигур, то совокупность смыслов образует контекст. Поскольку смыслы существуют лишь в контексте, постольку они функционируют не как дискретное, а как непрерывное множество. Нет четко определенной, фиксированной границы между фигурами и смыслами, эта граница подвижна, определяется контекстом. Одно и то же движение руки в зависимости от контекста может быть как частью действия, так и самостоятельным действием, имеющим собственный смысл, то есть жестом. Любой смысл обретает свою конкретность в контексте. Смысл всегда является конкретным действием и результатом такого действия. Абстрактное выражение является смыслом лишь постольку, поскольку оно находится в контексте материальной и социальной абстрактной деятельности.
Аристотель говорил, что «искусство в одних случаях завершает то, что природа не в состоянии произвести, в других же подражает ей» (Аристотель 1976-1983, т. 3, с. 98). Завершенность или сделанность – это основная характеристика смысла и культуры в целом по сравнению с фигурами. Целое рубило – это смысл, камень со сколом – это фигура. Завершенная фраза – это смысл, незавершенная фраза – это набор фигур. Продуманная книга – это смысл, недодуманная книга – это скопление фигур. Мудрость – это высшая форма завершенности действия, позволяющая начать принципиально новое действие.
Отношение между фигурами и смыслами, своего рода «чувство смысла», является тем основанием общего языка всех людей, которое позволяет им учить новые языки в зрелом возрасте и догадываться о назначении обломков, найденных при археологических раскопках. «Язык организован так, что с помощью горстки фигур и благодаря их все новым и новым расположениям может быть построен легион знаков» (Ельмслев 1960, с. 305).
Когда мы говорим, что в отличие от битов как «кирпичиков» информации, фигуры как «кирпичики» смысла имеют некоторые качественные характеристики, это означает, что все множество фигур можно условно разделить на подмножества, то есть выделить виды фигур, или базовые фигуры. Ельмслев считал выделение базовых фигур необходимым условием для описания как выражения, так и содержания знаков.
«Такое исчерпывающее описание опирается на возможность объяснения и описания неограниченного числа знаков с помощью ограниченного числа фигур, в том числе с точки зрения их содержания. Требование сокращения должно быть здесь таким же, как и для плана выражения: чем меньшее число фигур содержания будет в нашем распоряжении, тем лучше мы сможем удовлетворить эмпирический принцип в его требовании наипростейшего описания» (Ельмслев 1960, с. 324-325).
Смысл проявляет себя в психическом и физическом бытии человека, но не рождается в них. Абстракции не являются порождением человеческого интеллекта – будь то в его утвердительной форме рассудка или отрицательной форме разума. Скорее, это рассудок и разум являются результатами развития социальных материальных абстракций в действии. Смыслы лишь воспроизводят фундаментальные определения, состояния, отношения, изменения, направления в природе и обществе:
«То, что язык можно выучить на примерах всего за несколько лет, отчасти возможно благодаря сходству между его структурой и структурой мира» (Домингос 2016, с. 60).
Отсюда же универсальность смыслов, способность людей понять друг друга, перевести языки друг друга – и это после десятков тысяч лет изолированного развития. В эпоху географических открытий европейцы находили общий язык с индейцами или австралийцами. Все люди действуют, говорят и мыслят на одном языке – языке смысла:
«По мнению Лейбница, если мы хотим что-нибудь понять, наш образ действия всегда должен быть такой: свести все сложное к простому, т.е. представить сложные идеи в виде комбинаций простейших понятий, которые абсолютно необходимы для выражения мыслей» (Вежбицкая 2011, с. 86). «Внутри всех языков мы можем найти и маленький общий словарь, и маленькую общую грамматику. Вместе этот общечеловеческий словарь и связанная с ним грамматика представляют собой маленький язык, по-видимому, общий для всего человечества. С одной стороны, этот мини-язык – это пересечение всех языков мира, с другой стороны, это, как мы считаем, врожденный язык человеческих мыслей, который соответствует тому, что Лейбниц называл “lingua naturae”» (Вежбицкая 2011, с. 89).
Математика как смысловой домен также является отражением фундаментальных определений окружающего мира. Сходство между миром и математикой позволяет решать естественнонаучные задачи. Это сходство не возникло в один момент, математика – это результат эволюции смыслов от упорядоченности Вселенной к отражению этой упорядоченности в сознании людей. В горизонте миллионов и миллиардов лет исчезает различие между точками зрения Тьюринга и Витгенштейна: «Тьюринг считал математику чем-то, что было открыто, чем-то вроде науки об абстрактном. Витгенштейн настаивал на том, что математика, по сути, была чем-то изобретенным в соответствии с выбранным набором правил, больше похожа на искусство, чем на науку» (Grim 2017, p. 151).
Простота первых смыслов касалась не только вещения, такими же простыми были общение и мышление, основанные на простых жестах и движениях рассудка, однако если вещение гоминид оставило для нас свои результаты, то о характере общения и мышления, к сожалению, не осталось прямых свидетельств, так что нам остается судить о них только по косвенным признакам. В процессе социального, а затем культурного обучения, расширения нормы обученной и рассудочной реакции, перехода от культурного отбора к традиционному выбору происходило усложнение отдельных смыслов и общества-культуры в целом. В отдельных смыслах увеличивалось количество фигур, в обществе-культуре в целом увеличивалось количество смыслов.
Усложнение смыслов становится очевидно, например, при анализе эволюции каменных орудий: от простейших оббивных палеолитических чопперов и рубил до неолитических полированных и сверленных топоров, для которых характерен гораздо более высокий уровень обработки. Эволюция смыслов состояла в их разделении – появлении новых видов действий и их результатов. В процессе разделения деятельности и знаний люди специализировались на тех видах действий, в которых они имели конкурентное преимущество благодаря особенностям среды или своей деятельной силы. Земледелие обособилось от собирательства, ремесло от земледелия. Росла не только сложность вещения, но и общения, и мышления; язык усложнялся, обученные действия становились более важным актом самовоспроизводства по сравнению с инстинктивными, рассудочные – по сравнению с обученными.
2. Сложность смысла
Минимальный субъект и минимальное действие
Увеличение сложности смыслов по мере их эволюции является интуитивно очевидным, однако лишь в середине XX века понятия количества информации и информационной сложности получили строгое обоснование в работах Клода Шеннона и Андрея Колмогорова.
Шеннон ввел понятие информационной энтропии. Энтропия H по Шеннону – это мера неопределенности, непредсказуемости, неожиданности, случайности некоторого сообщения (события, явления). При отсутствии информационных потерь энтропия Шеннона равна количеству информации на символ сообщения. Количество информации определяется неожиданностью появления того или иного сообщения. Применительно к культуре таким сообщением является (контр)факт.
«Согласно этому способу измерения информации, она не присуща самому полученному сообщению; скорее, это функция его отношения к чему-то отсутствующему – огромному множеству других возможных сообщений, которые могли быть отправлены, но не были отправлены. Без ссылки на этот отсутствующий фон возможных альтернатив невозможно измерить объем потенциальной информации сообщения. Другими словами, фон невыбранных сигналов является решающим фактором, определяющим то, что делает принятые сигналы способными передавать информацию. Нет альтернатив = нет неопределенности = нет информации. Таким образом, Шеннон измерял полученную информацию с точки зрения неопределенности, которую она устраняла по отношению к тому, что могло быть отправлено» (Deacon 2013, p. 379).
Таким образом, среднее количество информации H, содержащееся в смыслах, определяется количеством всех имеющихся в культуре (контр)фактов и вероятностью их появления. Энтропия Шэннона H – это показатель сложности общества-культуры в целом. Если мы взглянем на историю человеческих обществ-культур, то мы увидим, что их сложность последовательно росла: от скудного набора первобытных смыслов (простейшие каменные орудия, родоплеменная община, элементарный язык, причинные мини-модели, анимизм и фетишизм) к сложному арсеналу смыслов, характерных для аграрных обществ (домашний скот и сельскохозяйственный инвентарь, полисы и империи, письменность и литература, античная и арабская наука, мировые религии).
В ходе культурной эволюции росла как сложность общества-культуры в целом, так и сложность отдельных смыслов. Как мы уже сказали, сложность отдельно взятого смысла определяется количеством фигур, минимально необходимых для воспроизводства этого смысла. Предположим, что у нас есть смысл s, который можно представить как строку из некоторого количества фигур. Длина этой строки – L(s). В таком случае сложность смысла s определяется длиной самой короткой программы s*, которая может описать этот смысл. Длину программы s* называют алгоритмической энтропией K(s), или сложностью по Колмогорову:
«Центральным понятием алгоритмической теории информации является понятие энтропии индивидуального объекта, называемое сложностью объекта (по Колмогорову). Интуитивно под этим понимается минимальное количество информации, необходимое для восстановления данного объекта» (Виноградов и др. 1977-1985, т. 1, с. 220).
Мы будем называть программу s* минимальным, или наименьшим действием, необходимым для воспроизводства смысла s. Смыслы могут иметь различную сложность в зависимости от величины минимального действия, необходимого для их воспроизводства. Например, строку asdfghjkl можно описать лишь ею самой. Длина этой строки – 9 неповторяющихся фигур. Однако если строка s имеет шаблон – пусть даже неочевидный – то такую строку можно описать минимальным действием s*, намного более коротким, чем сама s. Например, строку afjkafjkafjkafjk можно описать намного более короткой строкой afjk, повторенной необходимое число раз.
«Различие между простотой и сложностью вызывает значительные философские трудности в применении к утверждениям. Но, похоже, существует довольно простой и адекватный способ измерения степени сложности различных видов абстрактных шаблонов. Минимальное количество элементов, из которых должен состоять экземпляр шаблона, чтобы продемонстрировать все характерные атрибуты рассматриваемого класса шаблонов, по-видимому, обеспечивает однозначный критерий» (Hayek 1967, p. 25).
Сложность отдельного смысла определяется величиной минимального действия, необходимого для воспроизводства этого смысла. Человек как продукт культуры также является смыслом. Возрастание культурного опыта, который необходимо передать, означает возрастание сложности человека. С каждым поколением возрастает минимальное действие, необходимое для воспроизводства человека как культурного существа, возрастает сложность обучения.
Сложность минимального действия сходится к энтропии его источника, то есть минимального субъекта. Как мы видели выше, сложность общества-культуры определяется количеством альтернативных смыслов (контрфактов), которые оно может генерировать. Вместе с тем, сложность общества-культуры определяется величиной минимального действия, необходимого для его воспроизводства. Энтропия общества-культуры как источника сообщений, или (контр)фактов, приблизительно равна средней сложности всех возможных сообщений от этого источника:
«Энтропия Шеннона – свойство источника информации. Есть много возможных сообщений, каждое со своей вероятностью. Энтропия измеряет размер этой вселенной возможностей. Напротив, алгоритмическая энтропия имеет смысл для любой конкретной строки битов. Сами строки могут иметь большее или меньшее информационное содержание в зависимости от того, требуют ли они более длинного или более короткого описания. Две энтропии связаны друг с другом. Для источника, который производит двоичные последовательности, энтропия Шеннона является приблизительным средним значением алгоритмической энтропии, если взять среднее значение по всем возможным последовательностям, которые может создать источник: H ≈ ave(K). Энтропия Шеннона – это способ оценки алгоритмической энтропии в среднем» (Schumacher 2015, p. 231).
Иными словами, сложность смысла, измеренная в культурных битах, в среднем сходится к энтропии человека как источника (контр)фактов. Как говорил Протагор, «мера всех вещей – человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют» (Платон 1990-1994, т. 2, с. 203). Минимальный субъект – это мера сложности человека, то есть неопределенности, непредсказуемости, неожиданности, случайности его произведенных и непроизведенных действий. Минимальный субъект является и источником, и продуктом минимального действия, и вместе с самим минимальным действием образует минимальный смысл.
Историческое возрастание сложности общества-культуры проявляется и в увеличении количества (контр)фактов, которые оно может генерировать, и в увеличении минимального действия, необходимого для воспроизводства отдельного смысла. Переход от культурного отбора, основанного на смене поколений людей и их смыслов, к традиционному выбору, основанному на смене смыслов в рамках одного и того же поколения людей, увеличил и энтропию источника (контр)фактов, и их сложность.
Применяя достижения теории информации к культуре, необходимо учитывать различие между понятиями «информация» и «смысл». Информация – это упорядоченность вообще, определенность, ее мерой является уменьшение неопределенности. Единицей измерения количества информации является бит, «1» или «0». В отличие от информации, смысл – это направленная определенность, то есть определенность, действующая и изменяющаяся в некотором направлении. Примером направленной определенности являются эволюция живого и культурная эволюция (эволюция смыслов). Человек перерабатывает информацию (определенность) в смысл (опосредованную, то есть направленную определенность), сопоставляя информацию с потребностями. Единицей измерения количества смыслов является культурный бит – не только «1» или «0», но и «+» или «–». Смысл – это информация в действии человека:
«Упорядоченные структуры и паттерны, которые мы осознаем наиболее непосредственно, – это те, что находятся в нашем собственном разуме, теле и поведении, но практически все люди твердо убеждены в том, что этим паттернам разума и тела соответствуют схожие паттерны в том, что можно назвать “реальным миром”» (Boulding 1985, p. 9).
Вместе с тем, смысл не сводится к мыслительному действию, к работе с абстракцией. Мышление – это не взаимодействие со смыслами как некими «надмировыми» сущностями. Отдельный смысл – это действие и результат действия. Сравнение смыслов между собой позволяет выделить в них общие и особенные свойства. Часы – это прибор для измерения времени. Но это общее свойство – быть часами – не существует само по себе. Оно существует лишь во множестве действий людей, связанных с часами. Абстракция часов становится смыслом лишь в действии – например, когда вы читаете и обдумываете слова, написанные в этой книге.



