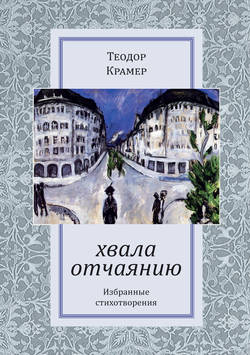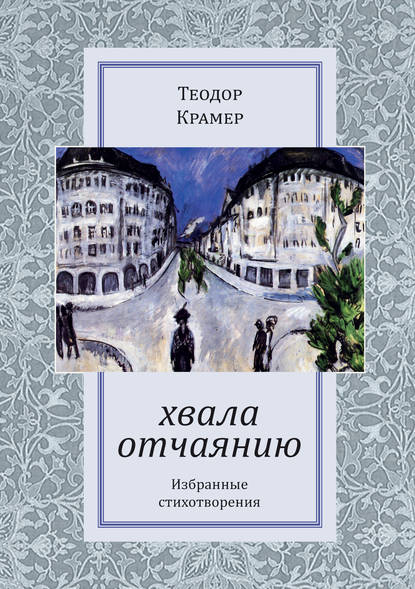Шрифт:
-100%+
Из сборника «Условный знак»
(1929)
Внаймы
Я ушел из города по шпалам,
мне – шагать через холмы судьба,
через поймы, где над красноталом
одиноко кличут ястреба.
Рук повсюду не хватает в поле;
как-нибудь найдется мне кусок.
Но нигде не задержусь я доле,
чем стоит на пожне колосок.
Если бродишь по долине горной,
средь корчевщиков не лишний ты;
в хуторах полно работы шорной,
всюду в непорядке хомуты.
На усадьбах рады поневоле
ловкой да сноровчатой руке.
Но нигде не задержусь я доле,
чем зерно в осеннем колоске.
Принялись давильщики задело,
потому как холод на носу.
Я гоню первач из можжевела,
пробу снять заказчику несу.
Любо слышать мне, дорожной голи,
отзывы хозяев о вине.
Но нигде не задержусь я доле,
чем сгорает корешок в огне.
1927
Хлеба в Мархфельде
В дни, когда понатыкано пугал в хлеба
и окучена вся свекловица в бороздах,
убираются грабли и тачки с полей
и безлюдное море зеленых стеблей
оставляется впитывать влагу и воздух.
И волнуется хлеб от межи до межи, —
только в эти часы убеждаешься толком,
как деревни малы, как они далеки;
и трепещут колючей листвой бодяки,
лубенея на пыльном ветру за проселком.
Постепенно в пшенице твердеет стебло,
избавляются зерна от млечного сока;
а над ровным простором один верболоз
невысокие кроны вдоль русел вознес,
отражаясь в серебряной глади потока.
Только хлеб в тишине шелестит на ветру
да кузнечик звенит, – вся земля опочила;
лишь под вечер, предвидя потребу косьбы,
деревушки, в прозрачной дали голубы,
на часок оглашаются пеньем точила.
1928
Год винограда
Лоза в цвету – всё гуще, всё нарядней,
долина по-весеннему свежа;
я коротаю год при виноградне,
определен деревней в сторожа.
Почую холод – силу собираю,
зову сельчан, вовсю трублю в рожок:
раскладывайте, мол, костры по краю,
палите всё, что просится в разжог.
Лоза в листве, черед зачаться гроздам,
страшилы позамотаны в тряпье;
меж тыкв уютно греться по бороздам,
лесс налипает на лицо мое.
Харчей промыслю за каменоломней, —
где прячусь я, не знает ни один, —
колени к подбородку, поукромней,
и засыпаю, обхвативши дрын.
Зрелеют грозды, множится прибыток, —
тычины подставляю; где пора,
сметаю с листьев и давлю улиток,
меж тем в долине – сенокос, жара.
Слежу – не забредет ли кто нездешний,
лещину рву, хоть и негуст улов,
грызу дички да балуюсь черешней
и дудочкой дразню перепелов.
Созрели грозды, и летать не впору
объевшемуся ягодой скворцу;
пусть виноградарь приступает к сбору,
а мой сезонный труд пришел к концу.
Всплывает запах сусла над давильней,
мне именно теперь понять дано:
чем урожайней год, чем изобильней,
тем кровь моя зрелее, как вино.
1927
В лёссовом краю
Под листвою – стволы, под колосьями – лёсс,
под корнями – скала на скале;
вот и осень: от ветра трещат кочаны,
и соломинки клевера в поле черны, —
изначальность приходит к земле.
Что ни русло – обрыв, что ни устье – овраг
(только чахлая травка вверху);
проступают в кустарниках древние пни,
и буреют утесы, как будто они
лишь сегодня воздвиглись во мху.
Створки древних моллюсков под плугом хрустят
в темном мергеле, в лёссе, в песке;
под побегами дремлет гнилая сосна,
виноградник по склонам течет, как волна,
и кричит коростель вдалеке.
1927
Последнее странствие
Бродяжничество долгое мое!
К концу подходит летняя жара.
Пшеница сжата, сметано стожье
и в рост пошли по новой клевера.
Благословенны воздух и простор!
Орляк уже не ранит стертых ног;
рокочет обезъягодевший бор,
и вечером всё чаще холодок.
Я никогда не ускоряю шаг,
не забредаю дважды никуда;
мне всё одно – ребенок и батрак,
кустарник, и булыжник, и звезда.
1927
Последняя улица
Эта улица, где громыхает трамвай
по булыжнику, словно плетется спросонок
прочь из города, мимо столбов и собак,
мимо хода в ломбард, мимо двери в кабак,
мимо пыльных акаций и жалких лавчонок.
Мимо рынка и мимо солдатских казарм,
прочь, туда, где кончаются камни бордюра,
далеко за последний квартал, за пустырь,
где прибой катафалков, раздавшийся вширь,
гроб за гробом несет тяжело и понуро.
И в конце, на последнем участке пути,
вдруг сужается, чтобы застыть утомленно
у ворот, за которыми годы легки,
где надгробия и восковые венки
принимают прибывших в единое лоно.
1928
Условный знак
Проселком не спеша бреду.
Гадючий свист на пустыре.
Поди-ка утаи нужду,
дыра в одежке на дыре.
Так от дверей и до дверей
бреду с утра и до утра
и только горстку сухарей
прошу у каждого двора.
А кто не даст ни крошки мне,
того нисколько не браню,
рисую домик на стене,
а сверху дома – пятерню.
Здесь не хотели мне помочь —
смотрите, вот моя рука.
Заметят этот знак и в ночь
сюда подпустят огонька.
1927
«Если хочет богадельщик…»
Если хочет богадельщик
наскрести на выпивон,
то, стащивши из кладовки
инструменты и веревки,
на пустырь выходит он.
Там, где падаль зарывают,
можно выкопать крота.
Воронье орет нещадно
и, хотя уже прохладно,
голубеет высота.
Богадельщик в землю тычет
то лопатой, то кайлой,
он владельца шкурки гладкой
зашибает рукояткой,
чтобы сразу дух долой.
Опекун скандалить станет —
нализались, подлецы!
С кротолова взятки гладки,
лишь винцо шибает в пятки
хмелем затхлой кислецы.
1927
Ужин
Над домом вечер тяжко сник.
Скоблит колоду ученик
и соскребает со столов
ошметья сала и мослов.
Шумят в пекарне за стеной,
повсюду тяжкий дух мясной,
рабочий фартук, кровью сплошь
загваздан, стал на жесть похож.
Он замер с тряпкою в углу;
он видит, как бредет к столу
мясник – старик, но будь здоров —
и двое старших мастеров.
Зовут: мол, скромника не строй.
На блюде – шкварки; пир горой.
Хозяйский пес слюну пустил.
Тут парню не хватает сил.
Он видит тучи синих мух,
он чует хлева смрадный дух.
Блестит прилавок, словно лак,
рука сжимается в кулак.
Один из младших мясников
глядит на парня: ишь каков, —
и, поучить решив уму,
дает затрещину ему.
Багровый след во всю скулу;
парнишка тащится к столу
и там, себя в руках держа,
глядит на лезвие ножа.
1927
Кровать
И после скитаний, и после труда,
днем, вечером, ночью – короче, всегда
с терпеньем кровать ожидала меня,
собой половину жилья утесня.
От сырости и от мороза не раз
спасал меня этот подгнивший матрас,
хотя с голодухи качало порой,
хотя надувался водою сырой.
Но, видно, пришли окаянные дни —
торчат у стены только козлы одни.
О место, где прежде стояла кровать, —
здесь женщинам долго уже не бывать!
Укрой, схорони! Возврати мне мечту,
мой потный матрас у меня в закуту.
Ложусь и в отчаяньи пробую я
дождаться шарманщика Небытия.
1927
Мотыга, заступ, долбня
На двор нисходит вечер, и почти
совсем темно становится в клети.
Запылены, в последнем свете дня
стоят мотыга, заступ и долбня.
Мотыга не ходила со двора,
картошку рыла с самого утра.
Хозяйка с ней весь день трудилась впрок,
и вот мешки набиты по шнурок.
И заступ тоже чести не ронял,
он целый день дорогу починял.
Его под вечер, вымотан всерьез,
хозяин сгорбленный сюда принес.
В карьере наработалась долбня,
мельчила честно крошево кремня.
На небе день как раз сменился тьмой,
хозяйский сын долбню принес домой.
Домой вернулись трое, все в пыли,
свой инвентарь, понятно, принесли.
Семья в дому, и дремлют взаперти
мотыга, заступ и долбня в клети.
1927
Комнатный маляр
Покрасил много комнат я —
и нынче тем же занят;
бывает, выйду из жилья —
вмиг неуютно станет,
На потолочных балках грязь,
проела плесень дранку;
всего-то дел – грунтуй да крась,
передвигай стремянку.
Стена под краскою густой
шипит и пузырится,
и пахнет от ведра бедой,
глинтвейном и корицей.
Пусть ваша выберет семья:
что в спальне, что в гостиной;
покрасил много комнат я —
не жил бы ни в единой.
1927
Песня по часам
К восьми над рынком – тишь, теплынь;
как сода, день истаял в синь;
в навозе тонут воробьи,
сидит громила в забытьи
у стойки.
Сойдется в десять цвет пивнух,
в гортань ползет коньячный дух;
товар панельный в сборе весь,
но за деньгой в карман не лезь —
обчистят.
Вот полночь: наползает мрак,
кто мерзнет – нюхает табак;
наизготовку – сталь ножа,
от жалости к себе дрожа,
раскиснешь.
Горчинка – два часа утра,
для шлюх – последняя пора.
Вконец пустеет тротуар.
Плати: додешевел товар
до точки.
Четыре: день недалеко;
хлеб вынут, скисло молоко,
бредет домушник и, журча,
течет пьянчужечья моча:
о Боже.
1927
Двое затравленных
Мой братец Мойше Люмпеншпитц,
ответь: ну почему
ты удавился, – чтобы
теперь меня трясло бы
средь улиц и в дому?!
Я опасался за тебя:
торгуя, ты молчал,
был очень независим,
но груды злобных писем
так часто получал.
Ты стал, как зверь в своей норе,
и дик, и одинок:
ты вздрагивал от звона
злодея-телефона
и трубку снять не мог.
Ты дверь на стук не открывал, —
о, ты хлебнул с лихвой;
тряслись мои поджилки,
но я носил посылки
в дом зачумленный твой.
А что лежало, Мойше, в них,
ну что за чепуха?
В четверг – хвосты крысиные,
а в пятницу – гусиные
гнилые потроха.
Я слух воскресный счел одной
из худших небылиц, —
кто мог бы знать заране?
Повесился в чулане
ты, Мойше Люмпеншпитц.
Со страху, Мойше Люмпеншпитц,
легко в удавку влезть.
Кровь холодеет в жилах,
и я давно не в силах
не выпить, ни поесть.
Ты был со мной, я был с тобой;
ответь: ну почему
ты удавился, – чтобы
взамен меня трясло бы
средь улиц и в дому?!
1927
Рента
Джон Холмс и Билл, его сынок,
уютно жили; шла
по почте рента Джону в срок —
тридцатого числа.
Случился грустный номер —
родитель взял да помер;
такие вот дела.
«Джон Холмс, я так тебя любил;
без ренты мне – беда!»
И вот папашу робкий Билл
обклал кусками льда.
Заклеил щели, фортки,
темнела в белом свертке
отцова борода.
Билл закупал двоим еду —
отец хворает, чай.
Воняло, – Билл на холоду
варганил завтрак, чай.
А почтальон клиенту
носил всё ту же ренту:
ну что ж, хворает, чай.
Уже зима невдалеке,
а Холмсы всё вдвоем,
Билл – в уголке, Джон – в леднике,
и каждый – при своем.
На дверь, на стены, на пол
сынок духов накапал
и замерзал живьем.
«Джон Холмс, – шептал ночами Билл, —
любимый мой отец!
Тебя я вовсе не убил,
мне жаль, что ты мертвец.
Не зачервивь, не надо,
ведь я рехнусь от смрада,
коль ты сгниешь вконец».
И все-таки пришел каюк
терпению сынка.
Джон Холмс во всё, во всё вокруг
проник исподтишка…
Нашли висящим Билла;
и рента, видно было,
торчит из кулака.
1927
Отчет по поводу смерти торговца-надомника Элиаса Шпатца
I
Элиас Шпатц – умелый оптовик.
Вот он идет домой; он небогат,
тут мыло штабелями – он привык:
еще чего – платить деньгу за склад?
Но день еще не кончен, как назло;
отмыть непросто потные следы,
и ящики ворочать тяжело,
чтоб взять из рукомойника воды.
II
Гешефт сегодня – ничего себе;
пусть пахнут мылом небо и земля, —
Элиас Шпатц к себе приводит «бэ»,
и надо проползти за штабеля.
Элиас Шпатц, да ты герой на вид!
Разденься да в постель скорее влезь!
Но девка всё испортить норовит:
«Элиас Шпатц, чем так воняет здесь?»
III
Элиас Шпатц удачлив, потому
растут запасы у него в гнезде;
но лишь для мыла место есть в дому.
Раздеться бы, умыться – только где?
Элиас Шпатц, окончивши дела,
идет в кабак топить тоску в питье,
но сливовица мало помогла:
замерз под утро в парке на скамье.
1927
Из сборника «Календарь»
(1930)
О великом холоде накануне нового 1929 года
На Святого Стефана[1] пришли снегопады,
завалило распадки, дома, палисады,
и над плавнями, белый настил распуша,
стекленела и стыла стена камыша.
Встала стужа, колодцы до дна проморозив,
у саней отставала оковка полозьев;
старики говорили, что, мол, никогда
не случалось такие видать холода.
Ветер льдисто хрустел в человеческом горле,
батраки простужались и наскоро мерли;
задубевший, обглоданный труп оленька
отыскался у самых дверей кабака.
Звезды, вестники долгой морозной погоды,
озирали озимых убитые всходы,
виноградники, сгинувшие в холоду,
и озерную гладь, что лежала во льду.
В полыньях, не умея добраться до суши,
били крыльями и примерзали крякуши,
и любой, кто решался дойти по снежку,
их легко набирал в камышах по мешку.
1929
Зимняя оттепель
Выдается тепло в середине зимы:
застилается всё пеленой дождевою,
оживают ручьи этой странной порой,
и топорщится жнива стернею сырой,
и гуденье идет сквозь еловую хвою.
Отступают снега, и увидеть легко,
как под паром покоятся мрачные зяби,
как на старых покосах гниют клевера,
как погрызена зайцами в рощах кора,
ибо дочиста съелись остатки кольраби.
Сучья, стужей отбитые, наземь летят;
свекловица, что на поле сложена с лета,
раскисает и пенится бурт за буртом,
чтобы смрадом горячим окутать потом
чуть обсохшие ветви кустов бересклета.
Что ни день, то хозяйству разор да урон —
мокнут ветошь и пакля под черной соломой;
от села до села – непролазная грязь,
и в тумане плывет, всё мрачней становясь,
солнца, странно разбухшего, шар невесомый.
1928
Затопленная земля
От весеннего ветра чернеют луга,
постепенно темнеют и тают снега,
но канав не хватает; кипя и бурля,
набухает растаявшим снегом земля
и уходит под полую воду.
Дамбы хмуро застыли по горло в воде,
вся равнина блестит, – лишь межа кое-где
разрезает на ломтики мутную гладь;
крест над церковью будет в закате пылать,
осеняя весеннюю воду.
Далеко друг от друга стоят хутора,
через ил продираются лодки с утра;
воздух сладок и тих, и чиста синева,
ветер гонит волну, и густая трава
прорастает сквозь мутную воду.
1930
Майские костры
Приходит май, и в час ночной
чисты над кряжем небеса;
но ударяют холода,
и вот кристалликами льда
впотьмах становится роса.
Протяжно рогу вторит рог,
тревогою звучат они;
спешат на склоны сторожа,
и разгораются, дрожа,
вкруг виноградников огни.
Затем в долины дым ползет,
отходит холод в высоту,
огонь мужает, – вот уже
теплеет от межи к меже,
где дремлют дерева в цвету.
Туманя кипень лепестков
высоких, озаренных крон,
спасенье гроздьям молодым
приносит сладковатый дым,
струящийся со всех сторон.
1929
Светлое время
Повсюду стало так светло,
краснопогодью нет конца,
и в отдаленье тяжело
грохочет молот кузнеца.
Вьюнком оделась городьба;
с утра отец и старший сын
сходили глянуть на хлеба,
гумно готовят и овин.
Батрак перестелил крыльцо,
передник вздел и чинит воз,
медлительно, заподлицо
клепает ободы колес.
Батрачка, выйдя за порог,
скоблит кувшин очередной;
хозяйка мастерит пирог
с перекопченной ветчиной.
Уже опростана подклеть
от вялых, сморщенных картох;
теперь бы солнышку пригреть,
чтоб клубень посевной подсох.
Весенний дух царит в дому,
и в погребе, и в кладовой,
и близок, ясно по всему,
черед работы полевой.
1928
Летние тучи
В самый жар, в тишине разомлевшего дня,
на мгновение солнце закатится в тучи,
и мрачнеют луга, и, во мгле возлежа,
долговязой крапивой трепещет межа,
и ознобом исходят окрестные кручи.
Обрывается в роще долбежка желны,
колокольцы отары молчат виновато;
лишь ракитовый куст зашумит невзначай
да протянется к небу сухой молочай,
увязающий комлем в земле кисловатой.
Выступает тягучими каплями сок
на репейниках в каждой забытой ложбине;
всё дряблее межа, бузина всё мертвей,
как чешуйки, жучки опадают с ветвей
и, запутавшись, мухи жужжат в паутине.
Даже осенью почва куда как жива
по сравнению с этой минутой в июле;
прогибаются тучи, и видно тогда,
как в забытом пруду загнивает вода,
где на ряске стрекозы от зноя уснули.
1928
Облава
Стерня почерствела на бедных покосах,
жухлеют и сухо шуршат ковыли;
и столб межевой, будто нищенский посох,
торчит одиноко в прибитой пыли.
Пичуги кричать начинают с рассвета,
кустарник неспешно скудеет листвой;
никак не кончается долгое лето,
всё блещет в осоках густой синевой.
Еще и не пахнет осеннею стужей,
но вызрел шуршащий в коробочках мак,
но слышится лязг заряжаемых ружей,
но лают заливисто своры собак,
но ругань веселая рвется из глоток,
сужаются кругом следы сапогов;
взлетают дымки, и под грохот трещоток
топорщится шерсть обреченных лугов.
Над полем буреющим – тьмы перепелок,
к подранкам по выстрелу мчат сеттера,
и кроличий бег хоть и быстр, да недолог —
для гончих в привычку такая игра.
И солнце слепит, и подходит охота
к концу… Вот и выстрелы смолкли вдали,
и запахи пороха, крови и пота
смешались с туманом вечерней земли.
1928
«Вот-вот желтизной озарятся отавы…»
Вот-вот желтизной озарятся отавы,
для солнца последние сроки прошли,
цветы облетели, повыцвели травы
и ждут возвращения в лоно земли.
Солома по кромке лесов изветшала,
орляк зачервивел за несколько дней,
топорщится, будто гнилое мочало,
на пахоте ворс пересохших корней.
Покривлены межи, затоптано всполье,
в стерне шебуршит полевое зверье;
угрюмо скрипит на ветру частоколье,
и шершень в гнездо заползает свое.
Ежи в терновище готовятся к спячке,
у рытвин покрыто испариной дно;
полевки по-тихому тащат в заначки
стручки и забытое в поле зерно.
Еще доцветают вьюнки у калиток,
но скоро и жниво, и жухнущий луг,
лишая прибежища сонных улиток,
распорет на комья безжалостный плуг.
Налеплены соты, курятся лощины,
с рассвета одета в ледок борозда;
рыжеют холмы, и на выгон общинный
в недальнее время сойдут холода.
1928
Зима зимой
В окошках потускнели стекла,
погасли угли очага;
тропа раскисла и размокла
покрылись копотью снега.
Порыву ветра с луговины
не разогнать рассветной мглы;
зайчатами до сердцевины
в саду обглоданы стволы.
Ничто не шелохнет украдкой,
простыл тепла последний след;
мороз вцепился мертвой хваткой
и на него управы нет.
1928
Из сборника «Трясинами встречала нас Волынь»
(1931)
«Когда на фронт мы ехали мы ехали впервые…»
Когда на фронт мы ехали мы ехали впервые
в вагоне для рогатого скота,
нам так мешки мешали вещевые,
нас так томили вонь и духота.
В петлицах вяли пошлые цветочки, —
попробуй-ка в теплушке не сопрей;
и теребили мы поодиночке
пайковые пакеты сухарей.
Мы видели меж досок временами
то изгородь, то дом, то сеновал,
рукой подать до воли, – но за нами
надзор, понятно, не ослабевал.
Хотя и был просвет обидно тонок,
но с жадностью глядели мы, юнцы,
на сказочные лакомства лавчонок —
сухие крендельки и леденцы.
Лишь осознав, что избежать не можем
дороги этой, под покровом тьмы,
устав и в месте облегчась отхожем,
помалу успокаивались мы.
Затем, свернувши валик плащ-палатки,
устроившись на ледяном полу,
ныряли мы, играя с жизнью в прятки,
в забвение и радостную мглу.
1930
«Угрюмо сорняком обсажен черным…»
Угрюмо сорняком обсажен черным,
дремал в долине переложный луг,
неспешно заволакивался дерном,
и с голоду над ним орал канюк.
Дотаял снег и обнажил суглинки —
все борозды, что некому полоть;
как жалкий ворс, топорщились травинки,
а воздух всё светлел до мая вплоть.
Пока не приключился день дождливый;
для сорняков настала благодать:
понаросло полыни и крапивы,
да так, что даже почвы не видать.
Цвела пастушья сумка, стебли спутав,
грубел чертополох, и без конца
висел над логом крик сорокопутов,
расклевывавших заросли горца.
В осиных гнездах умножались соты;
неукротимо крепли сорняки,
и местности обычный дух дремоты
навеивали только сосняки.
Осотом щеголял любой пригорок,
кружили семена и мошкара,
и диковато, как полночный морок,
смотрели из лощинок хутора.
1929
Разоренные земли
Проделав марш средь сосняков на кручах,
мы очутились в выжженной стране,
где в проволоках рваных и колючих
торчала головня на головне.
Лишь очень редко стебелек пшенички
вдали качал метелкою простой;
и как-то неохотно с непривычки
мы приходили в хаты на постой.
Там жили полнотелые русинки
к одним в придачу дряхлым старикам,
война, однако, провела морщинки
по женским лбам, и шеям, и щекам.
И если кто из нас до икр дебелых
оказывался чересчур охоч,
то видел, как ряды цепочек белых,
гирлянды вшей, в траву сбегали прочь.
Нелегкий путь безропотно протопав,
в палатках засыпали мы вповал,
а свет луны тянулся до окопов
и никаких границ не признавал.
Лишь не спалось в хлевах голодным козам,
они до рани блеяли с тоски,
покуда легким утренним морозом
нам ветер не прихватывал виски.
1929
«Трясинами встречала нас Волынь…»
Трясинами встречала нас Волынь,
пузырчатыми топями; куда
ни ткни лопатой, взгляд куда ни кинь —
везде сплошная цвелая вода.
Порою тяжко ухал миномет,
тогда вставал кочкарник на дыбы,
из глубины разбуженных болот
вздымались к небу пенные столбы.
Угрюмый профиль вязовой гряды
стволами оголенными темнел
у нас в тылу, и черный блеск воды
орудиям чужим сбивал прицел.
Позиция была почти ясна.
Грязь – по колено; яростно дрожа,
сжирала черной пастью глубина
все робкие начатки дренажа.
В нее, как в прорву, падали мешки,
набитые песком; и отступил,
покуда кровь стучала нам в виски,
кавалерийский полк в глубокий тыл.
Мы пролежали до утра плашмя,
держась над черной топью навесу,
и до утра, волнуя и томя,
пел ветер в изувеченном лесу.
1929
«Мы улеглись на каменной брусчатке…»
Мы улеглись на каменной брусчатке
в потемках очень тесного двора,
где фуры громоздились в беспорядке.
Вдали угрюмо ухали с утра
орудия, – но сколько там ни ухай,
однако нас на отдыхе не тронь;
и мы лежали, с вечера под мухой,
вдыхая застоявшуюся вонь.
А в лоджиях, со сна еще не в духе,
лишь наскоро перестирнув белье,
почти что нагишом сновали шлюхи
и напевали каждая свое.
И лишь одна – на самом деле пела,
да так, что хмель бродящего вина
выветривался напрочь; то и дело
покачивала туфелькой она.
И, чем-то в песне, видимо, волнуем,
пусть ко всему привыкший на войне,
вдруг встал один из нас и поцелуем
почтительно прильнул к ее ступне;
гром пушек нарастал, но, встав с брусчатки,
мы тот же самый повторили жест,
смеясь, и вновь легли на плащ-палатки
в потемках, растекавшихся окрест.
1930
1. 26 декабря.
Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?
Издательство:
Водолей