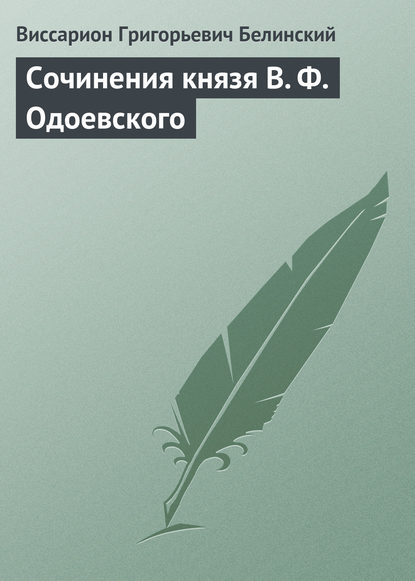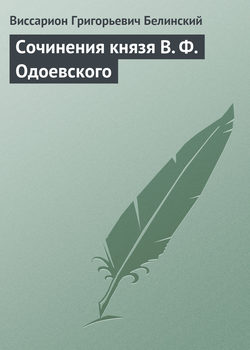
000
ОтложитьЧитал
Пьесы: «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi»[2], «Последний квартет Бетховена», «Импровизатор» и «Себастиан Бах» образуют собою особенную серию дидактических произведений, и все они возбудили при своем появлении большое внимание. В них развивается какая-нибудь или психологическая мысль, или взгляд на искусство и художника. Первая из пих – «Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi» есть – кто бы мог подумать? – апофеоза сумасшествия!.. Ибо что другое, как не желание апофеозировать сумасшествие, могло заставить автора взять на себя труд представить архитектора, который помешался на мысли строить здания из гор, переставлять горы с места на место и делать тому подобное?.. Такое состояние, по нашему мнению, отнюдь не показывает гениальности, но, напротив, свидетельствует о слабой нервической натуре, которая не выдерживает тяжести разумной действительности, – и Пиранези, таков, каким представляет его князь Одоевский, достоин жалости, как всякий сумасшедший, но не внимания, как всякий замечательный человек. Гений творит великое, но возможное; о громадном, но невозможном может мечтать только расстроенная и болезненная фантазия. – В «Импровизаторе» прекрасно развита мысль о бесплодности и вреде знания, приобретенного без труда и усилий, как источнике самого пошлого и тем не менее мучительного скептицизма, результатом которого всегда бывает искреннее примирение с пошлостью внешней жизни. «Себастиан Бах» – род биографии-повести, в которой жизнь художника представлена в связи с развитием и значением его таланта. Это скорее биография таланта, чем биография человека. Она вводит читателя в святилище гения Баха и критически знакомит его с ним. Жизнь Себастиана Баха изложена князем Одоевским в духе немецкого воззрения на искусство и немецкого музыкального верования, которое на итальянскую музыку смотрит, как на раскол, которое, вместе с этим гениальным и простодушным старинным мастером, боится лучшего в мире музыкального инструмента – человеческого голоса, – как слишком исполненного страсти, профанирующей искусство в той заоблачной и по тому самому несколько холодной сфере, в которой эксцентрические немцы хотят видеть царство истинного искусства. Однако это нисколько не мешает поэтической биографии Себастиана Баха быть до того мастерски изложенною, до того живою и увлекательною, что ее нельзя читать без интереса даже людям, которые недалеки в знании музыки. Это значит, что в ней автор коснулся тех общих сторон, которые и в музыканте прежде всего показывают художника, а потом уже музыканта.
«Imbroglio»[3], «Сильфида», «Саламандра», «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия», «Княжна Мими» и «Княжна Зизи» – все эти пьесы образуют собою ряд повестей собственно. Лучшая между ними и одно из лучших произведений князя Одоевского есть «Княжна Мими». Несмотря на ее нисколько не лирический характер, она верна тому направлению таланта автора, которое мы столько уважаем и которое мы видим в его пьесах «Бригадир», «Бал» и «Насмешка мертвеца». Это мастерски написанная картина из светского быта. Содержание ее очень просто: гибель прекрасной женщины, которую ожидало счастие вдвоем и которая вполне была достойна этого счастия, – гибель этой женщины от сплетни, сочиненной старою девою. Верный своему направлению, автор выводит наружу внутренний пафос повести в этих немногих, но пророчески-обличительных словах: «Есть поступки, которые преследуются обществом: погибают виновные, погибают невинные. Есть люди, которые полными руками сеют бедствие, в душах высоких и нежных возбуждают отвращение к человечеству, словом, торжественно подпиливают основания общества, – и общество согревает их в груди своей, как бессмысленное солнце, которое равнодушно всходит и над криками битвы и над молитвою мудрого». Но героиня повести, княжна Мими, не принесена автором в жертву моральности: он раскрывает перед читателями те неотразимые причины, вследствие которых она должна была сделаться злою сплетницею; он показывает, что гораздо прежде, нежели она начала подпиливать основы общества, это общество сгубило в ней все хорошее и развило все дурное. Она была старая дева и знала, что такое «тихий шепот, неприметная улыбка, явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства или имела слишком много благородства, чтоб продать себя в замужство по расчетам». Превосходный рассказ, простота и естественность завязки и развязки, выдержанность характеров, знание света делают «Княжну Мими» одною из лучших русских повестей.
Повесть «Княжна Зизи» уступает в достоинстве повести «Княжна Мими», – что, однако ж, не мешает и ей быть интересною и занимательною. Основная идея – положение в обществе женщины, которая, по своему сердцу, по душе, составляет исключение из общества и дорого платит за свое незнание людей и жизни, которым слишком доверялась, потому что судила о них по самой себе.
«Сильфида» принадлежит к тем произведениям князя Одоевского, в которых он решительно начал уклоняться от своего прежнего направления в пользу какого-то странного фантазма. Отсюда происходит то, что с сих пор каждое из его произведений имеет две стороны – сторону достоинств и сторону недостатков. Пока автор держится действительности, его талант увлекателен по-прежнему и проблесками поэзии и необыкновенно умными мыслями; но как скоро впадает он в фантастическое, изумленный читатель поневоле задает себе вопрос: шутит с ним автор или говорит серьезно? Герой повести «Сильфида» очень занимает нас, пока мы видим его в простых человеческих отношениях к людям и жизни; но наше участие к нему, несмотря на искусство и высокий талант автора, тотчас погасает, как скоро он начал отыскивать какую-то Сильфиду на дне миски с водою и бирюзовым перстнем. Автор (сколько можем мы понять при нашем совершенном невежестве в делах волшебства, видений и галлюцинаций) хотел в герое «Сильфиды» изобразить идеал одного из тех высоких безумцев, которых внутреннему созерцанию (будто бы) доступны сокровенные и превыспренние тайны жизни. Но, увы! уважение к безумцам давно уже, и притом безвозвратно, прошло в просвещенной Европе, и вдохновенных сантонов{12} уважают теперь только в непросвещенной Турции!.. Точно то же можно сказать и о двух больших повестях, которые, впрочем, не особые повести, а две части одной и той же повести – «Саламандра» и «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия». Тут есть прекрасные картины быта финнов, прекрасная финская легенда о борьбе Петра Великого с Карлом XII-м; есть картины русского быта при Петре Великом и вскоре после него; есть удачные очерки характеров; сама эта полудикая Эльса, в противоположности с образованною Марьею Егоровною, так интересна… Но Саламандра, ее роль в повести, разные магнетические и другие чудеса, искания философского камня и обретение оного, – все это было для пас непонятно; а чего мы не понимаем, тем не можем и восхищаться…{13} Притом же мы имеем глубокое и твердое убеждение, что такие пружины для возбуждения интереса в читателях уже давно устарели и ни на кого не могут действовать. Теперь внимание толпы может покорять только сознательно разумное, только разумно действительное, а волшебство и видения людей с расстроенными нервами принадлежат к ведению медицины, а не искусства. И что было плодом этого нового направления князя Одоевского? – «Необойденный дом», в котором едва ли что-нибудь поймут как образованные люди, не для которых писана эта странно-фантастическая повесть, так и простолюдины, для которых она писана и которые, вероятно, никогда не узнают о ее существовании!..{14}