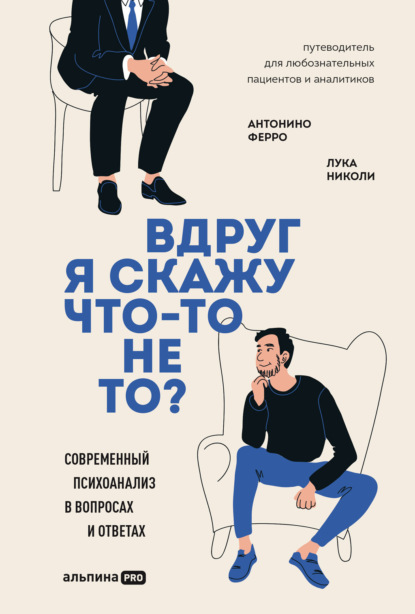Вдруг я скажу что-то не то? Современный психоанализ в вопросах и ответах
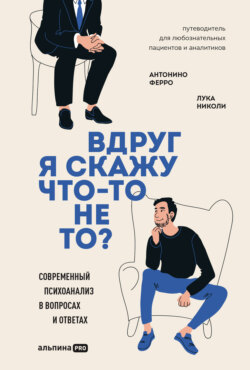
000
ОтложитьЧитал
Почему же тогда я беру деньги? Как и многие мои коллеги, я предлагаю оплатить ту работу, от которой мне приходится отказаться, чтобы иметь возможность заниматься психоанализом. Если я перестану зарабатывать таким образом, то буду вынужден делать что-то другое. У меня раньше был такой опыт: восемь часов на основной работе плюс пара часов психоанализа по вечерам. Я беру деньги не за итоги конкретной сессии, а за возможность посвятить себя этой профессии. У меня нет бизнеса, накоплений, наследства и прочих доходов. При этом я должен оплачивать чеки мясника и булочника. Для этого я беру деньги.
– Насколько я знаю, вы поклонник фантастического сериала «Звездный путь». Давайте представим, что где-то в другой реальности доктор Ферро – выходец из очень богатой семьи. Мне страшно представить сколько улыбок и рукопожатий стоит его услуга.
– Не забывайте о том, что пациент тоже исцеляет аналитика! Ситуация не на сто процентов обоюдная, но c точки зрения психического развития большое количество сессий почти всегда идет аналитику на пользу.
– В чем именно польза от терапии для аналитика?
– Это все равно что спросить в населенном бактериями мире, какую пользу получает врач от антибиотиков. Я думаю, что регулярная аналитическая практика развивает инструменты мышления. При этом следует быть осмотрительным, потому что слишком высокая интенсивность может приводить к сбоям.
В таких случаях возникает профессиональный вопрос: «Как сохранить свою психику живой и подвижной?» На мой взгляд, восстановление происходит в свободное от работы время, когда мы занимаемся чем-то, кроме анализа.
Аналитик должен жить и накапливать опыт. Хорошо, когда есть вторая работа: магазин морепродуктов, мясная лавка или должность врача в госпитале, и он может заниматься чем-то, кроме психоанализа, как это было раньше, хотя на это часто не хватает времени. Очень полезно посвящать несколько часов в неделю ничегонеделанию, чтобы позволить разуму свободно парить. Ничегонеделание – это настоящее искусство. А затем возвращаться к увлекательной и трудной работе, потому что каждый пациент – это бесконечное пространство для исследования, а анализ другого – всегда одна из форм самоанализа.
Аналитик должен культивировать все, что приносит ему удовольствие: читать книги, смотреть фильмы, рисовать и, конечно, просто жить: готовить еду, убирать квартиру, выяснять отношения с подружкой, вместе смотреть на горизонт.
– Говорят, что самое распространенное заболевание среди аналитиков – это депрессия, а лечатся от него пациентами. Это действительно так?
– Думаю, да. Аналитики часто зависят от пациентов. В том смысле, что чувствуют себя плохо, когда записей нет, и хорошо – когда они есть. На мой взгляд, аналитика должна настолько устраивать его личная жизнь, чтобы он был готов завязать с психоанализом, выиграв в лотерею два миллиона долларов. Я против такой формы зависимости, когда больной нужен для того, чтобы чувствовать себя здоровым.
Аналитик должен быть счастлив – в пределах возможного! Замечу, и в сексуальном плане тоже. Иначе возможны проблемы. Он должен радоваться выходным или пропускам пациентов, чтобы заняться другим интересным делом: съесть мороженое или купить книгу. Страдать в отсутствие пациента недопустимо.
– Вы сравнили психоанализ с антибиотиком. Каковы побочные эффекты терапии?
– Главный побочный эффект хорошо виден на примере диалога с моей старинной подругой. Мы недавно созванивались, и она рассказала о плохих анализах крови своего мужа (из-за низкого содержания железа), а я сразу захотел приехать, потому что подумал: «Ему не хватает Ферро»[12]. Аналитики часто воспринимают все в психоаналитическом ключе. Слышат за дружеским ужином историю о неудачном походе в ресторан, а думают, что критикуют приготовленное ими ризотто. Главный побочный эффект – повсеместное интерпретирование. Иногда нам кажется, что можно интерпретировать все: мир, реальность, будущее, однако это не так. Интерпретировать можно только конкретную сессию.
Однажды, когда я был кандидатом, я стал свидетелем спора двух опытных аналитиков, представителей разных школ. Один утверждал, что бедро лошади на картине Паоло Учелло похоже на женскую грудь. Такое белое и округлое, что в этом просто не может быть сомнений. Другой парировал: «Нет! Взгляни на мышечные волокна. Это определенно пенис!» Помню, я и тогда немало смутился, и до сих пор никак не привык к прикладному психоанализу. В моем понимании этот термин описывает события конкретной аналитической сессии – и ничего более. Конечно, можно повеселиться и начать решать с помощью психоанализа тригонометрические задачи или оценивать искусство, но, боюсь, результат будет напоминать известный анекдот. Ученые после многолетнего исследования картины Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» пришли к выводу, что так может улыбаться женщина, недавно узнавшая, что она беременна. Или – та, которая узнала, что нет.
Я к тому, что у психоанализа есть вполне определенная функция – исцелять психические страдания. Точно так же, как у скальпеля есть функция резать мягкие ткани. Можно ли с помощью скальпеля кроить ткань? Да! Но создан он не для этого. И не забывайте, что использовать скальпель на животах прохожих без их согласия – преступление!
– Давайте обсудим тему налогов. Почти в каждой стране есть нюансы с их оплатой. Я несколько раз поднимал вопрос на публике. Сначала меня встретили овациями, потом указали на деликатность темы, а в третий раз пошутили, что каждый платит налоги в соответствии с требованиями своего супер-эго. Вам есть что сказать или перейдем к следующему вопросу?
– Особенность нашего вида в том, что каждый по-своему интерпретирует окружающую реальность. Мир, в котором хотелось бы жить мне, – это мир, где независимо от профессии все платят налоги пропорционально своему заработку. Я не вижу оснований для каких-либо налоговых преференций. Аналитики наряду с художниками, банкирами, учителями или строителями должны подчиняться определенным правилам. Если ситуация сложится так, что после уплаты налогов вы останетесь с пустыми карманами, здравый смысл подскажет, что делать. Во всех остальных случаях, я считаю, лучше платить. И дело не в каких-то бессознательных смыслах или символизации. Я обязан платить налоги, потому что являюсь гражданином Италии, Греции или Кипра и должен вносить вклад в развитие общества. А еще потому, что существуют контролирующие органы.
Мне импонирует система налогообложения Финляндии. Там платят все и по полной. Наверное, поэтому им доступен бесплатный психоанализ. Столь долго, сколько потребуется, хоть до конца жизни.
Подытоживая, я не считаю профессию аналитика какой-то особенной. Не думаю, что ей требуется налоговая поддержка, и не считаю нужным приплетать сюда супер-эго. Мы платим налоги, потому что обязаны это делать.
3
Начало
– Миссис Ланкастер, у вас есть дежавю?
– Не знаю, но могу посмотреть на кухне.
К/ф «День сурка»(Groundhog Day, реж. Г. Рамис, США, 1993)
ЛУКА НИКОЛИ: Итак, мы переходим к первой встрече пациента и аналитика! В период обучения я не уделял этому этапу особого внимания, потому что интересовался настоящей бурей, которая, как казалось, приходит позднее. Да и в профильной литературе об этом писалось немного. В основном что консультация – «это непродолжительный этап, которому предшествует трансферентный невроз»[13].
АНТОНИНО ФЕРРО: Вы все еще мыслите в рамках трансферентного невроза?
– Я просто цитирую, что читал в то время. Relata refero![14] В общем, начиная собственную практику, я был уверен, что первое время будет несложно. За этим последовала серия неудач. Я стал терять пациентов сразу после первой же встречи и вскоре пришел к полному пересмотру своего отношения к консультации. Осознал ее фундаментальную важность. Вы думаете, консультация – это самостоятельный этап, за которым может последовать терапия, или неотъемлемая часть одного большого процесса?
– Психоаналитическая консультация похожа на первое свидание. Кому-то достаточно одного взгляда, чтобы влюбиться и прыгнуть в постель, а кому-то нужно несколько месяцев только для того, чтобы взяться за руки. Все индивидуально!
Первая сессия очень важна. Если не засорять ее расспросами о симптомах, детстве и прочими заготовками, то можно создать достаточно широкое пространство, в рамках которого пациент почувствует свободу обсуждать то, что планировал, а еще лучше – то, что не планировал – приносить на анализ. Вот это отличное начало!
– А как же анамнез?
– Анамнез не имеет ничего общего с психоанализом! Если, конечно, под словом «психоанализ» понимать процесс взаимодействия двух психик. Полагать, что история болезни играет в этом деле какую-то роль, – чистое безумие. Анамнез нужен психиатру или администратору клиники для предоставления следствию информацию о ее бывшем постояльце, чью сестру недавно убили. Но какая польза от анамнеза психоаналитику? Разговоры о прошлом только сковывают. Позволяют аналитику заручиться гарантией, что скрытая внутри пациента боль не сможет выйти наружу.
Томас Огден прекрасно сформулировал задачу психоаналитика: совместно с пациентом «сновидеть» то, что, не получив в свое время возможности стать сновидением, превратилось в симптом. Думаю, для того чтобы прийти к такому блестящему заключению, бедняге Огдену пришлось прочесть всего Фрейда, Винникотта, а потом еще Кляйн и Биона. Теперь выбор за нами – воспользоваться его достижением или начать все заново. На мой взгляд, к чему тратить время, тем более что Огден прав. Во время анализа симптомы трансформируются в сновидение.
– Если психоанализ – это территория сновидений, то положение лежа на кушетке могло быть выбрано неслучайно. Оно олицетворяет переходную стадию между бодрствованием и сном, фантазией и реальностью. Недавно один мой знакомый, начинающий психоаналитик, решил перейти на кушетку в личной терапии и рассказал об этом своему тренинговому аналитику. На что тот ответил: «Зачем? Кушетка – это не модно!» Отсюда мой первый вопрос: кушетка и правда больше не в моде?
Второй вопрос задаст аналитик на «уницикле». Многие говорят, что положение лежа способствует развитию регрессии, которую сложно контейнировать в условиях низкочастотной терапии, и рекомендуют использовать кушетку только при частоте встреч более трех раз в неделю. Что вы об этом думаете?
– Я думаю так: не попробуешь, не узнаешь! Психоаналитический статус происходящему в кабинете придает не положение тел в пространстве, а факт развития совместного психического функционирования. Лежание на кушетке, равно как и сидение в кресле, само по себе ничего не значит. В каких только обстоятельствах я не принимал пациентов! Был случай, когда пациентка долго сопротивлялась кушетке. Она боялась утратить контроль за происходящим, эмоциями и реакциями аналитика, поэтому первые полгода мы сидели в креслах друг против друга. Однажды я не выдержал и сказал: «Слушайте, мне тяжело! Мы встречаемся четыре раза в неделю, по 50 минут кряду, поэтому, если вы не возражаете, я… развернусь к окну». Пациентка промолчала, я развернул свое кресло (у меня обычное офисное кресло на колесиках) в противоположную от нее сторону. Далее анализ выглядел так: пациентка входила в кабинет, садилась в кресло напротив аналитика, а тот отворачивался от нее. Мне стало легче работать. Спустя полгода пациентка поделилась своими планами по переезду. Она созрела для перемен в своей жизни и хотела подготовить для этого новый дом с более комфортными условиями. Я, конечно, сразу понял о каком переезде идет речь. Переезде на кушетку, чтобы аналитик смог, наконец, занять свое рабочее место! Мы некоторое время обсуждали эту идею, даже наметили день «переезда», и вот, когда он настал… Пациентка вошла в кабинет и села в кресло аналитика. Мой мозг тогда чуть не взорвался от тысячи разных интерпретаций, но я доверился интуиции и не говоря ни слова… лег на кушетку. Далее анализ выглядел так: пациентка сидела в кресле, а аналитик лежал на кушетке. Я говорил, что она много теряет, ведь лежать гораздо удобней, чем сидеть, но пациентка была непреклонна. По прошествии еще шести месяцев в анализе появился сон, в котором ее секретарь-ассистент самовольно захватила кабинет после переезда офиса. Мы долго его обсуждали, и лишь спустя полгода пациентка решилась-таки лечь на кушетку. Итого путь от кресла к кушетке занял у нас около трех лет. И все это время шел хороший, полноценный анализ. Важно уметь поддержать игру!
Не все со мной согласятся, но именно игровой аспект объединяет детский, подростковый и взрослый анализ. Разница в том, что в работе с детьми мы наблюдаем инфантильные аспекты психики, а со взрослыми – то, как они структурируются во времени. Ну и, конечно, в том, что нарушения сеттинга в детском анализе воспринимаются аналитиком намного легче, потому что интерпретируются как способ коммуникации, как игра, а не атака. В остальном все очень схоже. Играть можно во все и со всеми. Игра исцеляет!
Игровой подход не означает отказа от вопросов: «Почему пациент ведет себя именно так? Что это значит?», потому что аналитик должен думать и создавать гипотезы. Что потом с этим делать – отдельный вопрос. Нужно ли озвучивать то, что пришло тебе в голову, зависит от множества факторов.
– Рискну предположить, что Фрейд мог выбрать рабочее место вне поля зрения пациента, например у изголовья кушетки, из-за неспособности выдерживать длительный визуальный контакт. Вы согласны, что кушетка в первую очередь нужна самому аналитику?[15]
– Разумеется! Я убежден, что положение лежа – это лучший вариант терапии для пациента потому, что он максимально удобен для аналитика. Отсутствие визуального контакта расслабляет. Позволяет дистанцироваться от аспектов реальности, которую нам и в самом деле нужно забыть, чтобы иметь возможность анализировать.
Хотя положение лежа и способствует анализу, это не единственный возможный способ. При этом всегда важно понимать логику того или иного выбора. Например, люди с тяжелыми психическими расстройствами могут выбирать кресло, потому что в положении лежа их разум устремляется в слишком далекие, пугающие и преследующие миры. У меня был случай, когда во время анализа на кушетке пациенту снился повторяющийся ночной кошмар. За ним крался лев, который был готов напасть и растерзать пациента, издай тот малейший звук. Еще одной пациентке во время анализа на кушетке казалось, что она находится в колыбели из острых лезвий, постоянно терзающих ее плоть.
Все люди разные. Не каждый сразу готов лечь в криогенную капсулу корабля «Энтерпрайс» и отправиться в неизвестное. Кому-то перед прыжком к новым мирам и галактикам может понадобиться облет уже знакомой планеты. В общем, сопротивление кушетке – это нормально. Можно работать и сидя.
– Психоаналитическим сессиям свойственен ритуал, который описала Лучана Ниссим: «Пациент открывает коммуникацию, и ему же выпадает честь сказать последнее слово». Это действительно так?
– В целом да. Я всегда даю возможность начать пациенту за исключением тех случаев, когда молчание длится слишком долго. И дело не в том, что я беспокоюсь о нарушении сеттинга или раздражаюсь. Мне просто становится скучно! Мне нужно взаимодействие для работы, игры и дриминга.
– А может быть, вас беспокоит, что длительное молчание способно разрушить пару?
– Возможно.
– Тогда получается, что аналитическая функция, представленная в паре доктором Ферро, инициирует контакт из-за страха?
– Я думаю, что суть контактной функции отражает ее название. Кто-то должен инициировать взаимодействие, чтобы все заработало. Обычно я жду, когда это сделает пациент. Но если молчание затягивается, произношу что-то типа: «Ну?», «Как дела?», «Почему сегодня так тихо?». Любой простенький комментарий.
Что касается последнего слова… Не помню в своей практике повода задуматься о том, кому оно должно принадлежать. Обычно я говорю: «Хорошо, увидимся в следующий раз», и… даю пациенту возможность завершить мысль.
– Сформулирую иначе. Вы даете интерпретации в конце сессии?
– Ах, это! Нет. Я стараюсь не нагружать беднягу перед расставанием. К тому же для меня всегда важно увидеть ответную реакцию.
– Похоже, речь зашла о внешних и внутренних границах, поэтому хочу задать практический вопрос. Когда я учился, аналитикам предписывалось иметь стационарный телефон с автоответчиком для связи с пациентами, а сегодня новое поколение революционеров (я в их числе) считает голосовую связь совершенно необязательным атрибутом. Считает, что текстовые сообщения благодаря своей простоте и ненавязчивости прекрасно ее заменяют. В наши дни даже первый контакт часто происходит онлайн: «Добрый день, уважаемый доктор. Меня мучают панические атаки, можно к вам обратиться?»
Нет ли угрозы для психоаналитического поля в переходе от аналоговой коммуникации «Я здесь / Меня нет» к цифровой «Я почти здесь / Меня почти нет»? Не размываются ли границы между присутствием и отсутствием?
– Дети некоторых моих друзей-итальянцев учатся за границей – в Сингапуре, Англии, Америке. Они все давно привыкли использовать для общения Skype и не задумываются, правильно это или нет. Анализ в этом плане не отличается от обычной жизни. Все зависит от обстоятельств. Раньше нам был доступен только один способ связи – стационарный телефон, а сегодня большая часть коммуникаций протекает в тексте. Я думаю, что все правила сеттинга делятся на две категории. К первой относятся незыблемые, фундаментальные законы, а ко второй – гибкие, зависящие от контекста условия. Если ученые изобретут голограммы, аналитики будут пользоваться ими, чтобы демонстрировать себя в другой части света. Какие тут могут быть сомнения?
Когда пациент информирует меня об опоздании с помощью сообщения, я отвечаю. Я не вступаю по телефону в долгие переписки, не делаю интерпретаций, но вполне в состоянии написать «Оk». А на новый запрос по электронной почте ответить: «Здравствуйте! Позвоните, пожалуйста, по такому-то номеру в будние дни после девяти часов вечера». Использовать достижения цивилизации – это естественно. Я не хотел бы превратиться в настолько замороченного аналитика, который во всем будет видеть грех. Как говорил падре Кристофоро[16]: «Чистому все чисто!»
– Раз уже речь зашла о грехах, позвольте покаяться в своем. Одно время я так часто появлялся на публике, что стал более читаем для других людей и в том числе – для своих пациентов. Я успокаивал себя тем, что в таких небольших городках, как Модена или Павия[17], аналитик все равно рано или поздно прославится, а значит, правило конфиденциальности должно предполагать некую гибкость. Мне кажется, эволюция в восприятии функции аналитика от зеркала к соавтору нарративов должна подтолкнуть нас если не к полной отмене требований к конфиденциальности личности аналитика, то хотя бы к разделению информации на ту, что может быть предана огласке, и ту, что нет. Вы согласны?
– Все зависит от того, что понимать под словом «конфиденциальность». Я, например, против того, чтобы молодой аналитик посещал стриптиз-клубы, по крайней мере в черте города проживания, но при этом не вижу проблемы в случайной беседе с пациентом при встрече в кафе, на выставке или в книжном магазине. Обычной городской жизни! Я не вижу проблемы и в том, чтобы аналитик и пациент состояли в одном гольф-клубе, где кроме них зарегистрирована еще тысяча человек. Но нужно помнить, что слишком тесный контакт за рамками кабинета обеднит сессии. Анализ будет «загрязняться» реальными фактами, а это снизит изначальную тотипотентность[18] нарративов.