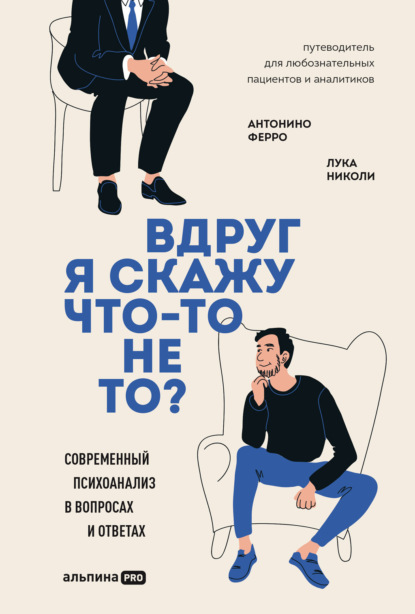Вдруг я скажу что-то не то? Современный психоанализ в вопросах и ответах
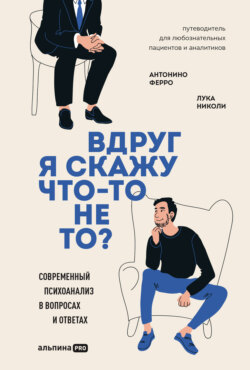
000
ОтложитьЧитал
На мой взгляд, психоаналитики выглядят смешно, когда пытаются казаться психоаналитиками, и единственная ситуация, в которой они выглядят серьезно, – это кабинет, пациент и сеттинг. Когда соблюдаются эти условия, происходит важная метаморфоза. У аналитика возникает способность чувствовать, мыслить и метаболизировать страдания пациента. Вносить ясность в чужое сознание своим присутствием, участием и желанием оказать помощь. Собственно, это и способствует исцелению, пусть всегда относительному, пусть с маленькой буквы «и». Но именно этот процесс происходит в анализе. В этом особенность нашей профессии.
– Я согласен, что исцеление – это главная функция психоанализа, но мы должны понимать, каков главный целительный фактор. Вопрос, который традиционно адресуется всем направлениями и инструментам терапии. Современным пациентам доступен широкий спектр психологической помощи: когнитивно-поведенческая терапия, конструктивистская терапия, системная терапия и так далее. Думаю, всем будет интересно узнать, в чем же состоит специфика психоанализа.
– Бессознательное, бессознательное и еще раз бессознательное… Психоанализ невозможен без принятия идеи бессознательного измерения. Не важно, как оно воспринимается, – с традиционных фрейдистских позиций как хронологически упорядоченная и вытесненная из сознательной области информация, которую в ходе анализа можно дешифровать и вернуть обратно, – самое раннее и наивное представление о феномене. Или как многоуровневая, инфраструктурная и непрерывно изменяющаяся формация. Совместное произведение аналитика и пациента в сессии, которое можно научиться делать более функциональным.
Сегодня мы более-менее понимаем, как выглядит инструментарий, позволяющий осуществляться этому процессу. Я специально говорю «сегодня», потому что через 20–30 лет все может измениться и мы будем говорить о более продвинутых вещах. На что я искренне надеюсь. Сегодня же все эти инструменты имеют онейрическую[6] природу. Это феномен трансформации сенсорного восприятия реальности в визуальные картины; это механизм действия и фактические проявления ревери; это способность человека (аналитика) дриминговать[7] и демонтировать коммуникацию другого человека (пациента), создавая новые смыслы и не существовавшие раньше миры. Применение этих инструментов позволяет осуществлять интеллектуальную и чувственную трансформацию самых твердых психических блоков в эмоции, чувства и мышление. Аналитик «сновидит» необработанный (и ставший симптомом) материал пациента, делая его мыслимым, выдерживаемым, наполненным. Он трансформирует разрозненные нарративы в новые устойчивые смыслы. Превращается в еще один источник сенсорных данных, который поставляет в мир снов и бессознательного пациента уже переработанные психические элементы. Аналитик – это соавтор бессознательного.
Я думаю, что из всех возможных ролей самая важная для аналитика – это роль волшебника, который с помощью магии слов, звуков и метафор изгоняет демонов и укрощает драконов. Преобразует внутреннюю реальность пациента, создавая пространство для творчества, воображения и абсурда.
Однажды Толстой, рассказывая о своем детстве, вспомнил, как они с товарищем придумали игру в «паровоз из стульев». Они сильно радовались этой затее, пока не пришел старший брат и не разломал конструкцию со словами: «Дурацкая игра, это ведь просто стулья».
Аналитик должен действовать прямо противоположным образом – видеть вместо обычных стульев поезд, дворец, фрегат… да что угодно! Он должен вдыхать жизнь в персонажей и истории пациента, не забывая при этом, что он соавтор, а не режиссер сессии, и что созданный в ходе совместного творчества нарратив нужно будет забыть сразу после ее окончания, потому что психоанализ происходит только здесь и сейчас, в присутствии всего двух очевидцев.
– Я долгое время увлекался фэнтези, поэтому не могу пройти мимо метафоры с магией и драконами. Как психоанализ превращается в магию?
– Интересный вопрос. Сложно представить, например, что диспетчер пожарной части в ответ на ваш звонок вдруг скажет, что «пожар – это ваши невыносимые эмоции…». Диспетчер пожарной части должен действовать адекватно. Не менее странно будет, если в ответ на историю друга о растущих на его теле родинках я не посоветую ему незамедлительно обратиться к дерматологу. Но что мне делать, если на родинки пожалуется пациент в сессии? Все, конечно, зависит от обстоятельств, но я могу обратить внимание, скажем, на плед с темными пятнами, которым он прикрыл ноги. На то, что плед похож на овечью шкуру, из которой клочьями вырвали шерсть, на месте которой теперь виднеется темная кожа. Как будто овца начала превращаться в леопарда. И если бы пациент продолжил говорить о растущих родинках, то темные пятна на шкуре могли бы расползаться до тех пор, пока овца не превратилась в черную пантеру.
Таким образом, рассказ о родинках, превращается в историю о преображении пациента в овцу, леопарда и, наконец, черную пантеру! Заметьте, магия уже началась, хотя пока обходится без драконов. На месте аналитика я бы подумал, что кушетка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать все флуктуации пациента. Разумеется, нет никакой прямой связи между историей о родинках и «Книгой джунглей». В сессиях могут спонтанно рождаться самые разные нарративы, открывая путь к бессознательному и пациента, и аналитика.
У диспетчера пожарной части и аналитика принципиально разные задачи. Первый должен реалистично воспринимать поступающую информацию, а второй – пропускать ее через «магический фильтр», базирующийся на способности играть и грезить во время сессии.
– Если попросить знакомого аналитика порекомендовать специалиста для личной терапии, то, скорее всего, он задаст вопрос: «Мужчину или женщину?» Влияет ли пол аналитика на репертуар историй, которые будут появляться в сессиях?
– Пол аналитика очень важен до начала анализа и совершенно не важен после. Люблю, когда получается ответить коротко!
Ожидание первой встречи сопровождается множеством фантазий на тему мужчин и женщин, но после начала терапии на первый план выходят другие аспекты: состояние психики того, кто находится рядом, его способность создать альянс с конкретным пациентом.
– Прежде чем перейти к обсуждению теорий, я хочу задать вопрос, который интересует всех без исключения аналитиков: как предотвратить уход пациентов?
– Неловко, что, выступая против ортодоксальности, я продолжаю цитировать Биона, но его идеи так сильно меня вдохновляют и заставляют переосмысливать привычные ценности, что ничего не могу с собой поделать. Бион говорил: «У пациента всегда должен быть повод прийти на следующую сессию». Другими словами, психоанализ должен захватывать. Помните сказку «Тысяча и одна ночь»? Аналитик похож на Шахерезаду, которая постоянно придумывала, играла и создавала новые истории, развивая главную сюжетную линию. Я использую термин «игра» не для того, чтобы смягчить эмоциональную ситуацию. Игры могут быть разными: веселыми, грустными, действительно драматичными. И все же единственный способ сохранить пациента – пробудить в нем интерес. Сделать так, чтобы он начал получать удовольствие от удовлетворения своей любознательности.
Психоанализ напоминает фантастический сериал «Звездный путь», в котором команда межзвездного корабля от серии к серии исследует новые, неизведанные миры. Разница лишь в том, что психоаналитические миры способны эволюционировать. И если аналитик не станет цепляться за уже известные теории и знания, эта экспансия может быть бесконечной. В противном случае мы каждый раз будем натыкаться на кастрационную тревогу, эдипов комплекс и зависть, а анализ превратится в рутину. Он станет похож на игру в рулетку, когда заранее знаешь, какой выпадет номер.
2
Правила игры
– Это игра или реальность?
– Какая разница?
К/ф «Военные игры»(WarGames, реж. Дж. Бэдэм, США, 1983)
ЛУКА НИКОЛИ: Игра всегда начинается с правил. Мы знакомимся с ними и решаем, участвовать или нет. Без соблюдения этой формальности происходящее будет называться иначе. Психоанализ не исключение. На первой встрече аналитик и пациент согласуют различные параметры сеттинга, главный из которых – частота встреч. При этом стандарты везде разные. В Великобритании предпочитают анализировать пять дней в неделю, в Европе – четыре, своего рода полный привод. Во Франции – трицикл…
АНТОНИНО ФЕРРО: Или мотоцикл с коляской.
– …или мотоцикл с коляской. Начинающие аналитики и большинство психотерапевтов используют двухколесный скутер, когда все идет хорошо, с заменой на самокат, когда плохо. Существует расхожее мнение, что терапия с частотой встреч менее трех раз в неделю теряет право называться психоанализом, потому что при низкой интенсивности пациент теряет возможность свободно ассоциировать. Вы часто говорите о важности деконструкции в анализе «реальных» историй пациента. Возможна ли такая работа при низком темпе, когда внешняя реальность заявляет о себе достаточно громко?
– На этот вопрос сложно ответить кратко. Мне нравится ваша метафора с транспортными средствами. Все, что вы перечислили, работает и позволяет двигаться вперед. Я бы только отказался от самоката или уницикла из-за их неустойчивости. Думаю, вы не посадите любимую бабушку на стул с одной ножкой. Или двумя… Стул с тремя ножками уже понадежней, но лучше, чтобы ножек было четыре или даже пять.
Возникает вопрос, является ли высокая интенсивность обязательным условием для того, чтобы терапия могла называться психоанализом? Что ж, думаю, некоторые вещи нужно просто принять. Температура кипения воды – 100 ℃. Можно слегка изменить этот параметр: если забраться высоко в горы, она (температура) опустится на несколько пунктов. Однако нам не под силу радикально изменить законы физики. Вода закипает при 100 градусах, а деление ядер происходит при накоплении критической массы. Боюсь, для запуска цепной реакции анализу необходима определенная интенсивность. Какая именно – никто точно не знает. Из опыта могу сказать, что при частоте встреч три и более раз в неделю анализ меняется. Он отдаляется от аспектов реальности и становится более живым. Чтобы появилась возможность анализировать, реальность должна отойти на второй план.
Как в таком случае назвать психоаналитически ориентированную работу с частотой встреч менее трех раз в неделю? Предлагаю так и говорить – психоаналитически ориентированная терапия. Вы можете помогать людям, встречаясь даже раз в месяц. Это легитимная работа, но не психоанализ. Столь низкая динамика не позволит сформировать достаточно глубокую взаимосвязь, по-настоящему почувствовать и понять пациента и затем постепенно развивать инструменты сознания. Боюсь, для достижения по-настоящему качественных изменений придется выкрутить ускоритель частиц минимум на три сессии в неделю, а в остальном… другие правила менее важны. Пусть это будут сдвоенные сессии по понедельникам и одна в пятницу, если такой график всех устраивает.
Не знаю, что нас ждет в будущем, но сегодня высокая частота встреч имеет определяющее значение! Даже если мы говорим о гениальном аналитике, необходимо признать: при низкой интенсивности возможен только косметический ремонт. Ремонт малой кровью.
Когда-то давно было принято различать психоанализ и психотерапию. Возможно, я покажусь старомодным, но мне до сих пор это близко. И разница между ними по большому счету состоит в интенсивности сеттинга. Конечно, если вы спросите: «Что выбрать: пять дней в неделю с ортодоксальным аналитиком или две с Дональдом Мельтцером?» – я порекомендую второе и буду называть это психоанализом. И, думаю, вы догадываетесь, что я предпочту, если выбор встанет между Томасом Огденом раз в неделю или ежедневными встречами с архиконсервативным коллегой. Я специально привожу утрированные примеры, чтобы показать – все случаи индивидуальны. Но если говорить о нормальном, достаточно хорошем анализе, частота посещений – это ключевой параметр сеттинга, который должен фиксироваться на первой же встрече.
Помимо частоты и графика посещений понятие «сеттинг» включает и другие параметры: продолжительность сессии, общая длительность самой терапии, договоренности о стабильности посещений. Последний параметр имеет огромное значение. Он формирует важнейший элемент психоанализа – ритм, который влияет на самые архаичные, аутистические ядра нашей нервной системы, невосприимчивые к словесной коммуникации. Наряду с довербальным мышлением и проективными идентификациями, ритм относится к наиболее ранним периодам нашей психической жизни.
– Признаюсь, когда я слышу рассуждения о ритме, частоте и стабильности посещений, с трудом сдерживаюсь. Мне хочется встряхнуть вас и показать, как обстоят дела на нижних этажах психоаналитического небоскреба, куда мастера вашего уровня, по всей видимости, спускаются крайне редко. Внизу толпятся сотни молодых кандидатов. Без регулярной занятости. С одним, максимум двумя пациентами в день или даже неделю. Им не платят за пропуски сессий и, что самое болезненное, их пациенты уходят из терапии без объяснения причин. Вы готовы спуститься в эту аудиторию и повторить про ритм, стабильность и прочее?
– Конечно, поскольку я говорю о сеттинге – фундаменте этого здания! Не забывайте, сеттинг – это обоюдное обязательство. Сначала аналитик, словно крупье в покере, предлагает условия: «Сегодня играем в такую-то версию… вы готовы присоединиться?» – но после согласования договоренности становятся законом для обеих сторон. Эти договоренности нельзя нарушать, именно потому, что они фиксируются в самом начале. Если я соглашусь с тем, что пациент не будет оплачивать пропуски, то как смогу гасить обязательства по аренде кабинета, автокредиту, образованию детей? Разве я должен нести финансовую ответственность за его пропуски? Я предлагаю пациентам оплачивать пропуски, потому что мне нужны деньги на жизнь. Здесь нет каких-то карательных или нравоучительных мотивов из серии: «Так он не будет прогуливать сессии!» Если пациент начинает пропускать сессии, значит, что-то идет не так – с пациентом или анализом. Когда удается делать живой, увлекательный психоанализ, пациент приезжает за десять минут до начала встречи, потому что хочет скорее начать. Анализ – это приятно, вот о чем не говорится ни слова. Все твердят о боли и страданиях пациента и аналитика. Это всеобщее воспевание боли давно превратилось в тренд, поэтому стоит приветствовать любой позитив хотя бы для разнообразия. Поймите, я говорю не том, что нужно испытывать радость в момент смерти близкого родственника, а о том, что даже самое сильное эмоциональное переживание способно со временем трансформироваться в нечто мыслимое, в роман Карен Бликсен[8], к примеру, что станет шагом в сторону смягчения психического состояния по сравнению с тем, каким оно было в пиковые моменты. Способность преобразовывать тревогу, а если точнее сказать – сырое чувственное восприятие, в нарратив может вести к появлению драматичнейших историй – таких как «Познание боли» Карло Эмилио Гадды[9], но это лучше, чем разрушенный мозг. Удовольствие от анализа появляется в момент овладения навыком трансформировать дезориентированные, дезорганизованные, фрагментированные состояния психики в нарративы. Настолько веселые, насколько это возможно в данный момент. Нам всем предстоит пережить «познание боли», но даже в самые трудные времена анализ должен напоминать игру или чтение сказки «Тысяча и одна ночь». Это самое главное! Понятно, что без боли нет роста, но у меня аллергия на ее возвеличивание.
– С момента возникновения психоанализа и до сегодняшнего дня его длительность увеличилась от нескольких месяцев до нескольких лет. Кто-то считает, что это слишком долго, а как думаете вы?
– Я думаю, анализу нужно время, и не уверен, что мы способны оценить, сколько именно. Когда-то, в эпоху хорошо освещенных трасс со множеством указателей, считалось, что существуют объективные критерии для оценки длительности терапии или предрасположенности пациента к проведению психоанализа, но сегодня…
Не думаю, что можно прогнозировать точные сроки, однако, исходя из своего опыта, могу сказать, что со временем в терапии возникают сигналы, свидетельствующие о приближении ее окончания. И через некоторое время после их появления анализ действительно может закончиться. На уровне ощущений эти сигналы воспринимаются как подтверждение того, что пациент обрел нужный инструментарий, о котором мы говорили ранее.
– Неготовность современных пациентов к длительной терапии может быть вызвана сложностями в организации длительных созависимых отношений. Стефано Болоньини[10] писал, что причины могут крыться в изменении отношения к браку; частых случаях разводов и переконфигурации семей; размытием роли воспитателя между родителями, бабушками, няньками, учителями и тренерами, что в совокупности не дает современным детям сформировать устойчивую базу для доверительных отношений. Что в такой ситуации делать психоаналитикам, которые предлагают длительную, интенсивную терапию?
– Прежде всего давайте оговоримся – все индивидуально. Никто не утверждает, что анализ должен длиться вечность или что все должны его проходить. Анализом следует заниматься тем, кому полученный в сессиях опыт позволяет чувствовать себя лучше: сегодня, завтра, через неделю, месяц или год. Анализ должен быть удовольствием, на которое хочется тратить силы, время и средства, – как на посещение футбольного матча! Но что делать тем, кого не интересует поход на игру «Ювентуса» против «Интера»? Правильно! Заняться другими делами! Анализ должен быть удовольствием, а не обязанностью.
Я думаю, все знают, что острые или хронические состояния в период депрессий, фобий или панических атак можно купировать с помощью лекарств, наркотиков или алкоголя. Однако боюсь, что единственный известный на сегодняшний день способ решить проблему по-настоящему – это психоанализ. Потенциал использования этой дисциплины до конца непонятен. Иногда кажется, что анализ так глубоко проник в тонкие материи психики, что может справиться с любой проблемой. А в другие моменты из зоны его применения выводятся целые области заболеваний[11].
– Предлагаю продолжить сравнение аналитической сессии с футбольным матчем и обсудить стоимость билетов. Деньги – еще одно постпуританское табу психоанализа. Начинающие аналитики при получении вознаграждения нередко испытывают дискомфорт – отчасти из-за неспособности оценить значимость своего вклада, отчасти из-за распространенной среди молодежи идеи, будто терапия должна быть доступна каждому, особенно во времена кризисов. Например, в Аргентине психоанализ для граждан дотируется государством и настолько распространен, что вам могут провести сессию даже в такси по дороге в аэропорт. Что вы думаете о социальной ответственности аналитика в наше неспокойное время, когда пациенты часто едва сводят концы с концами?
– Я думаю, не стоит вкладывать в акт финансового вознаграждения аналитика какие-то скрытые смыслы. При возможности я бы работал бесплатно, потому что сам получаю большое удовольствие от анализа. Возможно, для кого-то это секрет, но аналитик зависит от терапии гораздо больше, чем пациент. Если последнему достаточно трех-четырех сессий в неделю, то первому нужно тридцать четыре. Да, я бы не брал с пациентов денег, если бы в этом не было необходимости. Мне хватило бы вознаграждения в виде визитов, теплых улыбок, рукопожатий.