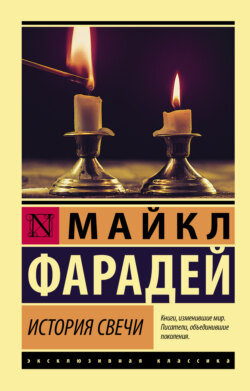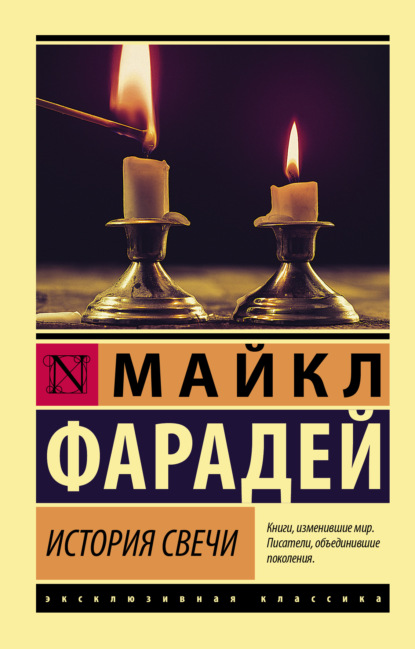Второй вопрос, поставленный нами выше, – это каким образом горючая жидкость попадает из чашечки вверх по фитилю, к месту горения. Вы знаете, что у свечей восковых, стеариновых или спермацетовых пламя спускается по горящему фитилю не настолько, чтобы вовсе растопить это горючее, а занимает свое определенное место. Пламя как бы изолировано от находящегося под ним жидкого горючего и не разрушает краев чашечки. Вдумайтесь только, какой изумительный пример общей слаженности целого! До самого конца существования свечи действие каждой из ее частей строго координировано с другой. Какое прекрасное зрелище представляет собой такое горючее вещество, когда оно сгорает постепенно, не подвергаясь внезапным нападениям пламени! Вы это особенно оцените, когда узнаете, какой мощью обладает пламя, как оно может, овладев воском, разрушить его или даже одной своей близостью нарушить его форму.
Но как же все-таки горючее попадает в пламя? Прекрасное объяснение этому – волосное притяжение. «Волосное притяжение? – скажете вы. – Это еще что такое? Притяжение волос?» Ну, не важно, не обращайте внимания на этот термин; его придумали в старое время, пока мы еще не знали, что это за сила на самом деле. Так вот, именно благодаря так называемому капиллярному[5], или волосному, притяжению горючее и переносится к тому месту, где происходит сгорание, – и притом не как-нибудь, а идеально к центру пламени. Сейчас я разъясню, что такое капиллярное притяжение, и приведу примеры.
Это то действие или притяжение, которое заставляет плотно притягиваться друг к другу взаимно нерастворимые тела. Когда вы моете руки, вы их как следует смачиваете; мыло улучшает прилипание воды к рукам, и руки так и остаются мокрыми. Это происходит именно благодаря тому притяжению, которое я сейчас имею в виду. Больше того, если руки у вас совершенно чистые (а в житейских условиях они всегда чем-нибудь запачканы), то стоит вам опустить кончик пальца в теплую воду, как она поднимается по пальцу немножко выше уровня воды в сосуде, хотя, может быть, вы и не обратите на это внимания.
Вот здесь у меня довольно пористое вещество – столбик поваренной соли. В тарелку, где стоит столбик, я наливаю не воду, как вы, может быть, подумали, а насыщенный раствор соли, который уже больше растворять соль не сможет; таким образом, явление, которое вы увидите, нельзя будет объяснить растворением соли. Представим себе, что тарелка – это свеча, столбик соли будет фитилем, а этот раствор – растопленным салом или воском. Чтобы вам было виднее, я подкрасил раствор. Смотрите, я подливаю жидкость, а она поднимается по столбику соли все выше и выше, так что, если он не упадет, подкрашенная жидкость доберется до самого верха столбика. Так вот, если бы этот подсиненный раствор мог гореть и на верхушку соляного столбика мы поместили бы фитилек, жидкость бы горела, впитываясь в фитиль. Наблюдать явления, обусловленные капиллярностью, очень интересно, и при этом можно отметить некоторые любопытные обстоятельства. Когда вы вымыли руки, вы вытираете их полотенцем: полотенце намокает от воды именно благодаря такому смачиванию, так же как и фитиль напитывается салом или воском. Иногда неряшливые дети (да, впрочем, это случается и с людьми вообще аккуратными), вымыв руки в тазу, вытрут их, да и бросят полотенце так, что оно окажется висящим через край таза; понемногу вся вода из таза очутится на полу, так как полотенце будет играть роль сифона.
Чтобы вы воочию убедились в том, как воздействуют тела друг на друга, я сейчас покажу вам наполненный водой сосуд, сделанный из тончайшей проволочной сетки. Его можно сравнить в одном отношении с фитилем, скрученным из хлопка, а в другом – с куском коленкора. Вы ясно видите, что этот сосуд – пористый: вот я наливаю сверху немножко воды, и она вытекает внизу. Вы бы вряд ли могли мне ответить, в каком состоянии находится этот сосуд, что в нем содержится и для чего он устроен. Сосуд полон воды, а между тем вы видите, что вода в него вливается и выливается, как если бы он был пустой. Чтобы доказать вам это, мне достаточно его опорожнить. Причина вот в чем: проволочная сетка, будучи раз смочена, остается мокрой, а ячейки ее до того мелкие, что жидкость испытывает такое притяжение от одной нити к другой, что она не вытекает из сосуда, хотя он и пористый. Подобным же образом частицы растопленного сала или воска поднимаются вверх по хлопковому фитилю и добираются до верха; за ними следуют, по взаимному притяжению, новые частицы горючего; по мере того как они достигают пламени, они постепенно сгорают.

Рис. 1
Вот и другой пример того же явления капиллярности. Взгляните на этот кусочек тростника. Мне случалось на улице видеть мальчиков, которые, подражая взрослым, делают вид, что курят сигары, – на самом деле это не сигара, а кусочек тростника. Это возможно из-за проницаемости тростника в одном направлении и благодаря его капиллярности. Вот я ставлю этот кусочек тростника на тарелку, содержащую немного камфары (которая во многом сходна с парафином); эта жидкость будет подниматься сквозь тростник точно так же, как подсиненный раствор поднимался сквозь столбик соли. Поскольку снаружи тростинка не имеет пор, жидкость не может проникать в этом направлении, но должна проходить только вдоль тростника. Вот жидкость уже достигла верхушки нашей тростинки; теперь я могу ее зажечь, и у нас получится своего рода свечка. Жидкость поднялась благодаря капиллярному притяжению, проявляющемуся в кусочке тростника, точно так же, как она поднимается по фитилю свечки.
Вернемся теперь к вопросу, почему свеча не горит вдоль всего фитиля. Единственная причина этого в том, что растопленное сало гасит пламя. Вы знаете, что если опрокинуть свечку так, чтобы горючее стекало на фитиль, свечка погаснет. Причина этого в том, что пламя не успело нагреть горючее настолько, чтобы оно могло гореть, как это происходит наверху, где горючее поступает в фитиль в небольшом количестве и подвергается полному воздействию пламени.

Рис. 2
Есть еще одно обстоятельство, с которым вы должны познакомиться, и притом такое, без которого невозможно до конца разобраться в природе свечи, – а именно газообразное состояние горючего. Для того чтобы вы могли это понять, я покажу вам очень изящный опыт из повседневной жизни. Если вы умело задуете свечу, от нее поднимется струйка паров. Вы, конечно, хорошо знакомы с запахом задутой свечки, и это действительно неприятный запах. Но если вы ловко ее задуете, вы сможете хорошо рассмотреть эти пары, в которые превращается твердое вещество свечи. Вот одну из этих свечей я погашу так, чтобы воздух вокруг нее остался спокойным; для этого мне нужно лишь некоторое время осторожно подышать на свечу. Если я затем поднесу к фитилю горящую лучинку на расстояние 2–3 дюймов[6], вы увидите, как по воздуху от лучинки к фитилю пронесется полоска огня. Все это я должен проделать быстро, чтобы горючие газы, во-первых, не успели остыть и сконденсироваться и, во-вторых, не успели рассеяться в воздухе.
Перейдем теперь к вопросу о форме пламени. Нам очень важно знать, в каком состоянии оказывается в конечном счете вещество свечи, очутившись на верхушке фитиля, где сияет такая красота и яркость, какая может возникнуть только от пламени. Сравните блеск золота и серебра и еще большую яркость драгоценных камней – рубина и алмаза, – но ни то, ни другое не сравнится с сиянием и красотой пламени. И действительно, какой алмаз может светить как пламя? Ведь вечером и ночью алмаз обязан своим сверканием именно тому пламени, которое его освещает. Пламя светит в темноте, а блеск, заключенный в алмазе, – ничто, пока его не осветит пламя, и тогда алмаз снова засверкает. Только свеча светит сама по себе и сама для себя или для тех, кто ее изготовил. Давайте теперь рассмотрим форму пламени свечи внутри лампового стекла. Пламя здесь устойчивое и спокойное; форма его, показанная на рисунке, может меняться возмущениями потока воздуха и зависит от размеров свечи. Пламя имеет несколько вытянутый вид; вверху оно ярче, чем внизу, где среднюю его часть занимает фитиль, и некоторые части пламени вследствие неполного сгорания не так ярки, как вверху. У меня есть рисунок, сделанный много лет назад Гукером в то время, когда он проводил свои исследования. Это рисунок пламени лампы, но все, что касается лампы, можно отнести и к свече. Ведь чашечка на верхушке свечи – все равно, что резервуар лампы; расплавленное вещество свечи – это ламповое масло; фитиль есть и у свечи, и у лампы. Над фитилем, как видите, нарисовано небольшое пламя, а кроме того, изображено, как это в действительности и происходит, поднимающееся вокруг пламени вещество, которое вам не видно и о котором вы и не подозреваете, – если, конечно, вы не бывали здесь у нас на лекциях или не ознакомились с этим вопросом. Здесь изображен прилегающий к пламени участок воздуха, играющего существенную роль в образовании пламени и неизменно присутствующего везде, где есть пламя. Восходящий ток воздуха придает пламени продолговатую форму: ведь пламя, которое вы видите, вытягивается под воздействием этого тока воздуха на значительную высоту, как показано Гукером на чертеже линиями, изображающими продолжение воздушного потока. Все это можно видеть, поставив горящую свечу так, чтобы ее освещало солнце и тень падала на листок бумаги. Как интересно: пламя – предмет сам по себе настолько яркий, что в его свете другие предметы отбрасывают тень, и вдруг оказывается, что можно уловить его собственную тень на белом листке. При этом, как это ни странно, можно вокруг пламени увидеть струйки чего-то, что не есть само пламя, а что увлекает за собой пламя в своем движении вверх. Сейчас я покажу вам этот опыт, но солнце в нем будет заменено электрическим светом от вольтовой дуги. Вот это у нас будет солнце с его интенсивным светом; поставив между ним и экраном горящую свечу, мы получаем тень от пламени. Вот здесь вам видна тень самой свечи, вот тень от фитиля; как и на нашем чертеже, вы видите темноватую часть, а тут – более яркую. Но обратите внимание на любопытное явление: та часть пламени, которая на тени оказывается самой темной, в действительности самая яркая. И здесь, и на чертеже вы видите, как струится восходящий поток горячего воздуха, который увлекает за собой пламя, снабжает его воздухом и охлаждает стенки чашечки с растопленным горючим.

Рис. 3 Рис. 4
Я могу продемонстрировать вам еще один опыт, чтобы показать, как пламя направляется либо вверх, либо вниз, в зависимости от тока воздуха. Для этого опыта берется уже не пламя свечи, но теперь вы, несомненно, настолько привыкли к обобщениям, что можете улавливать сходство между различными явлениями. Так вот, я собираюсь тот восходящий ток воздуха, который уносит пламя вверх, превратить в ток нисходящий. Вот прибор, с помощью которого это легко сделать. Чтобы пламя не слишком коптило, мы вместо свечи будем сжигать спирт. Но это пламя я подкрасил особым веществом[7]; дело в том, что если взять чистый спирт, его пламя вряд ли будет достаточно хорошо видно, чтобы вы могли проследить за ним.
Зажигая этот спирт, получаем подкрашенное пламя; вы видите, я держу его в воздухе, и оно, естественно, устремляется вверх. Теперь вам вполне понятно, почему в обычных условиях пламя направляется вверх. Это зависит от тока воздуха, благодаря которому происходит сгорание. А теперь посмотрите: я дую на пламя сверху и таким изменением тока воздуха заставляю его устремиться вниз, в эту коленчатую стеклянную трубку. По ходу этих лекций мы еще вам покажем такую лампу, где пламя идет вверх, а дым – вниз, или же пламя идет вниз, а дым – вверх. Итак, вы видите, что мы можем придавать пламени различные направления.

Рис. 5
Я расскажу вам еще вот о чем. Форма пламени многих из тех свечей и ламп, которые вы здесь видите, очень изменчива оттого, что их все время обдувает воздухом с разных сторон. Однако при желании мы можем придать пламени неподвижную форму и сфотографировать его. И действительно, если мы хотим выяснить все его свойства и особенности, нам придется делать снимки пламени, чтобы его зафиксировать в неподвижности. Если пламя достаточно большое, оно не сохраняет единства и однородности своей формы, а разбивается и вспыхивает с изумительной мощью. Для следующего опыта я возьму горючее, которое хотя и отличается от свечного сала или воска, но, безусловно, может их заменить. Вот большой комок ваты, который нам будет служить фитилем. Я погружаю его в спирт и зажигаю. Смотрите, чем это пламя отличается от пламени обыкновенной свечи? Конечно, очень отличается в одном отношении – своей подвижностью и мощью, красотой и живостью, которых нет у огонька свечи. Взгляните на эти тонкие огненные язычки. Вы видите то же направление общей массы пламени снизу вверх, но, кроме этого, вы видите, что из пламени вырываются язычки, чего у свечи вы не наблюдали. Так почему же это происходит? Я объясню вам: ведь если вы в этом разберетесь как следует, вы лучше сможете следить за ходом моей мысли при изложении дальнейшего. Вероятно, кое-кто из вас сам проделывал опыт, который я собираюсь вам показать. Я не ошибусь, полагая, что многим из вас случалось забавляться игрой с горящим изюмом? По-моему, это прекрасная иллюстрация теории пламени. Во-первых, вот блюдо; заметьте, что если играть в эту игру по всем правилам, надо заранее хорошенько прогреть блюдо. Изюм тоже должен быть прогрет, а также и бренди (которого, впрочем, у меня здесь нет). Наливая спирт на блюдо, вы получаете чашечку и горючее – те необходимые условия, о которых у нас шла речь, – а разве изюминки не играют роль фитилей? Вот я бросаю изюм на блюдо, зажигаю спирт, и вы видите прекрасные язычки пламени, о которых я говорил. Эти язычки образуются вследствие того, что воздух струится, как бы вползает в блюдо через его края. Почему же так получается? Потому, что сила тяги и неравномерность действия пламени не дают воздуху течь вверх равномерным потоком. Он вторгается в блюдо так неравномерно, что пламя, которое при других условиях имело бы единообразную форму, оказывается разбитым на многочисленные отдельные язычки, каждый из которых существует независимо от других. Право, можно сказать, что здесь перед вами множество независимых свечек. Но, видя одновременно все эти язычки, не думайте, будто пламени свойственна именно эта форма. В действительности в каждый данный момент это пламя не имеет такой формы. Сильное пламя, какое вы только что видели на комке ваты, смоченной спиртом, никогда не имеет той формы, в которой вы его воспринимаете. Дело в том, что оно состоит из множества различных форм, сменяющих друг друга с такой быстротой, что глаз способен воспринять их только слитно. Некоторое время назад я задался целью разобраться в строении такого пламени – и вот вам схема, показывающая его составные части. Они существуют не одновременно, но кажутся нам одновременными потому, что мы видим весьма быструю смену этих форм.
- Фиаско
- Гэм
- Тетушка Хулия и писака
- Мерзейшая мощь
- Переландра
- Фиеста
- Эндимион
- Престиж
- Маленькая хозяйка Большого дома
- Хождение Джоэниса
- Размышления о гильотине
- Зима тревоги нашей
- Фамильная честь Вустеров
- Квартал Тортилья-Флэт
- Война миров
- Смерть в кредит
- Человек в лабиринте
- Если однажды зимней ночью путник…
- Дочь времени
- Райские пастбища
- Когда я умирала
- Доводы рассудка
- Золотая Чаша
- Осквернитель праха
- Осколки чести
- Железная пята
- Сирены Титана
- Завтрак для чемпионов
- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. I
- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Т. II
- Нищий, вор
- Невидимые города
- Заводной апельсин
- Зримая тьма
- Футурологический конгресс
- Сумма технологии
- Былое Иакова
- Избранник
- Признания авантюриста Феликса Круля
- Солярис
- Посмертные записки Пиквикского клуба
- Приключения Оливера Твиста
- Тайна Эдвина Друда
- Портрет художника в юности
- Бойня №5
- Галапагосы
- Колыбель для кошки
- Малый не промах
- Эдем
- Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал…
- Демиан
- Мост
- Жизнь двенадцати цезарей
- Миссис Дэллоуэй
- Дом с привидениями
- Игра в бисер
- Наследники
- Опрокинутый мир
- Степной волк
- Петер Каменцинд
- История
- Дживс, вы – гений!
- Контрапункт
- Гений и богиня
- Бесы Лудена
- Обезьяна и сущность
- Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
- Калевала
- Ваш покорный слуга кот
- Тысячекрылый журавль
- Тысяча благодарностей, Дживс!
- Машина пространства
- Кольцо царя Соломона
- Возвращение со звезд
- На маяк
- Сердце – одинокий охотник
- Песнь о Нибелунгах
- Голод
- Голем
- Трое на четырех колесах
- Глас Господа
- «Подлинные имена» и выход за пределы киберпространства
- Больше чем люди
- Люси Краун
- И после многих весен
- Бильярд в половине десятого
- Вершина холма
- Где ты был, Адам?
- Дом без хозяина
- Современная комедия
- Воронья дорога
- Тереза Дескейру
- Всем стоять на Занзибаре
- Умм, или Исида среди Неспасенных
- Тошнота
- Стена
- Мухи. Затворники Альтоны
- Почтительная потаскушка
- Ставок больше нет
- Орландо
- Ваша взяла, Дживс!
- Этот неподражаемый Дживс
- Шаги по стеклу
- Город
- Карманный оракул
- Девяносто третий год
- Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики
- Допустимые потери
- Звездные дневники Ийона Тихого (сборник)
- Радость поутру
- Непобедимый
- Жизнь
- Рассказы о пилоте Пирксе (сборник)
- Расследование
- ГОЛЕМ XIV
- Под сетью
- Мандолина капитана Корелли
- Последнее лето Клингзора
- Исповедь
- Апология истории
- На мраморных утесах
- Посоветуйтесь с Дживсом!
- Так держать, Дживс! (сборник)
- Тетки – не джентльмены
- Держим удар, Дживс!
- Что-нибудь эдакое
- О природе вещей
- Мысли
- Прекрасные и обреченные
- Так говорил Заратустра
- Незнакомка из Уайлдфелл-Холла
- Пол и характер
- Письма к друзьям
- Праздник, который всегда с тобой
- Остров доктора Моро. Первые люди на Луне (сборник)
- Восстание масс
- Воспоминания Адриана
- Доктор Фаустус
- Возраст зрелости
- Сны Эйнштейна
- Носорог
- Мистер Эндерби. Взгляд изнутри
- Галлюцинации
- Записки о Галльской войне
- Нравственные письма к Луцилию
- Из замка в замок
- Происхождение семьи, частной собственности и государства
- 1985
- Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ
- Жестокий век
- О дивный новый мир
- Остров
- Двери восприятия. Рай и ад
- Политика
- Скотный Двор. Эссе (сборник)
- Диалоги. Апология Сократа
- Семя желания
- Белый Клык. Зов предков (сборник)
- Ярмарка тщеславия
- Пигмалион. Кандида. Смуглая леди сонетов (сборник)
- Квартал Тортилья-Флэт. Консервный ряд (сборник)
- Зима тревоги нашей
- Государство
- Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (сборник)
- Воришка Мартин
- Зов Ктулху (сборник)
- Афоризмы житейской мудрости
- Бегство от свободы
- Солнечные берега реки Леты (сборник)
- Гобсек. Отец Горио (сборник)
- Мифы Ктулху (сборник)
- Психология масс и анализ человеческого «я» (сборник)
- История западной философии. Том 1
- История западной философии. Том 2
- Сиддхартха. Путешествие к земле Востока (сборник)
- Время должно остановиться
- Ромео и Джульетта. Отелло (сборник)
- Эмма
- Привет, Америка!
- Охотники за микробами
- Наедине с собой. Размышления
- Мартовские иды. Мост короля Людовика Святого (сборник)
- Время-не-ждет
- Логико-философский трактат
- Возвращение в дивный новый мир
- Север и Юг
- Я захватываю замок
- Долгая долина
- M/F
- Времетрясение
- Конец детства
- Мудрая кровь
- Корпорация «Бог и голем» (сборник)
- Сонная Лощина
- Почтальон всегда звонит дважды (сборник)
- Шерли
- Любовь к жизни (сборник)
- Похвала глупости
- Цезарь и Клеопатра (сборник)
- Ночной полет (сборник)
- Приключения Шерлока Холмса. Возвращение Шерлока Холмса
- Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе
- Слова
- Гертруда
- Король Лир. Антоний и Клеопатра (сборник)
- Метафизика
- Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Записки о Шерлоке Холмсе
- Антихрист. Ecce Homo. Сумерки идолов
- Отсрочка
- Смерть в душе
- Ужасные дети. Адская машина
- Тихий американец
- Логика
- Сингулярность
- Женщина-левша
- Крэнфорд
- Одинокий мужчина
- Двойная спираль
- Руководство для желающих жениться
- Групповой портрет с дамой
- О науке и искусстве
- Письмо незнакомки
- Счастливчики
- Дары волхвов
- Своя комната
- Собака Баскервилей. Долина Страха
- Дао дэ Цзин
- Письма к молодому поэту
- Выбор Софи
- Нарцисс и Златоуст
- Я и Оно
- Двадцать четыре часа из жизни женщины
- Архетипы и коллективное бессознательное
- Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер
- Синяя борода
- Матерь Тьма
- Неведомый шедевр
- Мир как воля и представление
- Цветы зла
- О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов
- Последний день приговоренного к смерти
- Время – деньги. Автобиография
- Принципы коммунизма. Манифест Коммунистической партии
- Советы молодому ученому
- Чрево Парижа
- Степфордские жены
- Феномен самости
- Этика
- Страстная мечта, или Сочиненные чувства
- Сага о Форсайтах
- Кошка на раскаленной крыше. Стеклянный зверинец
- Прощай, Берлин
- Охота
- Критика способности суждения
- Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера
- Моя жизнь, или История моих экспериментов с истиной
- Некрономикон. Книга запретных тайн
- Росхальде
- Законы
- Алая чума. До Адама
- Психопатология обыденной жизни
- Кентервильское привидение
- Античная комедия
- Нищета философии
- Серебряные коньки
- Последний магнат
- Учение о цвете
- Хижина дяди Тома
- Дневник незнакомца
- Полковнику никто не пишет
- Охота на Снарка. Пища для ума
- Ночлег Франсуа Вийона
- О боли, горе и смерти
- Энеида
- Ворота Расёмон
- Искусство побеждать в спорах. Мысли
- Насморк
- Сильна как смерть
- Первый человек
- Сердце тьмы
- Избранные речи
- Его прощальный поклон. Архив Шерлока Холмса
- Хендерсон – король дождя
- Нераскрытая самость
- Германт
- О психологии бессознательного
- Курортник
- Миссис Крэддок
- Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта
- Алая буква
- Счастливая смерть
- Супружество как точная наука
- Музыкальная поэтика. В шести лекциях
- Доказательство бытия Бога
- Феноменология духа
- Тайна поместья Горсторп
- О душе
- Грозовой перевал
- Книга пяти колец
- Голоса летнего дня
- Правила социологического метода
- Фокус-покус
- Тибетская книга мертвых
- Признания Ната Тернера
- Лютый Зверь. Игра. Джон – Ячменное Зерно
- Аргонавтика
- В стране водяных
- Падение
- Трактат о человеческой природе
- Фома. Франциск. Ортодоксия
- Где бы ты ни был
- О государстве
- Маленькие женщины
- Отель с привидениями
- Царство Небесное силою берется
- Воспитание чувств
- Жизнеописания
- Диалоги об Атлантиде
- Лунный камень
- История свечи
- Роза и семь братьев
- Изгнание и царство
- Корабль привидений и другие истории
- Арсен Люпен
- Очерки по теории сексуальности
- 1984
- Беседы
- Дело совести
- Вешние воды
- Дочь Монтесумы
- Две твердыни
- Мастер Страшного суда
- Табакерка из Багомбо
- Пьяный корабль
- Слепец в Газе
- О скоротечности жизни
- Изнанка и лицо. Брачный пир. Лето
- Тайна Желтой комнаты. Духи Дамы в черном
- Наоборот
- Маракотова бездна
- Сэндитон
- Дорога в никуда
- Проблемы души нашего времени
- Жизнь пчел. Разум цветов
- Спящий просыпается
- Сокровище семи звезд
- Генеалогия морали. Казус Вагнер
- Перелетные свиньи. Рад служить
- Сказания Древней Японии
- Настигнут радостью. Исследуя горе
- Ошибка мертвого жокея
- Под маской
- Смятение чувств
- Мертвая комната
- Подарок от Гумбольдта
- Случайность и необходимость
- Волны. Флаш
- Апология математика
- О психоанализе
- Психопатология обыденной жизни. О сновидении
- Ангел западного окна
- Сатирикон
- Страшные Соломоновы острова
- Теория нравственных чувств
- Революция надежды
- История
- Десять дней, которые потрясли мир
- Маленькая принцесса
- Фиолетовый сон
- Анабасис
- Личность и государство
- Рубаи
- Чарующий апрель
- Осень патриарха
- Опыт закона о народонаселении
- Начала политической экономии и налогового обложения
- Комната с привидениями
- Записки врача общей практики
- Приключения Оги Марча
- Наука жить
- Колокол
- Реальное и сверхреальное
- Ворон
- Экономическо-философские рукописи 1844 г.
- Маленькие женщины
- О свободе воли. Об основе морали
- Формирование общественного мнения
- Самый богатый человек в Вавилоне
- Старшая Эдда
- Тотем и табу. Будущее одной иллюзии
- Мера всех вещей
- Дублинцы
- Флатландия
- Тайна семьи Фронтенак
- Философия права
- Фиалка Пратера
- Повесть о прекрасной Отикубо. Повесть о старике Такэтори
- Кармилла
- Категории. Об истолковании
- Человек из очереди
- Пагубная самонадеянность
- Непобежденные
- Мадонна в черном
- Эвмесвиль
- Проблемы метода
- Провокация
- Хорошие жены
- Творческая эволюция
- Неведомому Богу
- Легенды о Христе
- Стратегемы
- Буря. Двенадцатая ночь. Зимняя сказка
- Зверобой
- Возвращение Арсена Люпена
- Основы метафизики нравственности
- Под сенью сакуры
- Юность Розы
- Психология западной религии
- Человек в черном
- Страдания юного Вертера
- Письма к Милене
- Триумф и трагедия Эразма Роттердамского0
- Рождение трагедии из духа музыки
- Неестественная смерть
- Скафандр и бабочка
- Черный тюльпан
- Растревоженный эфир
- Стадный инстинкт в мирное время и на войне
- О граде Божием
- Тайная история Изабеллы Баварской
- Мистер Скеффингтон
- Жизнь и ее модели
- Удачи капитана Блада
- Ворота Расёмон
- О добывании огня
- Книга чая
- Вербное воскресенье
- Кентервильское привидение
- Бегство от волшебника
- Общественное мнение
- Кнульп
- Выбор
- Я жизнью жил пьянящей и прекрасной…
- Кармен
- Чёрный монах
- Инстинкт и бессознательное
- Беседа с богом странствий
- Тридцать лет, которые потрясли физику
- Первая любовь
- Спартак
- Шиллинг на свечи
- Письма молодого врача. Загородные приключения
- Матерь
- Пропаганда
- Короткое письмо к долгому прощанию
- На каждом шагу констебли
- Лунная пыль
- Ночные крылья
- Люди как боги
- Мизантроп. Скупой. Школа жен
- Жюстина, или Несчастья добродетели
- Отдаленное зеркало: пагубный XIV век
- Пески Марса
- Беовульф
- Любовь и дружба
- Культура и ценность. О достоверности
- История с узелками
- Вырождение
- Венеция – это рыба. Новый путеводитель
- Житейские воззрения кота Мурра
- Максимы
- Смерть по объявлению
- Человек недостойный
- Проблема Аладдина
- Звездные часы человечества
- Змеиный перевал
- Оплот
- Скептические эссе
- Луна над горой
- Каллокаин
- Закат Европы. Образ и действительность. Том 1
- Мысли. С комментариями и иллюстрациями
- Как стать леди
- Золотой осел
- Человек, вернувшийся издалека
- Баллада Редингской тюрьмы
- Заживо погребенные
- Властитель человеков
- Духи Дамы в черном
- Великий крестовый поход
- Маленькие мужчины
- Троецарствие. Том 2
- Троецарствие. Том 1
- Наука любви