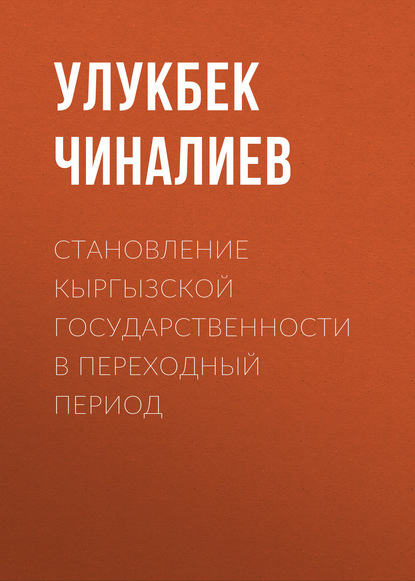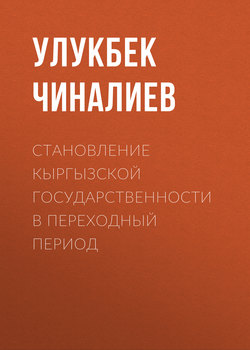
000
ОтложитьЧитал
Таким образом, в результате победы Октябрьской революции 1917 г. и кардинальных социально-политических преобразований была восстановлена киргизская национальная государственность со всеми соответствующими атрибутами. Восстановление после почти тысячелетнего перерыва государственности стало для кыргызского народа событием громадного исторического значения. Благодаря ему кыргызский народ воссоединился, был спасен от ассимиляции и сохранился как этнос со своим языком и многовековой культурой. Государственный суверенитет, хотя и урезанный, во многом декларативный, дал кыргызскому народу возможность развивать экономику, социальную сферу, резко улучшить материальное благосостояние, развивать искусство, создавать национальную науку, подняться до уровня развитых цивилизованных наций мира. Вместе с тем кыргызский народ, как и другие советские народы, на собственной судьбе испытал все тяготы ускоренного строительства социализма, включая культ личности, насильственную коллективизацию, массовые репрессии, диктат административной системы, монополию коммунистической идеологии, русификацию, отрицание национальных ценностей и традиций и т. д., т. е. все то, что было присуще советской политической системе.
Национальная государственность Кыргызстана, как и всего СССР, складывалась постепенно и в основном сформировалась к середине 1930-х гг. Основные ее структурные и качественные параметры были закреплены в Конституции СССР 1936 г. В 1997 г. была принята новая Конституция СССР, сохранившая преемственность идей и принципов Конституции 1936 г., но узаконившая диктат КПСС и усилившая идеологическую, пропагандистскую направленность. На основе Конституций СССР 1937 и 1978 гг. были приняты Конституции Киргизской ССР. Советская государственность была своеобразным, по-своему уникальным явлением. Советская политическая мысль и официальные партийно-государственные документы характеризовали советское государство как социалистическое и общенародное. Рассмотрим эти определения отдельно.
Социалистическое государство. По К. Марксу, социализм есть бесклассовое, безрыночное и, следовательно, безгосударственное общество. К. Маркс нигде в своих произведениях не употребляет термин «социалистическое государство». Поэтому, замечает В. Мельник, «с марксистской точки зрения постановка вопроса о существенных чертах «социалистического государства» должна быть признана теоретически бессмысленной» (10). Но если все же пользоваться определениями К. Маркса, то в СССР был построен «грубый и неосмысленный коммунизм», «коммунизм, отрицающий повсюду личность человека», «казарменный коммунизм». Сущность «глубокого коммунизма», по Марксу, вытекает «из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного, грубого и не имеющего потребностей человека». «Для такого рода коммунизма общность есть общность труда и равенства заработной платы, выплачиваемой общинным капиталом, общиной как всеобщим капиталом» (11).
Представляется также целесообразным посмотреть, как В. Ленин оценивал успехи и перспективы социалистического строительства. В октябре 1921 г. в статье «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции» он отмечал: «Мы рассчитывали – или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали без достаточного расчета – непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку. Потребовался ряд переходных ступеней: государственный капитализм и социализм, чтобы подготовить – работой долгого ряда лет подготовить – переход к коммунизму» (12).
Оценивая социальную сущность советского государства, надо иметь в виду, что Октябрьская революция осуществлялась в мелкокрестьянской стране с надеждой на то, что революционный процесс охватит главные европейские страны, но надежды на мировую революцию не оправдались. К тому же международная ситуация складывалась не в пользу СССР, она, по оценке В. Кременя, Д. Табачника и В. Ткаченко, определила переход СССР на путь развития по антагонистически-конфликтному пути. Из альтернативы – строительство социализма или укрепление государства – было избрано второе. При этом считалось, что укрепление советского государства равноценно строительству нового общества. В результате общество пошло не через фазу «государственного капитализма», как прогнозировал В. Ленин, а через фазу грубоуравнительного, «казарменного» социализма (13).
Следовательно, советское государство, как и советское общество, неправомерно называть социалистическим в марксистском понимании. Советское общество, в основе которого была единая государственная собственность, унаследовало типологические черты традиционного (докапиталистического) восточного общества. Здесь были ликвидированы классы частных собственников, но реальным распорядителем государственной собственности являлся партийно-государственный аппарат. Участие народа в распоряжении собственностью, распределении произведенного продукта и осуществлении власти было чисто формальным. Хотя нельзя отрицать и многие преобразования социалистического характера, осуществленные в СССР, особенно в социальной сфере.
Общенародное государство. Конституция СССР провозглашала, что вся власть в СССР принадлежит народу, а народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов. Конституция Киргизской ССР (вслед за Конституцией СССР) устанавливала, что «Советы народных депутатов непосредственно через создаваемые ими органы руководят всеми отраслями государства, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь (14). Таким образом, в СССР была учреждена республика советского типа, Советы наделялись распорядительными, исполнительными и контрольными функциями.
Советы формировались на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Однако эта в целом демократическая норма носила формальный, декоративный характер. Формирование избирательных комиссий, выдвижение кандидатов, процесс голосования, подсчет голосов – все это находилось под контролем КПСС. К тому же выборы проводились на безальтернативной основе. Все это обеспечивало победу на выборах ставленникам КПСС.
Советы всех уровней образовали единую систему, внутри которой существовали отношения руководства и подчинения. На вершине пирамиды Советов находился Верховный Совет СССР, в республиках высшая власть принадлежала республиканским Верховным Советам, а на местах – Советам народных депутатов. Сессии Верховных Советов созывались 2 раза, а местных – 4 раза в год и длились 2–3 дня. В таких условиях они, естественно, не могли глубоко вникать в вопросы политической, экономической, социальной, культурной жизни. Не только текущие, но и принципиальные вопросы решались Президиумами Верховных Советов СССР, союзных и автономных республик, а на местах – исполнительными комитетами Советов.
Итак, внешне все органы государственной власти в СССР формировались народом, на демократических принципах, а советская демократия была объявлена высшей формой демократии. Но своеобразие советской политической системы в том и состояло, что формирование власти шло по закрытым партийным каналам, власть была отчуждена от народа, недоступна для контроля со стороны общества. Поэтому можно сделать вывод, что СССР не был общенародным государством в прямом понимании этого слова, термин «общенародное государство» носил идеологический, пропагандистский, а не правовой характер. В то же время следует сказать, что советское государство делало очень много для удовлетворения насущных материальных и культурных потребностей народа.
Своеобразие советской государственности состояло и в том, что ее ядро, по определению Конституции СССР 1977 г., составляла КПСС.
КПСС была жестко централизованной партией авангардного типа, ей фактически принадлежала вся власть в СССР, поэтому правомерно говорить о диктатуре партии, хотя сущность этого режима прикрывалась идеологемой «диктатура пролетариата», а затем идеологическими установками об общенародном государстве. Диктат КПСС был законодательно закреплен в Конституции СССР и Конституциях союзных республик. Так, Конституция СССР устанавливала (а Конституции союзных республик эту норму дословно воспроизводили), что КПСС, вооруженная марксистско-ленинским учением, «определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма» (15).
На практике роль «руководящей и направляющей силы советского общества» сводилась к следующему:
1. Все более или менее важные вопросы политической, экономической, социальной, культурной жизни подлежали предварительному рассмотрению и одобрению соответствующими комитетами КПСС и лишь после этого могли оформляться в виде законов, государственных планов, постановлений и других нормативных актов.
2. Все кадровые вопросы в стране решались исключительно через партийные органы. Любое должностное лицо – от председателя сельсовета и до Председателя Президиума Верховного Совета СССР, от директора предприятия, школы, председателя колхоза до Председателя Совета Министров СССР – могло быть рекомендовано и избрано или назначено только после утверждения партийного органа.
3. Партийные организации и партийные комитеты имели право контроля за деятельностью любого государственного органа, предприятия, учреждения, общественной организации и широко пользовались этим правом. Эта норма была зафиксирована в Уставе КПСС, хотя и отсутствовала в Конституции СССР, но это не мешало ее повсеместному применению.
4. Партийные органы (как и вся партия в целом) ни перед кем не несли никакой ответственности за последствия реализации принятых решений или за их невыполнение, ни перед кем, кроме вышестоящих партийных органов, за свою деятельность и ее результаты не отчитывались.
К сказанному следует добавить, что КПСС установила монополию на идеологию. Марксистско-ленинское учение в трактовке партийных идеологов было объявлено единственно верным, любое инакомыслие запрещалось и преследовалось.
Диктат КПСС вызывал недовольство, особенно среди научной и творческой интеллигенции, молодежи. Но с недовольными жестоко расправлялись, и не только в идеологическом, но и в судебном порядке. При этом подобные дела неизменно квалифицировались как уголовные. Мощная советская карательная система зорко следила за марксистско-ленинской чистотой не только поступков, но и мыслей советских граждан. Лишь с началом т. н. перестройки диктат КПСС был несколько ослаблен, но партия так и не смогла реформироваться применительно к новым условиям демократизации и гласности.
Власть в СССР, реально находившаяся в руках КПСС, носила всеобщий характер, контролировала все сферы жизнедеятельности общества: политику, экономику, идеологию, культуру, частную жизнь граждан. Запрещено было все, кроме того, что разрешено (приказано). В обществе исчезла грань между политической н неполитической жизнью.
Вся жизнь общества была заидеологизирована, жестко регламентировалась. Сердцевиной идеологии было провозглашение всеобщего переустройства общества на основе новых ценностей. Средства массовой информации были под полным контролем власти. Государство осуществляло тотальную цензуру над всеми средствами массовой информации. Свободный доступ к информации отсутствовал.
Лидерство в СССР носило, как правило, харизматический характер, многим лидерам были присущи черты вождизма. Естественно, лидер был ставленником правящей партии и опирался на нее.
Демократические права и свободы были провозглашены и закреплены в Конституции, но носили формальный характер, отсутствовал механизм правовой, судебной их защиты. Однако некоторые важнейшие права были реально гарантированы государством: на труд, образование, медицинское обслуживание, социальную помощь по старости, инвалидности или в случае болезни и т. п.
Вследствие отчуждения граждан от собственности общество деклассировалось. Оно было структурировано по вертикали, всякие горизонтальные структуры, отношения и связи были уничтожены.
Политическая система в целом, взаимосвязи и взаимоотношения между ее компонентами приобрели своеобразный характер. Все общественные институты были огосударствлены. Государственный аппарат слился с аппаратом правящей партии. Чрезмерно усилились распределительная и карательная функции государства. Роль представительных органов была сведена к минимуму. Процесс политической социализации полностью контролировался правящей партией, политическая культура находилась на низком уровне, гражданское общество не сформировалось.
Оценивая советский общественный строй, В. Кремень, Д. Табачник и В. Ткаченко называют его тоталитарно-коллективистским. Он характеризуется следующими чертами:
а) административно-бюрократической экономикой с жестко централизованной системой контроля и управления, базирующейся на полном господстве государственной формы собственности на средства производства и лишения индивида реальной возможности совладения и соуправления этой собственностью;
б) псевдодемократической системой власти, базирующейся на диктатуре вождя, который использует для этого структуры единственной в стране и полностью подконтрольной ему политической партии и прикрывается атрибутами демократии;
в) монопольным положением официальной идеологии, исповедующей нормы и ценности деформированной коллективности и признающей необходимость насильственных методов их утверждения в обществе;
г) игнорированием сущности и прав индивида, что оправдывается догматически толкуемым приоритетом общих, коллективных интересов, имеет широкий спектр проявлений от одностороннего развития человека до беззаконного лишения его свободы и физического уничтожения (16).
Подтверждая высказанную ранее негативную характеристику тоталитаризма и его историческую обреченность, отметим, что на определенном этапе исторического развития он сыграл положительную роль, ибо, обеспечивая высокую концентрацию власти и мобилизацию необходимых ресурсов для достижения прогрессивных целей, благодаря развитой системе репрессивных органов сделал невозможным серьезное сопротивление проводимой политике, позволил сравнительно быстро реализовать намеченные меры. Высказанная оценка в полной мере подтверждается и опытом Кыргызстана.
Уже провозглашение автономии (сначала области, а затем республики) явилось мощным фактором консолидации кыргызского народа. Создание жайлоонных Советов, районирование на основе объединения национальных общностей, организация секций Советов и их депутатских групп способствовали коренизации советского аппарата, расширению участия населения в управлении делами села, района, всей республики. К середине 1930-х гг. в Кыргызстане были введены в эксплуатацию более 50 новых промышленных предприятий, проведены большие геологопоисковые работы, производство зерновых культур увеличилось в 4 раза, а заготовка хлопка – более чем в 1,5 раза. Проводилась большая работа по переводу кочевников на оседлый образ жизни. Для них было создано 200 новых поселков, выстроено 7895 жилых домов, 67 школ, 23 лечебницы, 421 помещение для скота. Открылись 3 высших учебных заведения и несколько техникумов, грамотность населения в 1935 г. достигла 57,1 % против 3,5 % в 1924 г. (17).
В целях осуществления генеральной линии партии – форсированного строительства социализма – Центр оказывал Кыргызстану значительную финансовую и материальную помощь. При помощи Центра в индустрии Кыргызстана за годы советской власти было, по существу, создано 130 отраслей, которые выпускали 3700 наименований промышленных изделий. Созданы машинное и приборостроение, электроэнергетика и электроника, строительная индустрия, нефтяная и горнорудная, легкая и пищевая промышленность, построен каскад электростанций на р. Нарын и т. п. В сельском хозяйстве развивались животноводство, зерновое земледелие. Площадь поливных земель достигла 1 млн га. Широкое распространение получило выращивание технических культур – сахарной свеклы, хлопчатника, табака.
Выросло благосостояние народа. В 1985–1990 гг. ежегодно вводилось в строй в среднем 1358 тыс. кв. м жилой площади. В 1991 г. на 100 семей приходилось: радиоприемников – 86, телевизоров – 94, холодильников – 32, стиральных машин – 86, швейных машин – 66, велосипедов и мопедов – 69 и т. д. (18).
Кыргызстан стал республикой сплошной грамотности, еще к концу 1970-х годов был в основном завершен переход к всеобщему среднему образованию молодежи, работали 12 высших и 48 средних специальных учебных заведений, свыше 1210 клубов, 1729 массовых библиотек, 33 музея, 10 профессиональных театров, 1350 киноустановок и т. д. (19). В 1943 г. был открыт Кыргызский филиал Академии наук СССР, а в 1954 г. создана Академия наук Кыргызстана. К концу 1980-х гг. в республике функционировали 50 научных учреждений, в которых трудились свыше 10 тыс. научных работников. Бурное развитие получило искусство.
Приведенные факты неоспоримо свидетельствуют о высоком потенциале советского общественно-политического строя и, в частности, советского тоталитарного режима, о его реальных достижениях. Поэтому Президент Кыргызской Республики А. Акаев имел все основания, чтобы заявить: «Национальная государственность кыргызского народа в годы советской власти, даже при том, что она в значительной мере действительно была категорией декларативной, имела громадные положительные последствия. Я уж не говорю о том, что кыргызы были спасены от геноцида, что осуществлялось культурное строительство, которое при всех своих издержках не может не вызвать восхищения. В кыргызском обществе сложилось (в достаточной мере цивилизованное) политическое, государственное и даже правовое сознание» (20).
Однако к концу 1980-х гг. потенциал советского строя во многом был исчерпан, а тоталитарный режим, административно-командный метод управления, господство марксистской идеологии, проповедующей партийный, классовый подход к любому вопросу, чрезмерная централизация власти, диктат центральных властей стали тормозом общественного развития, они привели к глубокому кризису советского строя, а затем к его краху и распаду СССР.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о суверенитете Кыргызстана в составе СССР.
В советском государственном праве длительное время господствовала теория ограниченного суверенитета, она нашла отражение и в Конституциях СССР 1924 и 1936 гг., которые устанавливали, что суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных в Конституции, и лишь по пределам, отнесенным к компетенции СССР. Вне этих пределов каждая союзная республика осуществляет государственную власть самостоятельно. Впоследствии от термина «ограниченный суверенитет» по политическим, а скорее по пропагандистским мотивам отказались. В Конституции СССР 1977 г. зафиксирован статус союзной республики как суверенного социалистического государства. Подобная норма содержалась и в Конституции Киргизской ССР: «Киргизская Советская Социалистическая Республика – суверенное советское социалистическое государство» (21). Однако, по мнению С. Н. Бабурина, в данном случае «более корректно и юридически точно говорить о реализации в СССР определенной модели совместного суверенитета» (22), хотя и эта точка зрения, на наш взгляд, требует более углубленной разработки.
СССР был провозглашен союзным многонациональным государством, образованным на основе принципа социалистического федерализма. В условиях федерации самым важным является вопрос о том, насколько оптимально и четко, исходя из экономической и политической целесообразности, определены и разграничены компетенции союзных и республиканских органов государственной власти. Однако в Конституциях СССР и 1936 г., и 1977 г. отсутствовали даже общие положения о принципах распределения компетенций, зато делался упор на единство и централизм в управлении, а на практике компетенция союзных органов постоянно расширялась. Более того, Конституция СССР определяла, что «законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик. В случае расхождения закона союзной республики с общесоюзным законом действует закон СССР».
Определив вопросы, относящиеся к ведению Союза, Конституция СССР устанавливала, что вне этих пределов союзная республика самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории. Конституция Киргизской ССР содержит довольно внушительный перечень вопросов, относившихся к компетенции республики. Однако этот перечень требует анализа и оценки, ибо без них невозможно составить представление о содержании и объеме реального суверенитета. Ограничимся лишь несколькими примерами.
К компетенции республики относилось законодательство Киргизской ССР. Но, как уже отмечалось, на территории СССР действовало единое союзное законодательство, оно обладало верховенством по отношению к республиканскому законодательству. Поэтому если Киргизская ССР и принимала какие-либо законы, то они создавались на основе и во исполнение соответствующих союзных законов, зачастую просто дублируя их. Типичным примером такого законодательства была Конституция Киргизской ССР. Из 172 ее статей 44 дословно воспроизводили соответствующие статьи Конституции СССР. 88 статей отличались лишь редакционно – в них вместо аббревиатуры «СССР» было записано словосочетание «Киргизская ССР», а остальные 40 хотя текстуально и не совпадали с союзными нормами, но повторяли их концептуально или не несли правовой нагрузки (например, статья о том, что столицей Киргизской ССР является г. Фрунзе).
Конституция Киргизской ССР относила к компетенции республики разработку и утверждение государственных планов экономического и социального развитая, государственного бюджета. Действительно, Верховный Совет Киргизской ССР на своих сессиях рассматривал и утверждая 5-летние и ежегодные планы экономического и социального развития, ежегодно утверждал государственный бюджет республики н отчет о его исполнении. Но контрольные цифры и по планам экономического и социального развития, и по бюджету, в том числе и в разрезе союзных республик, и по общесоюзным ведомствам утверждал Верховный Совет СССР (естественно, после их одобрения ЦК КПСС). Верховному Совету Киргизской ССР оставалось лишь разверстать спущенные сверху цифры по областям, конкретизировать отдельные установки.
Киргизская ССР, по ее Конституции, должна была обеспечить охрану государственного порядка на своей территории. Но при этом следует иметь в виду, что республиканские силовые структуры (МВД, КГБ, внутренние войска) напрямую подчинялись соответствующим союзным органам, выполняли их предписания, в лучшем случае лишь информируя органы государственной власти республики о своей деятельности.
Интересной была ситуация с компетенцией Киргизской ССР устанавливать порядок организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления. Дело в том, что статья 73 Конституции СССР установление общих начал организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти относила к ведению Союза. В этой связи напомним о верховенстве союзных законов по отношению к законам союзных республик. Поэтому если между Центром и союзной республикой возникали разногласия по поводу организации и деятельности республиканских и местных органов, то последнее слово оставалось за Центром.
Перечень подобных примеров можно продолжать и продолжать. Они однозначно свидетельствуют, что дарованные союзным республикам компетенции на деле оказывались существенно урезанными, носили декларативный, пропагандистский характер, а поэтому и кыргызский государственный суверенитет на деле ничего общего с реальным суверенитетом не имел.
Такое положение вещей сковывало инициативу союзных республик, вызывало недовольство, порождало центробежные настроения. Центр не мог не считаться со всем этим. Поэтому в русле реализации провозглашенных лозунгов перестройки родилась идея о заключении нового Союзного договора, в котором предполагалось расширить компетенции союзных республик, наполнить их реальным содержанием. Но реализовать эту идею до конца не удалось, СССР распался. И одной из причин его распада стала дисгармония в отношениях между Центром и союзными республиками.
Примечания
1. Программа Российской социал-демократической рабочей партии, принятая на II съезде партии // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. I. – М., 1953. – С. 40.
2. «Августовское» 1913 г. совещание ЦК РСДРП с партийными работниками // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. I. – М., 1953. – С. 315–316.
3. Там же. – С. 316.
4. Программа РКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. II. – М., 1953. – С. 416.
5. Двенадцатый съезд РКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. II – М., 1953. – С. 711, 712.
6. Десятый съезд РКП(б) // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. I. – М., 1953. – C. 559.
7. Малабаев Дж. М. История государственности Кыргызстана. – Бишкек, 1997. – С. 70–71.
8. Ожукеева Т. С. XX век: возрождение национальной государственности в Кыргызстане. – Бишкек, 1993. – С. 8.
9. История кыргызов и Кыргызстана / Отв. ред. Т. Койчуев. – Бишкек, 1998. – С. 176.
10. Мельник В. А. Политология. Изд. второе. – Минск, 1997. – С. 170.
11. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Изд. 2-е. – Т. 42. – С. 115.
12. Ленин В. И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 151.
13. Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Украiна: альтернатива поступу (критика iсторичного досвiду). – К.,1996. – C. 104.
14. Конституция Киргизской ССР. 1978. – Ст. 82.
15. Конституция СССР. 1977. – Ст. 6.
16. Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Указ. произв. – С. 313–314.
17. У истоков кыргызской национальной государственности / Ред. Т. К. Койчуев, В. М. Плоских, Т. У. Усубалиев. – Бишкек, 1996. – С. 24.
18. Кыргызстан в цифрах. 1991 / Государственное статистическое агентство. – Бишкек. – С. 6, 63.
19. Там же. – С. 87, 89, 91, 93.
20. Акаев А. Доклад на торжественном заседании, посвященном 70-летию образования Кыргызской автономной области. 7 октября 1994 г. // Акаев А. Раздумья на судьбоносном этапе. – Бишкек, 1994. – С. 16.
21. Конституция Киргизской ССР. – Ст. 68.
22. Бабурин С. Н. Территория государства: правовые и геополитические проблемы. – М., 1997. – С. 49.