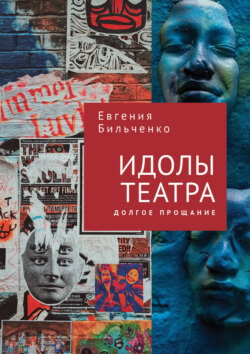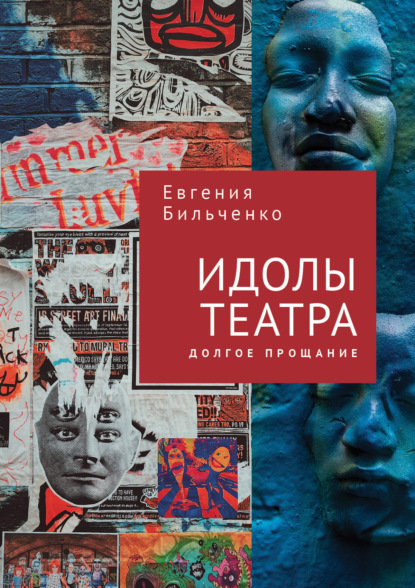1.7. All inclusive?
Описанная нами ситуация создает впечатление безальтернативности глобализма. Самое главное, что следует знать о психологическом восприятии глобализма и глобализации, – это чувство безысходности, конспирологическое ощущение того, что «всё включено во всё», «все между собой договорятся», и выхода из этой ситуации, как не было, так и нет. Принудительная конспирология порождает соблазн отождествить глобализм с универсализмом как всеобщим принципом восприятия мира: именно этого и добивается глобализм, который изо всех сил старается надеть на себя маску универсальности. Иными словами, глобализм сам внушает нам мысль о собственной безальтернативности, о круговой конвенциональности, об отсутствии выхода из своего хронотопа. В этом и состоит стратегия «умной» силы внушения – смарт-силы.
Претензии глобализма на универсальность заставляет нас пересмотреть временные рамки глобализма и перенести его из эпохи модерна и постмодерна (Нового и Новейшего времени), в частности, из второй половины двадцатого – двадцать первого века, в исторические глубины: во времена появления философии как универсального Логоса («осевое время» Карла Ясперса)[20] и развития имперских элитарных культур, начиная с проекта Александра Македонского и заканчивая Римской империей. В матрице линейного прогресса глобалистами выделяются своеобразные «опорные точки» становления универсализма: они возникают там, где формируются государственные и общественные образования, претендующие на вселенский характер. Крестовые походы, Конкиста, Византия как Второй Рим, Москва как Третий Рим, экуменизм, советская индустриализация и эпоха «большого стиля» в США – всё это рассматривается как «подступы» к той глобальной матрице, которая установилась в современное время.
Тут мы вновь возвращаемся к проблеме власти и невольно вспоминаем Мишеля Фуко, который говорил о системе Паноптикона – дисциплинарном обществе тюремного надзора за своими многочисленными этносами и субэтносами[21]. Мифоритуальный мир с его онтологическим культом смерти и сакральными традициями бытийности закончился. Начался мир интеграции локусов в единую структуру. Этот мир накладывает табу на Чужого (Эдипа). Смерть – главный Чужой, концентрат отличия. Смерть больше не разыгрывается в мифологической трагедии ритуала под стенания плакальщиц или в художественной постановке публичной казни под торжественные оглашения приказа, а покрывается непристойным хихиканьем. Она скрывается за вычищенным пластиком хосписа как нечто постыдное. По мере эскалации метафоры, когда дерзкая личность начинает подвергать сомнению все духовные устои и ниспровергать все запретные зоны, включая пыточную, будуар и хоспис, смерть превращается в эстетизированную катастрофу, в медиа-шоу. Общество смерти – это общество непрерывного воспроизведения желания потреблять, на котором строит свою эписистему коллективный, колониальный и постколониальный, Запад.
При таком широком подходе к глобализму отсутствует разграничение колониализма и империализма. Эти понятия кажутся близкими, почти созвучными, когда кто-то подчиняется, а кто-то подчиняет. Есть Господин и есть Раб. Есть Большой Другой в лице условного Отца – метрополии, от которой зависят колонии. Но разве подобное уравнение – это не то же самое, к чему стремится мир Запада, ставя в один ряд коммунизм и нацизм, гитлеризм и сталинизм, Российскую империю и уничтожение конкистадорами ацтеков? Разве это – не способ перенести наше внимание на колониальный Восток, чтобы скрыть угнетения, чинимые на Западе? Разве это не манипуляция, при помощи которой любая иная традиция провозглашается репрессивной, лишь бы скрыть свою собственную репрессивность? В воображаемом выборе между единственным и отсутствующим нам предлагается отсутствующее как альтернатива. Колониальный Восток сейчас – это отсутствующее, даже, если предположить, что он в свое время исторически существовал, хотя это весьма сомнительно, учитывая невозможность судить об империях на Востоке по гегельянским проекциям.
Давайте же продвинемся еще дальше и посмотрим, насколько восточный империализм и западный колониализм различаются между собой по степени тоталитарности. Ответ на вопрос кроется в самой природе Большого Другого, которая показывает нам сущность Отца как центрального звена системы. Образ Отца принципиально отличается на Западе и на Востоке, в колониализме и в империализме. Классические восточные традиционные империи, если понять это определение широко, от византизма до коммунизма, от Российской империи до частично современной России, которой приписывают инерцию Империи, – это структуры, образованные на почве сакральных традиций. В их основе всегда лежит религия, которая определяет патриархальный, семейный образ Отца. Это не мертвый Отец либерализма и не гротескный Отец фашизма. Это – подлинный онтологический Отец, который сливается с Сыном на основе взаимного осознания нехватки: нехватки Отца в Сыне и Сына в Отце. Только так это и может читаться.
Вспомним Юрия Михайловича Лотмана, который говорил о диалектике отношений Отца и Сына в Империи, называемых им «культура-донор» (Отец) и «культура-реципиент» (Сын). Их отношения проходят стадии отрицания, торга и принятия, или: центризма, децентрации и вновь центризма[22]. На первой стадии Сын слепо подчиняется Отцу. Культура-реципиент не осознает своей зависимости от донора и воспринимает донора безоговорочно, как «свет в окне», как источник самых сакральных и авторитетных смыслов. На второй стадии Сын начинает протестовать против Отца. Начинается торг, бунт периферии против центра. Реципиент утверждается над донором не самостоятельно, а за счет усвоения его богатств. Хочу напомнить вам современную Украину и одиозный проект Украины-Руси, введенный в свое время М. Грушевским и поддержанный на волне либерал-национализма. Реципиент в лице Украины искусственно расчленяет тело донора (Руси, России) на отдельные элементы, в его понимании «плохие» и «хорошие», удобные и неудобные, «настоящие» и «ненастоящие». Вступает в действие принцип фрагментации идентичности Отца. Отец дробится на желательное и нежелательное. Образ России разделяется на «имперское наследие» и «язык, который ни в чем не виноват», политику и культуру, «полезное» для западного рынка, к которому стремится Украина, и «вредное», либеральное начало и начало консервативное. Утверждение своего господства над донором происходит за его же счёт, за счёт донорских ценностей языка и культуры, которые вдруг отрываются от их исторического центра и переносятся на якобы «единственно законное» место. Так, истинная Русь, «Русь изначальная», внезапно «рождается» на Украине. В основе торга лежит разграничение авторитета донора (России) и авторитета транслируемых им текстов (культуры и языка). Эта скрытая форма национализма, замаскированная либеральной «терпимостью», в отличие от чистого этницизма, когда ненависть к стране приводит к ненависти к ее культуре, – довольно устойчива. Но и она имеет свойство заканчиваться.
Последней стадией отношений Отца и Сына в Империи является принятие. Это – возвращение блудного Сына, который осознал свою нехватку и ущербность без Отца. Воскрешение Бога не является чем-то нежданным, хотя это, безусловно, – чудо. Но чудо есть одновременно результат всей диалектики предшествующего исторического процесса, неизбежностью, которой завершается развертывание идеи, синтезом и метафизическим разрывом одновременно. Николай Данилевский говорит о трех видах взаимодействия культур, что позволяет нам дополнить динамику трех этапов их взаимоотношений в историческом времени ещё и морфологией цивилизационного пространства. Речь идет о «пересадке», «прививке» и «удобрении» – по аналогии с ботаникой[23]. При пространственной «пересадке» местная культура, культура-реципиент, подчиняется пришлой (донору) полностью. «Пересадке» соответствует стадия отрицания во времени. При «прививке» местная культура использует отдельные свойства пришлой, а пришлая точно так же поступает по отношению к местной. Аналог – стадия торга у Лотмана. При «удобрении» местная культура полностью обогащается пришлым донором, безвозмездно отдающим богатство, и благодаря этому происходит их осознанное слияние и взаимное наращивание ценностей. Временным соответствием пространственного «удобрения» является стадия принятия.
Возвращаясь к проблеме соотношения колониализма и империализма, отметим, что отличие образа Отца в империи от образа Отца при колониальном строе состоит в том, что имперский Отец устанавливает с Сыном отношения, основанные на удобрении и принятии. Мы сейчас не говорим о некоем «добром папочке». Мы говорим, в том числе, и о суровом Отце, чья доброта состоит в его действенности, то есть, в его любви к Сыну, ибо любовь – это универсальная активность. Главная особенность Отца состоит в том, что он – жив, то есть, – открыт для присутствия, воплощения, номинации. Традиция не может существовать в виде мертвого музейного наследия. Бывшее вчера выживает только, будучи завтра. Будущее рождается в прошлом, а прошлое – в будущем. Личное переживание традиции как индивидуального поэтического мифа является залогом соборного единства в обществе, построенном на традиционных сакральных ценностях.
Иное дело – ризома. Постмодерная глобализация – гетерономна: это не значит, что глобализм имеет несколько равноправных источников, глобализм продолжает оставаться преимущественно англо-саксонским, лишь в последнее время его пошатнул Китай. Гетерономность не тождественна многополярности. Она означает, что информация о западном глобализме поступает одновременно из множества центров мирового рынка, основанного на сетевой экономике. Эти хабы – настолько рассредоточены и рассеяны, что самим своим присутствием ликвидируют вертикальные механизмы власти. Так рождается мертвый Отец либерализма – равнодушный Другой. Образуется огромное количество символических узлов и цепочек, работающих одновременно, в роении медиа-вирусов, цепко охватывающих голову каждого человека, подобно стайке насекомых.
Спецификой общества ризомы является Синоптикой: плавающая и скользящая поверхность ситуативных горизонтальных связей без главного корня, структура, не являющаяся структурой, центр, который не есть центр, Иное Иного – вечно меняющееся, эфемерное, неуловимое. В Синоптиконе совершенно иначе формируется общественное мнение. Классические СМИ второй волны уступают место индивидуальным медиа. Мир становится прозрачнее и прозрачнее, потому что в эру Интернета ничего невозможно скрыть, но от этого он не становится лучше, потому что вместо уничтожения ближнего по незнанию декларируется осознанное или полуосознанное желание уничтожать. Меньшинство в лице политической элиты теряет былые рычаги власти. Сама власть утрачивает признаки дисциплинарности и командной цензуры. Отныне не меньшинство контролирует большинство по знаменитой фукианской формуле «надзирать и наказывать», а большинство контролирует и меньшинство и друг друга через сеть.
Контроль становится тотальным. Сеть предпринимает универсальный захват. Экономика, основанная на сети, становится символической и интуитивной, основанной на рискованной манипуляции интровертными желаниями. Потому это общество и называется обществом «риска» и «контроля». Если мы обратим внимание на основу существования Синоптикона – виртуальность, – мы увидим здесь «символическое кладбище локального сообщества», или «фабрику неподвижности», как удачно выразился 3. Бауман[24]. Речь идет о том, что сеть, являясь глобальной, одновременно является частной и локальной. Подобный парадокс можно объяснить и психологическим фактором, и фактором сжатия хронотопа в коммуникации. В Синоптиконе, в ризоме, действуют неприкрытые травмы и эстетизированные катастрофы, открытые швы цензуры, ничего не запрещающей, потому что падают все табу. Больше нет патернализма, патриархальных устоев Отца. Сама фигура Отца рассеивается. На части распадается тот, кто отвечал за раздачу указаний, – патрон, цензор и контролер. Сегодня мы извращённо наслаждаемся смертью Отца, кастрацией Символического. В мире, где нет гранднарративов, где исчезли большие правила, – как человеку жить? Человек привык смотреть на себя глазами Другого, определяться через Другого, идентифицировать себя посредством Другого. Человек – оптический прицел Другого, объект его пристального взгляда. Он думает о себе то, что думает о нем Другой. Погоны от Другого очень важны. Без означающих трудно реализоваться как личность. Когда человек теряет «бейджик» Другого, он оказывается наедине с самим собой. Лишенный символической пристежки, он сталкивается с пустотой Реального. Что же он испытывает? Ужас, разочарование, панику, отчуждение. И, как ни странно, порочное удовольствие от собственной безнаказанности.
Вместо Отца как Большого Другого, главного раздатчика означающих, мы сталкиваемся с огромным, просто неисчислимым, количеством собеседников, очаровываться которыми мы в принудительном порядке эстетики, выдающей себя за моральный Закон, обязаны: это наши реальные, но чаще виртуальные «друзья» или «враги», разумеется воображаемые, которых мы идеализируем или демонизируем, предметы фантазмов, плюральные другие. В обществе постмодерна каждый человек оказывается в эпицентре ковровой бомбардировки тысячи мнений. Ассортимент позиций – бесконечен. Человека просто заталкивают, забрасывают роем интерпретаций. Его атакуют чужие трактовки и толкования событий, из которых он не в состоянии выбрать правильную и удобную для себя, не в состоянии согласовать эти мнения и позиции. Доселе комфортная картина мира – сшивка – начинает мигать, давать сбои и короткие замыкания. Образуется разрыв цепочки означающих, а Отца, способного ее сшить и «всё объяснить», – больше нет рядом. В ужасе, в панике, в отчуждении человек бежит всё глубже и глубже в пространство сети, но и там он не получает облегчения, потому что экран не имеет основания, ризома не имеет конца, сеть отрастает с любой возможной точки, где бы не произошло отсечение части ее тела, ей не страшны никакие резекции. Вакуум расширяется, разрыв становится все болезненнее. Сколько раз мы сталкивались с огромным количеством пользователей в состоянии короткого замыкания, когнитивного диссонанса, известного как «информационный шок».
Так, мы возвращаемся к проблеме, заданной в социальной психологии Эриха Фромма как «бегство от свободы»[25]. Смерть Отца можно рассматривать как утрату Золотого Века, или же выход человека из состояния традиционной зависимости, названной Фроммом «оргиастическое единство» патернального общества, где есть жесткая коммуникация, но нет личной свободы. В результате победы Логоса над Мифом в «осевое время» произошло развитие рациональности, критического мышления, и высвобождение индивидуальности из тисков Рода. Личность, которая смогла «выйти наружу», артикулировать себя, становится универсальным субъектом истории. Но не всё так оптимистично. Лишенный Отца в лице родоплеменных покровителей, человек теряется в рое означающих. Он оказывается слишком морально слабым, чтобы нести бремя свободы, ведь свобода – это, в первую очередь, выбор и ответственность. Неспособность осуществить выбор и неспособность взять на себя моральную ответственность, ограничив свободу внутренним категорическим императивом, превращают человека в раба собственной анархичности, которой он, естественно, пугается. Противоречивые чувства разрывают его, превращая свободу в источник страдания, одиночества и сомнений. Разрыв усиливается. В состоянии шока человек волен отдать свою свободу кому-то другому. Он настойчиво ищет утраченного Отца. И, если он его не находит, свобода, что называется, отдается первому встречному. Им может быть случайный собеседник в сети, а может быть и сам этот человек, отчуждённый от себя, расколотый, разорванный, воспринимающийся как нечто отдельное от самости. В условиях отсутствия высшего начала, авторитета, традиции человек воспринимает себя как Другого и накладывает на этого воображаемого Другого, собственную проекцию Тени, функции Отца. Он вынуждает себя самого принимать для себя же те же нормы, которые давал ему Отец, он накладывает на себя те же правила и ограничения. Только эти нормы оказываются несоизмеримо жестче отцовских: человек начинает запрещать себе не только то, что запрещал ему делать Отец, но и то, что, согласно 3. Фрейду, Отец запрещал делать самому себе. В результате внезапно появившейся свободы и последующего отчуждения мы имеем полную несвободу.
Тогда становится понятным знаменитый вывод Жака Лакана о том, что, «если Бог умер, не дозволено ничего», в то время, как, согласно Ф. Достоевскому, если Бога нет, то всё дозволено[26]. Если рассматривать бегство от свободы в коллективном аспекте современности, то оказывается, что происходит отчуждение бессознательного в сети. Сталкиваясь с собственной бездной, человечество переживает катастрофу и тут же символизирует её в цифровом пространстве, выводя на экран как эстетство, как кровавое реалити-шоу, ужасающее и любопытное одновременно. Так образуется особая Вселенная экрана: Символическое Реальное, оцифрованное бессознательное. Именно это Символическое Реальное, сгущаясь до воображаемой фигуры большого Другого, извращенным образом «оживляет» Отца. Происходит как бы заново «откапывание» Бога в сети, только Бог оказывается Антихристом, идолом театра, божеством перформанса. Формируется образ гротескного, перверзивного Отца фашизма, приходящий на смену мертвому Отцу либерализма: эксгумированный «бог» не может быть настоящим Богом. Это квазисакральное, крипторелигиозное начало. Извращенный Отец кибернетического контроля запускает невидимые верхние хабы управления многочисленными роящимися вирусами сообщений, отменяя все либеральные институции толерантности. Образуется цифровой концлагерь – единственное, чего достоин человек, потерявший подлинного Отца, подлинную традицию. Так иллюзия карнавального многообразия оборачивается глубинной внутренней устойчивостью, невидимым монизмом управления со стороны Машины.
Глобализм завершает свой круг, колониальный круг движения от центрации через децентрацию к новой центрации, от подчинения через иллюзию свободы к новому подчинению. Здесь действительно всё включено. По сути, в колониальной парадигме, на фоне которой изящным привидением мультикультурализма успевает промелькнуть постколониальная, мы имеем дело с той же динамикой отношений Отца и Сына, что и в традиционализме. С одною лишь разницей: вместо фигур Отца и Сына мы имеем фигуры Господина и Раба, потому что вместо живого Отца мы сталкиваемся с искаженным Отцом, извращенным Отцом, гротеском Отца. В этом круге не существует никакой осознанности, никакого сознательного возвращения к высшему началу. Возвращения блудного Сына и слияния нехваток в любви как в Реальном не происходит, взаимного обогащения и приращивания богатств – тоже. Искаженный Отец колониализма властвует, живой Отец традиционализма помогает. Когда модерн и постмодерн уничтожают традиции, религиозные ценности и патрональные устои, человек в упоении собственной свободой остро ощущает свое отличие. Осознание отличия должно было бы привести его к развитию, а приводит к бегству от свободы и вхождению в новый круг зависимости от ложного патрона, от неумолимого техногенного покровителя, сотканного из внешних сил, в роли которых предстают объективированные желания и фантазмы самого человека. Поэтому принцип роскошного буржуазного отеля «всё включено» – источник негативного состояния обреченной безальтернативности замкнутого круга – свойственен именно колониализму, а не традиционализму.
1.8. Синдром Стокмана
В 2022 году украинские военнопленные рассказывают русским военным о том, что воевавшие на их стороне американские союзники относились к ним, как колонизаторы – к аборигенам: унижали, смеялись, заставляли стирать одежду и т. д. Даже, если допустить идеологическое желание пленных понравиться пленившему, можно предположить, что срабатывает эффект поворота от извращенного Отца глобализма и колониализма к подлинному Отцу империализма и традиционализма: русские-то не будут с ними обращаться, как с рабами, – здесь включается ожидание воскресения братства. Фабрика неподвижности, коей является цифровой концлагерь, в военных условиях проявляется как откровенный газлайтинг – уничижительное смешливое насилие Господина над Рабом. Мы говорили о том, что сеть, от которой зависит человек, является глобальной и локальной одновременно. Как это объяснить? Что за символическое кладбище хуторского сообщества имеется в виду?
Во-первых, мы должны исходить из того, что, если в сети странным образом оживает перверзивная фигура Отца-Господина, искаженной традиции, в сети есть нечто мифологическое. Она и есть компенсатор потерянной традиции родоплеменной коммуникации, в ее основе лежат отчужденные в Символическом Реальном идолы рода – культурные архетипы бессознательного, подвергшегося цифровизации и экранизации. Сакральные смыслы переполняют сетевое сознание. Оно представляет собой чистый миф, фольклорную среду. Именно поэтому М. Маклюэн назвал эту мифоритуальную среду «глобальным селом»[27]. Глобальности свойственна беспрецедентная местечковость. Сообщения, передаваемые в сети, имеют свойства сплетни, легенды, мифа, анекдота, волшебной сказки. В сети нас окружают боги, демоны, мифологические герои, идолы пещер и языка, рода и театра. Но, в отличие от фольклора, сеть не представляет собой весь народ. В ней действуют локусы, платформы, группы и кластеры, дергаемые за ниточки невидимыми хабами верхнего управления. Эти группы представляют собой своего рода постановочное народное вече. Речь идет о том, что У. Эко назвал «театрализацией народной воли» в ур-фашизме. За универсальную волю народа выдается мнение весьма узкой партикулярной группы людей, создающей иллюзию большинства.
В традиционном обществе меньшинство руководит большинством. Большинство в массе своей – молчаливо, но оно хотя бы бытийно существует, бытийствует. Совершенно иная ситуация складывается в обществе постмодерна, где большинство отсутствует в силу фрагментации социума, отсутствует критическая масса онтологически подлинного, Реального – людей, если хотите, толпы, и её коллективного бессознательного. Назовем это «синдромом Стокмана» и объясним почему. В пьесе Генрика Ибсена «Враг народа»[28] главный герой – доктор Томас Стокман – питает в начале повествования романтические иллюзии относительно поддержки его бунта со стороны некого «сплоченного большинства» – народа. К концу истории он понимает, что предмет его мечтаний – «сплоченное большинство» – это чудовище, Левиафан, тёмная силы толпы, готовой предать и растерзать. Ницшеанские аристократические интонации, лежащие в основе этого заявления, дали в своё время повод К. Станиславскому изменить фразу «сплоченное большинство» в советской постановке «Врага народа» на выражение «так называемое сплочённое большинство»[29]. В этом жесте видится нечто большее, чем дань марксистско-ленинскому революционному времени. Нам представляется, что К. Станиславский невольно опередил своё время и выразил то, что в постмодерне называется симуляцией, имитацией, чистой репрезентацией. Выражение «так называемая толпа» фиксирует искусственную природу большинства в обществе ризомы, в сетевом обществе, где все разрознены, где нет никакой солидарности, даже негативной, даже – солидарности в ненависти.
Переводя риторику доктора Стокмана на язык психоанализа, осмелимся утверждать: в индустриальном обществе модерна толпа есть сила Реального, используемая политиками для создания вертикальной власти («генерала» по Ж. Делёзу)[30]. Между «толпой» и правителем формируются отношения Господина и Раба: складывается линейная иерархия управления, разрабатывается классическая цензура. Между толпой как Реальным и властью как Символическим, между приватным и публичным, интимным и социальным, всё время сохраняется дистанция метафоры, свойственная для обществ спектакля (Ги Дебор)[31]. Это означает, что пространство как маркер личного и время как маркер публичного держатся на горизонтальной и вертикальной осях синтагмы и парадигмы на некотором «приличном» отдалении, но одновременно и в балансе. Соблюдается эффект театральной завесы, Воображаемого, невидимой стены между реальной силой толпы и символическим институтом власти, просцениума. С другой стороны, Реальное и Символическое, власть и народ оказываются онтологически связанными общими интересами государства (Отца), как связаны между собой кольца Борромео у Ж. Лакана[32]. Отступник, нарушивший эту связь, карается системой, его позиция попадает под запрет, он представляет собой тип делёзовского «Эдипа»[33].
Иначе дело обстоит в обществе постмодерна, где господствует тотальная прозрачность. В постмодерне сдирается завеса. Больше нет никаких метафор. Реальное проступает как оно есть: спектакль заменяется откровенным зрелищем непристойного. Этот прорыв бездны и называется «гиперреализмом симуляции», или «экстазом коммуникации», по Ж. Бодрийяру[34]. Всеобщая открытость стирает грани публичного и приватного, интимную правду больше невозможно скрывать или символически репрезентовать через иносказание, мир абсолютно открыт и при этом – абсолютно пуст. Любую правду можно рассеивать в пространстве медиа-коммуникации, отсюда происходит симулятивный гиперреализм постправды. В гиперреалистических обществах солидарность большинства рассеивается в хаосе коммуникации атомарных индивидов.
Метафора «генерала» подвергается деконструкции: вертикаль распадается, и отныне исчезает само понятие «сплочённого большинства», как и понятие Отца, которому это большинство подчиняется. Реальное, рассеиваясь, утрачивается. Потеря бытийной силы «толпы» приводит к образованию пустоты. Смерть Отца побуждает людей к еще большей самоцензуре, уход одного дракона рождает их тысячами. Речь идет об идеологии либерального постмодерна. Свобода, заполнив собой всё, вытеснила собственное присутствие. Право на гласность стало репрессивным, уничтожив право на тайну.
Репрессивность свободы состоит в том, что нас лишают права быть несвободными, то есть быть «в большинстве». В таких обстоятельствах герою Ибсена делать нечего: ему некому противостоять. Он просто становится другим среди других, растворяясь во всеобщей пустоте. Его не поощряют и не санкционируют: либеральная ирония попросту не замечает бунтаря, чем только усугубляет его собственную нехватку. В крайнем случае, Стокман может быть нейтрализован посредством газлайтинга: уничижительных шуток, насмешек, сомнений, издевательств, приводящих его к полной маргинализации и заставляющих сомневаться в собственной адекватности: ведь он выставляет себя на посмешище, говоря всем о том, что и так все знают.
Отсутствие «сплочённого большинства» бросает вызов, требующий театрализации народной воли. Чтобы власти говорить от имени народа, этот народ надо сначала «создать» в политикуме в качестве рекламного продукта. Принуждение к либеральности выражается через поиск воображаемого единства. Чтобы сконструировать это единство, создать эффект толпы, локальное выдается за глобальное. Для локального создаются интегративные модели коллективных воспоминаний – искусственная, рекламная, память сообщества. Подлинная память исчезает там, где начинают действовать институты памяти. Если в обществе модерна хтоническая «толпа», при всей её одержимости, была носителем народной культуры, фольклора и родовой памяти, то в условиях «конца истории» (Ф. Фукуяма)[35] природная память рассеивается. Возникает необходимость конституирования прошлого в массовом локальном сознании посредством соответствующих пиар-акций. Модель воспоминания становится образцом для формирования определенной коллективной идентичности, сплачивающей группу в целое в угоду политике финансовых элит и покупаемых ими государственных режимов.
- Последнее целование. Человек как традиция
- Эстетика пространства
- Организация. Тектология XXI
- Оптимистическая трагедия одиночества
- Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем
- Cова Минервы вылетает в сумерки. Избранные философские тексты ХХI века
- Помнить фотографией
- Тело свободы: ответственность и воплощение смысла. Философско-семиотический анализ
- Философия поступка. Самоопределение личности в современном обществе
- Эпистемология добродетелей
- Контекстуальность онтологии и современная физика
- Философский проективный словарь. Новые термины и понятия. Выпуск 2
- Человечество и Технос: философия коэволюции
- Переживание стыда в «зеркале» социальных теорий
- Метафизика власти
- Бозон Хиггса, квантовые струны и философия физики
- Философия возраста (возраст и время)
- Сентиментальное насилие либерализма. От шока к китчу
- Чело-век технологий, цивилизация фальшизма
- Знание в контексте
- Метаморфозы. Новая история философии
- Идолы театра. Долгое прощание
- Введение в пособие по сборке вселенной
- Узус Танатоса. Патафизика смерти