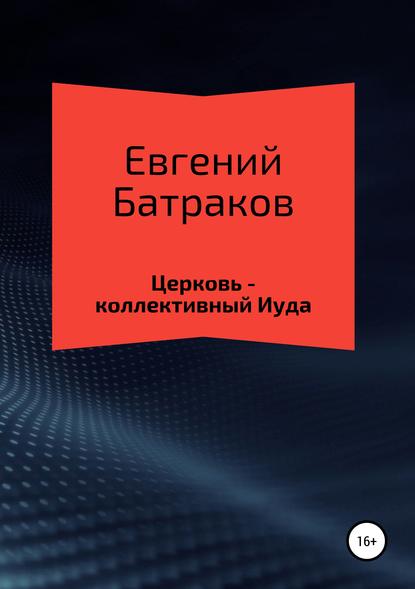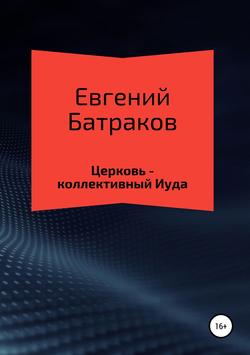
000
ОтложитьЧитал
Трудно сказать, какова причина галлюцинации, на основе которой церковники твердили и твердят, будто бы на Тайной Вечере было броженое, «красное виноградное вино». Евангелисты-трезвенники на этот счет – про вино на пасхальной трапезе – ничего не сказали. Но можно зайти с другой стороны – исходить из слов Иисуса Христа: «Я есмь истинная виноградная лоза» (Ин. 15:1).
Далее, на Вечере Иисус, взяв чашу, «сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета» (Мк. 14:24).
Что является Кровью лозы? Крепленый, 16-градусный кагор? Не станем, уважаемый читатель, богохульничать – мы ж не батюшки-попы. Тем более что ответ на этот вопрос нами уже найден в Пятой книге Моисея «Второзаконие»: «…и ты пил вино, кровь виноградных ягод» (Втор. 32:14). Кровь виноградных ягод, т. е. свежий, натуральный сок. Сок, который человеком помещается в противоестественные условия, бродит, и уже не является тем, чем он был. Сок, забродивший, вступивший в стадию распада, разложения органических соединений, т. е. гниения, – это уже, в отличие от сока свежего, качественно иное творение. Творение искусственное.
Итак, вернемся к хлебу, отбросив всевозможные глупости про то, что опресноки – мертвы, а квасной хлеб – жив, и что преломлять опресноки – означает следовать иудейской традиции. Есть аргумент, от которого не отмахнешься лихой фразой, и который не истолкование есть. «Справочник православного человека», который выше мы уже цитировали, утверждает: «…в описании Тайной Вечери употребляется греческое слово «артос» (квасной хлеб). Если бы речь здесь шла об опресноках в тексте бы стояло слово «азимон» (пресный хлеб)» [73].
Конечно, на утверждения, сделанные в словарной статье, можно и вполне резонно возразить: мол, надобно не токмо слова греческие разбирать умело, но еще и думать, над прочитанным, пытаясь уразуметь, в каком контексте лексемы используются.
Возразить так можно. Так и возражаю. Но… «артос»-то этот от этого не преобразуется в «азимон». А в тексте Евангелия и в самом деле – «ἄρτος», точнее – «άρτον», винительный падеж от слова «ἄρτος». И «артос», действительно, не «азимон». Но, согласившись с тем, что видим, почему мы должны соглашаться и с тем значением, которое церковники данному слову приписывают? Почему мы должны соглашаться с тем, что «артос» – это исключительно «квасной хлеб»? Например, Древнегреческо-русский словарь И.Х. Дворецкого дает такое определение: «άρτος – хлеб (преимущ. пшеничный)» [74].
Таким образом, лексема ἄρτος означает просто хлеб, как и пришедшая ей на смену в эллинистические времена новогреческая лексема ψωμί. И разница сегодня лишь в том, что первая употребляется в церковной языковой деятельности или же входит в состав лингвистических единиц, являющихся частью литературного языка; вторая же, напротив, употребляется для обозначения хлеба как такового и пищи в целом [75].
Ну, для пущей важности, приведем еще одно определение из Греческо-русского словаря Нового Завета: «άρτος, ου м.р. 1) хлеб, хлебец; άρτος της προθέσεως или πρόθησις των άρτων хлеб, принесенный в жертву Богу; 2) еда, пища» [76].
И тут – просто хлеб, и также ничего о том, каков его вид, сорт и производственный рецепт. А хлеб, – как разъясняет нам «Большой толковый словарь русского языка» С.А. Кузнецова, – это «1. Пищевой продукт, выпекаемый из муки. 2. Тесто, приготавливаемое для выпечки. 3. Зерно, из которого приготовляется мука, идущая на выпечку такого продукта. 4. Зерновые (рожь, пшеница и т. п.) на корню. 5. Пища, пропитание».
Подобное же определение дает и «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой.
Итак, хлеб – это не только квасной хлеб. И подтверждение тому мы легко можем найти в самой же Библии. Книга «Бытие»: «…и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами» (Быт. 45:23).
Отметим, что ни в Острожской Библии 1581 года, ни в Елизаветинской Библии (1762 г.), ни в Библии на греческом языке нет слов «зерном» и «припасами» – есть только «хлеб», и оно изображено, как «άρτους». Далее, и это очевидно, хлеб, т. е. άρτους, находящийся в мешках, не буханки и батоны, и не зерно, но – мука. Впрочем, хлеб может быть и зерном: «…и зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб» (Суд. 15:5).
Вывод 1: «артос», т. е. хлеб, существует не только, как квасной – из теста, предварительно заквашенного, но и как зерно, мука, и вообще, как пища. Поэтому, очень ошибаются те православные богословы, которые полагают, что если пресный хлеб обозначается как «азимон», то он уже никак не может обозначаться еще и как просто хлеб, т. е. как «артос». И очень жаль, что сторонники квасного, утверждая свое, т. е. отсебятину, никогда не дают ссылку на источник своей истины. Ну, хотя бы на словарную статью. Увы, они пошли иным путем: в угоду своим хотениям, не просто объявили, что артос есть хлеб, но и содрали с данной понятийной единицы ветви лексической полисемии. И хлебом стал исключительно квасной хлеб. Затем, через публикации еще в XI веке они навязали обществу свои куцеватые представления, и теперь на эти представления сами же и ссылаются, как это делает г-н Пономарев в выше приведенном «Справочнике православного человека».
Вместе с тем, ошибаются и православные богословы, полагающие, что квасное может быть передано только словом «артос». Вот только один фрагмент из книги «Исход»: «…семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества [сынов] Израилевых, пришлец ли то, или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб» (Ис. 12:19–20).
В данном тексте «закваска» передана словом «ζύμη», а «квасное» – «ζυμωτοѵ». Не «άρτος», обратим внимание!
Далее, иные богословы византийского покроя, соглашаются, что «азимон» (άζυμοѵ) – это все же хлеб, но – пресный, и потому, считают они, обозначать его словом «артос» совершенно недопустимо.
Почему ж недопустимо?
Еще раз обратимся к книге «Исход»: «Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу…» (Ис. 16:13–15).
Речь идет о манне небесной, которая, и совершенно очевидно, никак не могла быть с закваской, но тут для нас гораздо важнее иное: слово «хлеб», произнесенное Моисеем, передано, как… άρτος!
Манна небесная – хлеб. Если же пресная манна – хлеб, то почему не могут быть хлебом опресноки?
Еще об этом же в другом месте Библии: «И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна; (здесь и далее выделено мной. – Е.Б.) она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните [манною] гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской» (Ис. 16:31–32).
И в данном тексте «хлеб», пресный «хлеб» передан словом άρτος.
Еще пример: «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники Мне: возьми одного тельца из волов, и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем: из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов» (Ис. 29:1–3).
Хлеб, таким образом, может быть просто пресным, опресноки могут быть с елеем… Но самое изумительное дальше. В книге Левит все то, что было в корзине, т. е. «хлеба пресные, и опресноки, смешенные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем» – все это названохлебом: «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения» (Лев 8:31).
А в корзине – только пресный хлеб, и он обозначен, опять же, таким словом, как «ἄρτους»! Тем самым словом, который в Евангелии от Матфея: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф. 26:26)!
Еще аргумент. В Евангелии от Матфея мы читаем: «…как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебыпредложения, которых не должно было есть никому, кроме священников» (Мк. 2:26). Хлебы предложения, напомню, – это двенадцать пресных лепешек, по одной от каждого колена Израилева. И в греческом тексте эти пресные хлебы переданы опять же словом ἄρτους!? Переданы тем самым словом, которое, которое мы обнаруживаем и в тексте: «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое» (Мк. 14:22).
?!..
Могли ли всего этого не видеть богословы, настырно стоящие за непременное заквашивание Святых Даров? Разумеется, если они встали на безжизненный путь аскетизации мышления, т. е. насильственного устранения разнообразия смыслов и значений!
Не способствует установлению истины и настойчивое игнорирование понятий рода и вида. А ведь между тем, именно они дают нам возможность структурировать мир языка, и, соответственно, мир наших представлений. И тогда мы ясно видим, что в родовое понятие хлеб входят, а это, собственно, следует и из его словарного определения: буханка, батон, калач, каравай, лепешка, чапати, лаваш, манна небесная, маца, пшеница, рожь, ячмень, мука…
Артос – хлеб. Но как должно понимать слово άρτος, – выражает ли оно понятие родовое или исключительно видовое? Сей вопрос был поднят греческими полемистами еще в XI веке [77]. Правда, дальше взбудораживания темы полемисты не пошли. Мы же – пойдем. Ибо нам нужна не склока, а ясный ответ на поставленный вопрос.
Итак, книга «Бытие»: «…в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:19).
Имел ли Господь в виду то, что Адам будет в поте лица своего есть только квасной хлеб, или же и пресный тоже? Совершенно очевидно, что речь идет о хлебе вообще, т. е. о понятии родовом, которое в Библии на греческом языке, между прочим, выражено словом άρτου.
Далее, текст молитвы «Отче наш»: «Тὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον» – «хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6:11). И здесь, как и в примере, приведенном выше, также имеется в виду просто «хлеб». Без уточнения его разновидности и состава.
Еще пример: «…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Нужно ли понимать так, что только квасным хлебом или же и пресным тоже будет жив человек?
А в греческом тексте – слово άρτος.
Еще пример. Когда Моисей, обращаясь к Израилю, говорит о том, что он: «…пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил» (Втор. 6:9), он имеет в виду, что только квасного хлеба не вкушал, а опресноки – сколько душе угодно? Конечно, и в данном случае мы имеем дело с родовым понятием, которое в Библии на греческом языке передано все тем же словом —ἄρτον. Передано тем же самым словом, которое в Евангелии от Луки: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое» (Лк. 22:19).
Открываем «Псалтирь»: «Слезы мои были для меня хлебом» (Пс. 41:4). Какой хлеб тут имеется в виду? Слезы были исключительно квасным хлебом?
И, наконец, последнее, и самое убойное свидетельство, которое, почему-то оказалось вне внимания исследователей. Мне, по крайней мере, ни у кого не довелось встретить о нем упоминания. Утверждающие, что на Тайной вечере Иисус вкушал квасной хлеб, в подтверждение своей правоты приводят аргумент – в Евангелии стоит слово «артос», а опресноков быть не могло, т. к. еще не наступил праздник опресноков.
Пусть будет так, хотя так оно не может быть в силу мною выше сказанного. Но вот, что мы можем прочитать в Евангелии от Луки, который рассказывает о том, что на третий день после распятия, т. е. в разгар праздника опресноков, когда по всей Иудее невозможно было отыскать ни крошки квасного хлеба, в селении Эммаус воскресший и неузнанный своими учениками, Иисус, сидя за столом с ними: «И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лк. 24:30–31). Но! – тут слово хлеб, как и на Тайной Вечере, передано словом «артос» (άρτος), а не «азимон» (άζυμος)!?.. И это не описка, т. к. далее евангелист Лука еще раз свидетельствует: «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба» (Лк. 24:35). И опять «хлеб» передан словом «артос»!
Вот почему, вот на чем основываясь, мы решительно отвергаем аргумент, выдвинутый, в частности, В. Пономаревым в выше цитируемом «Справочнике православного человека», как научно несостоятельный.
Вывод 2: Опреснок, как видовое понятие обозначается словом «азимус» (άζυμος), но, будучи в то же время хлебом, он на совершенно законном основании входит и в родовое понятие «артос» (άρτος).
Таким образом, мы приходим к пониманию, что на Тайной Вечере Иисус преломил хлеб – «артос», и хлеб тот мог быть, как квасным, так и пресным. Каким именно он был – евангелисты свидетельств не оставили, что и дало всякому желающему фрагмент данного события истолковывать по произволу собственному. Например, греческие полемисты XI века, а с их голоса и полемисты Древней Руси, стремясь к эмансипации от Моисеева закона, к защите христианства от иудейства, утверждали, что хлеб был и мог быть только квасным. Но, понимая, что одной ссылки на слово «артос», стоящее в Евангелии, явно недостаточно, они столкнулись с нуждой доказать, будто бы Тайная вечеря состоялась не на Пасху, а, следовательно, и хлеб вкушаемый был каким угодно, только не опресноком. Одним из первых и, пожалуй, дальше всех в этом направлении пошел Св. Афанасий Великий (293–373), заявивший, что Христос совершил тайную вечерю за день до удаления квасного хлеба. Несколько позже эту мысль дополнил патриарх Антиохийский Петр: «Вечеря, на которой Господь преломил хлеб и раздавая его ученикам сказал: приимите, ядите, была прежде праздника пасхи». Сегодня же эту позицию, не желая ни самостоятельно думать, ни входить в конфликт с традицией, озвучивают, частности, проф. МДА Д.П. Огицкий и свящ. Максим Козлов в своей книге «Православие и западное христианство»: «Есть основание считать, что и Христос совершил таинство на обычном хлебе, поскольку Тайная вечеря происходила не 14-го, а 13-го нисана, то есть накануне того дня, когда евреи Пасху совершали (св. Ин. 18, 28; 19, 31)» [78].
Таким образом, разобрав событие на фрагменты, агрессивное духовенство, большинством себя мнящее, пришло к выводу, что основатели христианства допустили массу грубейших нарушений: и день не тот, и позы не те – не стоя вкушали, но возлежав, и из дому вышли, не дождавшись рассвета… В общем, Пасха, как Пасха не засчитывается. Получается так, что собрались и просто скромно поужинали…
Две тысячи лет спорим: а была ли Пасха? А как не спорить, ведь вопрос не праздный, и ответ не бессмысленный, ибо из ответа – вопрос очередной: в Святые Дары включаем опресноки или же квасной хлеб? А это, в свою очередь, во-первых, определяет – станем ли мы праздновать со старою закваскою, с закваскою порока и лукавства или же поскольку мы, как сказал святой «апостол» Павел, «бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:6), станем праздновать с опресноками чистоты и истины; и во-вторых, это определяет позицию самой Церкви по отношению к квасному, к забродившему, к вину, содержащему алкоголь. И далее, церковь, в принципе допустившая питие «малых доз», и благословившая питие, уже никак не может возражать, а она и не возражает, против циркуляции вина в обществе. Более того она и сама вынуждена в это общество внедрять представление о том, «что питье спиртного нормальное, оправданное, неизбежное, важное и даже необходимое в нашей жизни занятие» [79].
Вот, почему так важно установить истину, и вот почему на протяжении стольких столетий ведется ожесточенная полемика по вопросам хронологии Тайной вечери и ее ритуальным компонентам.
…А я вот, сегодня вдруг подумал: а в те ли ворота уперлись мы своими высокими лбами? А те ли нюансы мусолим столь тщательно и так настырно? В четверг ли, в пятницу, 13-го нисана, 14-го, апостол ли Иоанн прав или же – Матфей, Лука и Марк? Быть может, важно совершенно иное: то, что иудейИисус на Тайной вечере по-иудейски отпраздновал ветхозаветную Пасху? Важно, что так, а не иначе воспринимал и Он, и его ученики то, соучастниками чего они были? А они были соучастниками Пасхи, ведь именно об этом же и пишут Марк, Лука и Матфей?
Апостол Матфей: «В первый же день опресночный (здесь и далее выделено мной. – Е.Б.) приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху» (Мф. 26:17–19).
Апостол Марк: «И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и приготовили пасху» (Мк. 14:16).
Апостол Лука: «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхальногоагнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить?» Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием» (Лк. 22:7-16).
А что мы? А мы, фактически, говорим: нет, братья, вы вообразили, будто бы у вас пасхальный ужин, а мы вот тут по своим новейшим календарикам посмотрели, посчитали и установили, что шибко вы там и тогда обмишурились, знаете ли.
Понимаете, что происходит?! Есть две точки восприятия: 1. наша; 2. тех, кто был непосредственным организатором и участником Тайной ыечери! И кому виднее, что в действительности происходило в сионской горнице? И кому лучше знать, если не самим участникам трапезы, как они сами воспринимали и понимали то, в чем они соучаствовали?
Если же они были уверены в том, что они празднуют иудейскую Пасху, то ведь они ее и праздновали, как и положено, по-иудейски, т. е. с опресноками. Иначе просто и быть не могло!
Кстати, пасхальнойиудейскойтрапезой Тайную вечерю считали: византийский богослов, монах, экзегет XII века Евфимий Зигабен [80], богослов, церковный историк, архимандрит Киприан (Керн) [81], протоиерей А.В. Горский [82], проф. Н.Н. Глубоковский [83], проф. Н.Д. Успенский [84] и многие другие серьезные исследователи данной темы.
Вывод 3: Констатируя наличие генетической связи и подобия между ветхозаветной законной Пасхой и событием, обозначаемым, как Тайная вечеря, наиболее умные представители из числа экзегетов, и мы вслед за ними, тем самым и вместе с тем, утверждают: на Тайной вечере иудей Иисус Христос и апостолы-иудеи вкушали пресный хлеб, т. е. опресноки.
Что и требовалось доказать.
По ряду причин, которые никак не связаны с тем, что в действительности происходило на Тайной вечере, духовные лица христианской церкви, вступив в сговор друг с другом, возвели в статус канона алкоголизацию Святых Даров. Каков был этот ряд причин, и какие цели на то мотивировали модернизаторов – теряюсь в догадках и домыслах. Но очевидностью помечены причины, под влиянием которых церковники, стоящее на Святых Дарах, как на моральном основании, на протяжении столетий оправдывали винопитие – винопитие не пьянства ради, но токмо славы Божией для; очевидны причины винопития, которому предавались церковники, подрядившие себе в служанки лукавую проповедь «умеренного пития» и высокомерные филиппики против предающихся постыдному пьянству. Последнее, впрочем, ничуть не спасало самих же клириков от неизбежного дрейфа под власть зеленого змия. Например, несмотря на то, что Лука Жидята, епископ Новгородский (первая половина XI века) в «Поучении к братии» настойчиво проповедовал: «не пей безвременно, но пей в меру, а не до пьянства» [85], (не до пьянства, но – пей!), не прошло и века после крещения Руси, как свои рассуждения о частых пирах, о пьянстве в монастырях разместил в своем послании к черноризцу, писателю Иакову митрополит Киевский и всея Руси, святитель Иоанн II (ум. 1089) [86].
Не удосужилось сгинуть пьянство поганое и после того, как церковь на протяжении пяти веков проповедовала эту свою, сущую бессмыслицу – «пей в меру». Да, что там – сгинуть?! Оно не только не сгинуло – преумножилось?! Ведь не из фантазий же своих исходя, царь Иван IV в своем послании (1573 г.) в Кирилло-Белозерский монастырь игумену Козьме с братиею во Христе, раздраженно сетовал: «А в Сторожевском монастыре до чего допились? Некому и затворить монастырь, на трапезе трава растет» [87].
Некому! А это означает, что не какой-то там инок одинокий забулдыжил ненароком, упился до положения риз, а – весь монастырь в стельку пьян! Потому-то ведь и – «некому». А Сторожевский монастырь, заметим попутно, основанный в 1398 году монахом Саввой, учеником преподобного Сергия Радонежского, в те времена играл роль форпоста Московского княжества!
И вот, после таких-то свидетельств, а их – пруд пруди в документах минувших столетий, – находятся еще некие, якобы, «патриоты», пытающиеся кормить нас россказнями о том, что, якобы, никакого пьянства-алкоголизма на Руси отродясь не бывало, и что русское пьянство – миф, и что мы завсегда пили меньше, чем Европа и пр., пр., пр. А если и меньше, так и что с того, коль монастырь некому затворить? Какова надобность непременно в добродетель возводить то, что меньше? Это что же – достоинство? Пить? Пусть даже меньше тех, кто Русь спаивал – немцы, поляки и евреи.
И если пьем мы меньше, то у нас поэтому то, что творится, уже и не пьянство?
Разве того я против, чтоб гордиться Родиной и Отечеством, но не подло ли из одного желания гордиться – припудривать всенародную беду? И не «пудра» ли демобилизует, а потому и позволяет беде обретать хроническую форму? И не объединились ли с самыми подлыми недругами народа все эти, до дурости разошедшиеся, отрицатели наличия пьянства, столетиями разъедавшего Русь!
Иные, оголтело патриотствующие «трезвенники» заявляют, будто бы Святая Русь вообще ни о каком пьянстве-алкоголизме и слыхом не слыхала. Да, как же не слыхала, господа-лакировщики исторического прошлого, если уже митрополит Киевский Иоанн II (1080–1089) говорил о том, что священников, предающихся пьянству, следует лишать сана? Эту же меру воздействия в отношении пьянствующего духовенства предложил и Владимирский собор 1274 года, и Виленский собор 1509 года…
А вот, что писал в своем послании в 1408 году игумен Белозерского монастыря Кирилл можайскому князю Андрею Дмитриевичу: «И ты, господине, внимай себе, чтобы корчмы в твоей вотчине не было; занеже, господине, то велика пагуба душам: крестьяне ся, господние, пропивают, а души гибнут» [88].
Души – гибнут, крестьяне – пропиваются?! И это – не пьянство?
А до голландского спирта «Royal», контрафактной водки, настойки боярышника еще 600 лет!
Пропиваются и гибнут от того пойла – брага, пиво да медовуха – на которое наши «патриоты» никак налюбоваться не могут, выставляя оное, как питие «традиционно народное», от коего, якобы, ни пьянства, ни алкоголизма. Одна пользительность.
Христианская проповедь «умеренного пития» – «не то худо, чтобы употреблять вино в меру, но предаваться пьянству» [89], – не имеющая к трезвеннику Христу ровным счетом ни малейшего отношения, породила не только стремительное расползание порока, но и преумножила беды им порождаемые. И тогда те, кто имел хоть какое-то представление о своей собственной ответственности за происходящее, активизировались. Кто как мог. Взывали, увещевали, стыдили… Священников ссылали за пьянство в монастыри, а монахов в монастырях пороли плетьми… И все впустую – «малая закваска» под звучащее «пей в меру» «заквашивала» все более и более…
Митрополит Московский и всея Руси Симон 22 августа 1501 года направил духовенству Перми послание, в котором слегка пожурив тамошних клириков за бесчинства да за прочие богомерзкие дела, дал своим чадам с высоты нажитой мудрости наиважнецкие советы: питья без времени не принимать, от безмерного пьянства воздержаться и пить только «в подобно время и в славу Божью» [90].
Как вам это нравится: «в подобно время и в славу Божью», но – пить!?..
Катастрофическое состояние в сообществе церковников нашло свое отражение и в сборнике постановлений церковного собора 1551 г.: «…попы и церковные причетники в церкви всегда пьяны и без страха стоят, и бранятся» [91].
В 1551 году Стоглав, признав существование беспорядков, порочащих русскую церковь, и даже угрожающих её будущему, для надзора за поведением духовенства учредил аж специальный институт поповских старост, вменив им в обязанность не допущать пьянства среди клириков. Но… старосты сами пьянствовали?! Стоглав замахнулся на «крайнюю меру» – запретил держать в монастырях «пьянственное питье», но… разрешил монахам употреблять во славу Божью «фряжские вина» (французские, итальянские, генуэзско-крымские) и пиво?! И? И «малая закваска» настойчиво продолжила заквашивать церковное «тесто».
И вот уже в 1652 году митрополит Ростовский Иона вынужденно констатирует: «Да видим, в простых человецех, но и паче же в духовных чинах укоренилась злоба сатанинская, безмерного хмельна упивания…» [92].
Ну, надо же! Призывая пить, церковники каким-то особым образом ожидали не упивания, но… все большего и большего трезвения?
Еще документ. 2 мая 1660 года «Память Коряжемского монастыря игумену Феодосию о наблюдении за монастырским благочестием»: «…ведомо Великому Государю учинилось, что в монастырях старцы, забыв страх Божий и свое обещание, живут бесчинно, по вся дни по мирским дворам ходят, а иные на дворах и ночуют, и с детьми своими и с братьями и с сродичи и с иными мирскими людьми в кельях пьют допьяна, и из монастыря питье, мед и пиво и квас, и съестное выдают, а иные и продают» [93].
И ему в тон да все о том же митрополит Новгородский Макарий: «…попы и дьяконы хмельного питая до пьянства упиваются» [94].
Еще документ. 11 августа 1672 года митрополит Великого Новгорода и Великих Лук Питирим (впоследствии патриарх Московский и всея Руси): «…игумены и черные и белые попы и дьяконы хмельного питья до пьянства упиваются, и о церкви Божьей, и о детях своих духовных не радеют» [95].
И подобное, как мы понимаем, происходило не только в каком-то одной епархии. Подобное было повсеместно – во всех монастырях, и во всех церквях Руси!
Еще документ. 20 августа 1678 года. «Наказ Корнилия, митрополита Новогородского и Велико-Луцкого, Тихвинского монастыря архимандриту Варсонофию об управлении духовными делами и о надзоре за церковным благочинием»: «Да ты же бы учинил заказ крепкой, чтоб игумены, и строители, и черные и белые попы и диаконы, и старцы, и черницы, на кабак пить не ходили, и в миpy до великого пьянства не упивались, и пьяны по улицам не валялися б; а буде кто учнет на кабаке пить и бражничать, и на тех игуменах, и на строителях, и на черных и на белых попах и на диаконах, и на старцах, и на черницах за то править пени по полтине на человеке, и те деньги присылать же в Великий Новгород с иными Софийскими сборными деньгами вместе» [96].
И подобное происходило на протяжении столетий. Беспробудным пьянством были поражены монахи, священники, игумены, епископы и митрополиты. Вот свидетельство богослова, митрополита Московского и Коломенского Макария (1816–1882): «Наконец, одним из главнейших пороков в нашем духовенстве, белом и монашествующем, на который жаловались во все времена (выделено мной. – Е.Б.), была нетрезвость. Против этого порока, не повторяя других правил, собор определил только: «если священник и диакон в какой-либо день упьются допьяна, то им на другой день отнюдь не служить литургии» [97].
«Собор определил» – имеется в виду Московский собор 1503 г. И, обратим вслед за митрополитом Макарием, внимание не то, какую «суровую» меру определил Собор: если упьются допьяна, то на другой день не служить литургии?!
О чем это говорит? Конечно же о том, что церковники уже просто в полной беспомощности пребывая, опустили руки – окончательно смирились. Алкогольная зараза, поразившая церковь, оказалась неистребимой. Так оно ж и понятно: как можно от заразы избавиться, заразу проповедуя? Большое зло вырастает из малых семян. Не понимает этого либо совсем глупый и недальновидный человек, либо крайне лукавый и себе на уме. Но ведь и глупый, и недальновидный, и лукавый, проповедуя непотребное, сам же и страдал и страдает, как и все остальные. В конкретных цифрах число лиц, которые были подвергнуты монастырскому заключению, выглядит так: «В течение пяти лет, с 1855 по 1859 г. включительно, духовных лиц мужского пола содержалось в монастырях 4480 человек, из них более 3300 за нетрезвость» [98].
Вы представляете, до каких чертиков должны были допиться священники – проповедники «умеренного пития», как оттопыриться, чтобы пьющие же братья, т. е. собутыльники их за пьянку подвергли бы столь жесткой изоляции?..
…Известно, что время – лечит. Но, видимо, лечит не все. Вот и от алкогольной хвори, поразившей христианство, избавить оно не смогло. Да и как избавить, если зараза – само оправдание пития, пусть «умеренного», но – пития, вкупе с субстратом – этанолом, вызывающие болезнь, определены как атрибут Святых Даров, их средоточие?! Ведь без продуктов дрожжевого брожения Святые Дары уже и не Дары, а без регулярного вкушения церковного вина ты уже и не христианин. Более того тех, кто причащается опресноками, представители православной церкви называют не иначе, как еретиками, которые вкушают трапезу иудеев, а не трапезу Бога (Никита Стифат), и потому причащающимся не на квасном – Армянская апостольская церковь и Римско-католическая церковь – анафема трижды (Иоанн Златоуст).
Если в вине нет спирта, то это уже и не Кровь Христова, а если хлеб приготовлен без дрожжей, то это уже и не Тело Христово… Но приобщиться к Святым Дарам в том виде, в каком они предлагаются православными, означает также и приобщение к алкоголю. Соответственно, трезвенник не может считаться настоящим христианином, ибо он гнушается продуктов спиртового брожения. (А если они на стороне тех, кто за алкоголизацию Святых Даров, то он не может считаться настоящим сознательным трезвенником). Об этом, напомню, ясно сказано в Правилах Святых Апостолов (51 и 53): тот, кто не вкушает вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, да будет извержен из церкви.