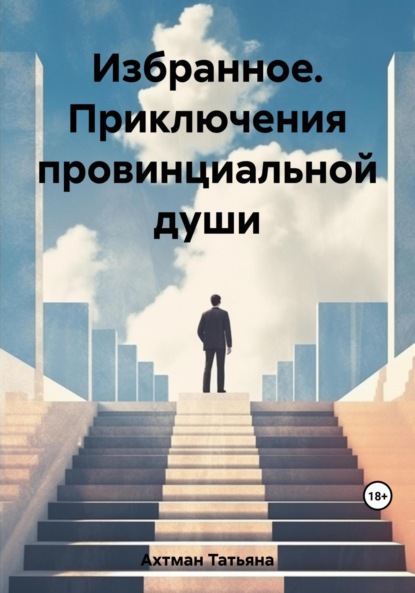000
ОтложитьЧитал
Театральный день
Мне позвонил друг Горацио и спросил, как прошли мои театральные встречи.
Поделиться впечатлениями мне очень хочется – видимо, я не самодостаточна. Кстати, что это означает? Слышала, как один профессионал объяснил, что среди одиночек есть изгои, есть люди замкнутые, а есть самодостаточные счастливцы. Что до меня, то когда меня не принимают, я ухожу в себя – а куда денешься? – приходится довольствоваться своим внутренним пространством, и нет в том особого умысла…
Вот и дети выросли и ушли – совсем как в семье носатого ворона – живут такие в Африке среди марабу, бабуинов и слонов. Большие чёрные птицы с красными сооружениями у мощного клюва, предпочитают полёту пешие походы, видимо, потому, что так легче хватать всё, что бог послал: змей, скорпионов, мышей, пауков. Живут в единобрачии, воспитывая редких детей. Иногда мама с папой так усердствуют, запихивая в своё дитя живность, что малыш задыхается – сипит, бедняга, с двумя хвостами, торчащими из клюва, а родители стоят над его страдающей душой с новой порцией гадов и хлопают глазами от вдохновения…
Вчера я уже знала, что оба режиссёра – обездоленные люди, цепляющиеся за тень театра. Но они позвонили спустя неделю после первой встречи, голоса их были задумчивыми, и я не смогла сказать, мол, умрите, несчастные. После такого заявления нужно немедленно застрелиться самой, да так, чтобы не промахнуться, но я не чувствую пока твёрдости в руке, а твёрдость намерений недостаточна. Впрочем, когда это сочетание возникнет, вряд ли мне понадобится давать напоследок распоряжения.
Я уже знала, что режиссёр Гоша работает дворником, а вечерами встречается с такими же изгоями, и они разыгрывают самодостаточность. Собственно, это занятие и определяет, в некотором роде, суть театра. А режиссёр Игорь объявился профессионалом – ну, и бог с ним. Он хромал, курил, пил кофе за мой счёт, пророчествовал, прятал взгляд – чего уж там. Этим людям я отдала мои пьесы. Спустя несколько дней каждый их них позвонил, и голоса в трубке звучали вполне по-человечески: «Надо поговорить».
Для второй встречи я позволила себе лишь немного любопытства. А в прошлый раз мне удалось обмануться, что иду я в свой театр: оделась в чёрные гольф, чулки и ботинки, серую юбку, волосы легли сами собой в овал, как на древнегреческих головках, брызнула французскими духами, сварила кофе. Мне казалось, что играю я замечательно, хотя, может быть, всё выглядело ужасно – как если бы ума лишилась не юная Офелия, а Гертруда и, вообразив себя любимой своего сына, стала бы приставать к солдатам, даря им прутики и упрекая в трусости и предательстве…
Утром у меня теперь достаточно времени, чтобы собраться в своё удовольствие, зная, что в чужом спектакле грядущего дня этот час – единственно мой. Не спеша постояла под душем, промыв волосы и ополоснув их настоем розмарина – куст растёт под окном моей спальни. Волосы от него приятно пахнут и вьются энергичней обычного. Включила музыку, сварила кофе и тут вспомнила, что театра, собственно, больше не будет, по крайней мере, сегодня… А будет довольно утомительный день с предсказуемо нелепыми встречами. В одиннадцать встречаюсь с Игорем, в два – с Гошей…
Моросил косой дождик, и я упёрлась в него раскрытым зонтом. Утром из нашего посёлка уехать в город можно только на попутной, и пришлось довольно долго ожидать милости. Я потихоньку остывала, чувствуя, как меня покидают вкус кофе, аромат розмарина и запах театральных кулис…
Надо сказать, что мне удалось перевести свою «Офелию» на английский. Переводчик представился грузинским князем в изгнании, рассказал о бесчисленных бедах, выпавших на долю его древнего рода, и о том, что однажды он так погрузился в работу, что раздулся, как бочка, и даже не смог надеть любимые итальянские туфли. Однако фразы, которыми он изъяснялся, были построены умно и изящно, и я, испытав отчаянное доверие к незнакомцу, выложила деньги. Конечно, он изображал ранимую творческую личность, как будто в нашем диалоге я – сборщик налогов…
Тут нужно остановиться и, пожав плечами, с доверием взглянуть в глаза собеседника, мол, богема, все эти «творческие личности» – маски, и незачем даже срывать их: нет под ними истины, ради которой стоило бы утруждать себя. Театр – демонстрация внутренней жизни человека, его естества, скрытого природой от публики. Так, обнажение внутренних органов – печени, лёгких, крови, костей – происходит в анатомических театрах, а души – в драматических. И так уж заведено, что публичное откровение – всегда драма, и превращение театра в балаган похоже на то, как если бы хирурги и патологоанатомы приходили бы порезвиться в операционную или морг. Есть, конечно, и первобытный театр, в котором натура обнажается катастрофично – война.
Игорь пришёл с девушкой, представив её журналисткой. Слава была похожа на сфинкса, курила – я погрузилась в двойное облако дыма. Она произнесла: «Прочла Вашу Офелию, а затем и Гамлета…Шекспира…»
Офелию нельзя играть, её нужно читать, – озвучил обещанный разговор Игорь.
Есть многое на свете, что нашей мудрости не снилось… – обратилась я к Горацио…
Надо было бы сразу разойтись, но Игорь успел добавить, что, к тому же, в пьесе слишком много действующих лиц, и от этого у актёров будет меньше зарплата, да и кофе мы уже заказали: Слава – с молоком, Игорь – чёрный, а я, как всегда, капучино. Вернее, не как всегда, а как последние три года – с тех пор, как сыграла счастливую сцену из своей судьбы. Я всё представляла, что сын освободится из армии, вернётся в университет, и однажды, поздней осенью, дождливым утром, часов в десять, мы встретимся. Я буду ждать его в длинном синем плаще и с зонтиком в сине-красную клетку, а он выйдет в перемену между лекциями, улыбнётся мне – я видела это так ярко, что когда наступил мой час, не могла понять, реальность ли это. Действительно, моросил дождик, я стояла под кроной дерева, в сухом круге и видела, как сын торопливо идёт ко мне, улыбаясь в поднятый воротник курточки. Мы прикоснулись друг к другу, и он повёл меня в маленькое кафе рядом с библиотекой. Сели у столика возле стеклянной стены, за которой был внутренний дворик с пальмой и плющом, вьющимся по стене. Сын заказал капучино…
Принесли кофе, Игорь сказал, что хотел бы поставить мою трагикомедию о нашей эмиграции, но что я должна приготовиться к разочарованию, потому что для автора перевод на язык сцены всегда мучителен. И потом, герои в пьесе только обозначены, и надо бы их расписать, ибо актёр – существо злобное и мстительное, потому требует подробностей. Я сказала, что согласна на бесконечные подробности, ведь писала эту пьесу, как басню – там даже обозначено – «басня об исходе второго тысячелетия». А подробности – пожалуйста: вот, например, сегодня утром я видела великолепную радугу – одним концом она упиралась в арабское селение, которое растёт и растёт в сторону моей пустеющей деревеньки. Именно оттуда их молодежь повадилась подстерегать наши машины и бросать в них бутылки с зажигательной смесью – есть пара удобных для этого мест, где дорога идёт по дну небольшого ущелья, как в ковбойском боевике – ба-бах!!!
Но Игорь уже цитировал Станиславского, а я думала, не значит ли это, что мы уже поговорили и пора прощаться; и ждут ли от меня оплаты всего счёта, или можно платить только за себя. Потом Игорь пожурил Славу за то, что она ленится писать, возникло враждебное мне слово «литераторы», и меня спросили, не хожу ли я в клуб писателей и поэтов. Я ответила, что писателям, по-моему, лучше не встречаться. Мне становилось душно, и я не сразу поняла, что отравлена сигаретным дымом, а не театральными встречами – легко перепутать от непривычки…
Ровно в два я подошла к эскалатору, встретилась с Гошей, и мы спустились в огромную закусочную, заполненную пёстрыми деревянными столиками с прикрепленными к ним скамейками. Гоша угостил меня кофе в пластиковом стаканчике. Спросил, почему написала «Офелию»? Ах, я могла бы рассказывать и рассказывать без остановки – раскручивать свои мысли о Дании, сидя за столиком, похожим на деревянную лошадку карусели… А вокруг – в каретах, на оленях и летательных аппаратах кружатся солдаты, арабы, евреи, рассудительные офелии и безумные гертруды, а напротив – щедрый дворник, и я ему говорю, мол, Шекспир устроил трагедию на пустом месте, вернее, на почве Дании. А что до сути вопроса, то как быть, если и жить-то невозможно в мире, превращённом в театр военных действий – приставала я к дворнику… Опять в Иерусалиме взорвался очередной Гамлет из палестинского королевства. Слышала, что есть такой аукцион, где можно выставить, что пожелаешь, и иногда находятся покупатели. Так вот, я думаю, а не попробовать ли мне продать Офелию, скажем, за миллион долларов, мол, купите, господа, нетленную драму. Пока то да сё, пока слово прорастёт и окупится, автор пожила бы на проценты. А, может, купят за два миллиона? Как Вы думаете, Гоша?
А что бы Вы сделали с миллионом? – оживился Гоша.
Жила бы потихоньку на проценты, покупала бы житейские радости…
А если бы два миллиона?
О, тогда бы купила театр, поставила бы свои пьесы, ведь я вижу их как Вас, Гоша. И случилось бы счастье – сын отрёкся бы от слов «бесполезная глубина» – это он про меня так… Сказал бы: «Ах, мама, какая полезная глубина» – ещё бы не полезная, если заработала миллиард…
Миллиард? Ничего себе, и что тогда?
Тогда… зажила бы на необитаемом острове… родила бы ребёнка. Снилось несколько раз – так, ничего нового: золотой дождь… нежность льётся с небес, но я была не готова: ни места, ни времени – ужас! Это – как со словом: что толку слышать, если не можешь ответить… Гоша, Вы откуда сами будете?
С Урала, – его лицо омрачилось, – с северного. И я поняла, что моя необитаемая идея с девятью нулями и золотыми дождями слишком жестока для его реальности, и слава богу, что хватило мне ума промолчать, но пауза затянулась, и нужно ответить Гоше – зачем написала Офелию…
Зачем? У меня не было выбора: быть – не быть… нет свободы в отказе от дыхания, движения, надежды… Конечно, случается, что едва вздохнёшь, как в лёгкие хлынет сигаретный дым… Или доверишься чувству… ну и… сами знаете, как бывает, когда открываешься навстречу жизни, Горацио…
…Зачем же… – Гоша прервал наш разговор с Горацио…
…Чтобы прочла английская королева. Я даже купила шелковый костюм и сумочку, а туфли на каблучках у меня есть ещё с прежних времён – для этого случая. В сумочке у меня лежит батистовый платок и флакончик духов «Шанель № 5» – муж привёз из Парижа. У меня, как раз, очень болела голова, когда муж вернулся из командировки и подарил мне эти духи. Ну, знаете, что это значит для женщины моей судьбы, особенно если лежишь одна в тёмной комнате уже третий день. Вот, муж кладёт мне коробочку в руку, и я плачу, потому что это чёрт знает как обидно, когда тебе выносят с чёрного хода угоститься, пока там идёт праздник. Плачу и смеюсь, потому что деловая поездка в Большой Мир – понимаете, что это значит для мужчины его судьбы, особенно зимой. Я тронула пробочкой от флакона висок, но боль не утихла тогда…
Считается, что Эпоха Возрождения – это Леонардо да Винчи, Микеланджело, но, думаю, без Лоренцо Медичи ничего бы не вышло – должен же кто-то умный, свободный, сильный… отделять агнцев от козлищ? Помните, что устроил потом Савонарола со своими хунвейбинами? Думаю, Господь в своей щедрости творит без устали, и, похоже, без присмотра: где-нибудь да прорастёт – по теории вероятности – в Средневековой Флоренции, Древнем Ханаане или Новом Свете, а может быть, в созвездии Льва…
А мы с мамой жили в бараке, – пожал плечами Гоша, – учился я кое-как, но мне нравилось бывать в книжном магазине. Было стыдно, что ничего не покупаю, поэтому я собрал какие-то копейки и выбрал книжку со знакомым названием, похожим на «Как закалялась сталь». Оказалось, что это пособие по металлургии… Кто сумеет это понять?
Разве нужно быть непременно флорентинцем, чтобы понять мальчика, который ночью, тайком приходит в часовню изучать труп, ещё не зная про изваяние Давида? Или нужно быть датчанином, чтобы не быть? Читала книгу, написанную человеком, который родился в племени, отрезанном от Мира, а затем, волею судеб, подростком оказался в Европе и там написал о прошлой жизни – всё просто, как у Пушкина: человек ищет счастье, ошибается, бунтует и смиряется, отрекается и верит …что души людей живут в крокодилах – чего тут не понять?
Я вижу Вашу пьесу – произнёс Гоша – на сцене крест…
Нет, пожалуйста, нет – ужаснулась я.
Покосившийся…
Бог с Вами, Гоша…
А потом я зашла в магазин, где в витринах были выставлены ветчины, колбасы, сыры, торты… А вот и моя еда – творог обезжиренный. У нас в посёлке нет магазина, и возить приходится из города. Когда знакомые узнают, то ужасаются, мол, ах-ах – как же так? Ничего страшного… справляемся…
На следующий день мне позвонил Игорь, а затем и Гоша…
Видите ли, театр… Вы понимаете? К тому же, здесь нет вращающихся сцен, а покрытие… думаете, оно – из каучука? Увы, невозможно танцевать на пуантах! Нет вешалок… публика не ходит… сидят у ящика и злятся. Занавеса нет… Напишите другую пьесу – так, чтобы стало легко и хорошо – всем.
И поменьше действующих лиц, – теплел Игорь, – а то актёрам платить нечем…
Пожалуйста, побольше действующих лиц, чтобы занять всех ребят: они так тяжело живут, что один свет в окошке – театр. Вы уж, пожалуйста, напишите, чтобы всем нам было хорошо! – вдохновлялся Гоша.
Хорошо?.. понимаю… да, конечно… хорошо…
2002 г.
Этюды
Возвращение
Странное чувство овладевает мною, когда я пытаюсь вспомнить свой сон – словно сны мои отделены от реальности лишь лёгкой занавеской, и там они бродят как тени в ожидании, когда придёт их час. Но стоит мне тронуть эту полупрозрачную грань, и они устремляются ко мне, толпясь в надежде, что я возьму один из них… Среди них есть слабые, почти невидимые, и они чувствуют себя чужими, когда сильные и яркие беззастенчиво рвутся в моё сознание, и я, срывая их охапками, уношу с собой…
Так и с литературными текстами – сюжеты стоят у грани, как подсолнухи вдоль дороги, не смея переступить моё воображение, и только смотрят призывно, но я… сторонюсь, особенно рьяных и готовых лечь на бумагу безо всяких хлопот. Я знаю им цену – в одно разочарование – вслед за всплеском ложного вдохновения…
Мои сюжеты тихи, и не хватают читателя за чувства… И вообще, они предпочитают сидеть дома, и чтобы познакомиться с ними, нужно быть вхожим – то есть, не в мой дом, конечно, а в свой собственный – ведь, известно, что читатели делятся на тех, у кого дом есть и бездомных. Все остальные неравенства иллюзорны. Дом строит каждый сам себе – для житья-бытья, ведь читатели – вроде улиток, если, конечно, видеть их не распятыми в чужом тексте, а свободными. И вот, чтобы быть вхожим в дом, нужно его построить и стать вхожим – всё просто, как истина…
И тогда сны не станут выживать в одних и тех же постылых страхах и восторгах, тщательно выписанных с натуры, а тексты доверчиво обнажатся, и мысль, сбросив причудливые слова, вернётся в начало…
Шепот
Иногда я играю в такую игру. Говорю себе: «Вот и Бродвей, как ты мечтала». Оглядываюсь с любопытством: лица разноцветной толпы приветливы, тела отстраненные, как представлялось. Стена из пёстрых добротных домов, витрин, столиков – всё так стильно и по-хозяйски, что похоже на убранство гигантской американской кухни.
Я плыву по течению и причаливаю на скамеечку в крохотном сквере из трёх жёлтых акаций. Наблюдаю Бродвей. Счастливы ли эти люди тем, что живут здесь? Можно ли быть счастливым от дыхания, если никогда не приходилось задыхаться…
– Счастливые люди, – говорит по-русски старичок, деликатно присевший на другой конец скамейки – Прихожу сюда каждый день, и всегда на эту скамейку садится кто-нибудь из России, и можно приятно поговорить. Знаете ли, в кафе им дороговато.
Странно, я могла бы устроиться где-нибудь под одним из этих приветливых зонтиков, пользуясь своей волшебной свободой. Могла бы подняться на круглое мраморное крыльцо и войти через вращающееся стекло в декоративный кофейный рай. Почему даже в мечтах я не переступаю порог реальных возможностей? Возможностей… – что я знаю о них? И о реальности… Нужно спросить у старичка…
– Сударь…
– Сударыня? – охотно отзывается он.
Я зажмурилась от радости, продлевая мгновение ласкающего звука. Как я соскучилась по этому слову, похожему на снег, летящий на фонари опрокинутой площади.
– Метёт – зябко поёжился старичок, поднимая воротник. Порыв ветра сорвал снежную шапку со сфинкса и швырнул её в низкое небо. Сани неслышно неслись вдоль набережной.
– Сударь, почему Вы заговорили со мной по-русски? – спросила я.
– Ваше лицо… это невозможно спутать… я много путешествовал – теперь везде бродят люди из России.
– Мы могли бы поужинать – я распахнула пуховое кружево и сбросила душистый мех на услужливые руки. Мы вошли в круглый зал, обитый голубым атласом. Сели в подобострастные кресла. В зеркалах засуетились тонкие тени. Лакей завис над бокалами.
– Ну, каковы мои возможности? – улыбнулась я.
– О да, я – свидетель, но без меня… – он едва заметно пожал плечами – России нужны свидетели. Вы даже в мечтах нуждаетесь в чужом одобрении…
– Сударь?
– Как дети… Вы могли бы сейчас сидеть в обществе Баритона или Английской Королевы, а предпочли меня. Вы боитесь неудачных отражений и слишком много философствуете. Вот, полюбуйтесь, как суетливы Ваши мысли… Мы сидели на облупленной деревянной скамейке в пыльном сквере на исходе лета. Наискосок, у почты, спиной к нам росли гипсовые фигуры пролетарского вида…
– Россия распадается на отражения в беспомощных лицах. Знаете, раньше на Бродвее не было этой скамейки – я точно помню. Да и не могло быть – только посмотрите…
Действительно, ветхое сооружение из пяти щербатых досок (шестая оторвана) конфузливо прятало под сидение чугунные ноги.
– Вы тащите в себе Россию – вздыхал старичок – даже в своих мечтах не свободны. Зачем Вам эта скамейка, ведь Вы хотели прогуляться по Бродвею?
– Но я должна же где-нибудь быть – шепот сорвался и, покружившись, упал на белый лист.
Звезда вифлеемская
Знаете ли, есть такие тихие, не боевые девочки, с глазами, как у ночных зверьков, которые всё норовят в угол забиться и поскулить в подушку. Вечно они плетутся в сторонке. А когда им грозят, то не убегают, а стоят, как вкопанные, и смотрят замершими глазами на поднятый кулак – даже стукнуть противно, и приходится кидать камнем. Такие никогда на уроке не поднимают руку, а в столовой сидят над тарелкой до последнего – голову в плечи вберут и рот им не разжать, а как что, так бледнеют и со стула сползают на пол. То есть, пара-тройка эдаких на заведение и всё – снижаются показатели. Они так и норовят куда-нибудь забиться – за лопухи у забора, где дырочка в доске жёлто-зелёная…
Луг смотрел в дырочку бесконечного дощатого забора и видел тёплый серый глаз в трепещущих ресницах, прильнувший, как доверчивый зверёк, и ласкающий траву, ромашки, синее небо. Ну, в общем, понятно про детство-отрочество.
И замужество было какое-то невнятное – за соседа по коммунальной квартире – немолодого фотографа. В сундуке у него лежали шляпы с перьями, стеклянные бусы, веера, шали – достались от дедушки, который тоже был фотографом и держал костюмы для дам, желающих сделать художественный портрет. И ещё ребёнком она часами перебирала желтоватые кружева и нитки тлеющих под оранжевым абажуром бус.
Фотограф вскоре умер, оставив молодую жену беременной. Она родила, как и жила – в своей комнате – одна: приготовила горячую воду, чистые простыни, бинты… улыбнулась крику ребёнка. Одела мальчика в кружевную рубашечку, повязала на запястье атласную ленточку. Убрала свои волосы ниткой бус, накинула на полнеющую грудь белую шаль. Со светлым лицом взяла на руки младенца.
Они в безмятежности ожидали. Зря взошла звезда – волхвы не пришли…
Белый ящик
Если уткнуться носом в траву и приблизить мир на расстояние ресниц, то всё будет иначе. Лучше всего это делать весной, когда ненадолго расцветают самые маленькие цветы. Эти пёстрые существа вступают в диалог со зрачком, погружаясь в его чёрную глубину и, далее, легко скользя лепестками – в душевную бездонность, где происходит самое важное…
Женщина вздохнула и села на каменное крылечко. Воздух был по-весеннему нежен, цвёл лимон, и утро было в начале. Она не спешила. У ног жужжал сиреневый куст розмарина. Время лениво растянулось в дрёме и благодушно позволяло созерцать себя.
Утром по Интернету она получила письмо из Нью-Йорка: «Анна, посылаю Вам свой текст. Все хвалят, но мне не нравится. Всё у меня складывается как нельзя лучше, но нет счастья, и нет чего-то, без чего теряет смысл всё происходящее».
Эта переписка длилась всю зиму, и в каждом послании возникала некая подробность о снеге, которого не было в Иерусалиме, и Анна, получая очередное письмо, говорила себе, что выпал снег.
Она ответила: "Андрей, помните?: «На свете счастья нет, но есть покой и воля…». Должно быть, счастье сродни вдохновению, которое может застать человека, только если он дома. А дом, должно быть, и есть «покой и воля» – единственное, к чему стоит стремиться в этой жизни. Андрей, я теперь не ищу счастья, потому что это абсурдное занятие, отвлекающее от чего-то бесконечно важного мне, что сосредоточено во мне самой – куда-то за горизонт…»
Потом Анна сварила себе кофе. Она насыпала в тёмную шахматную фигурку джезвы две ложки кофе, ложку коричневого сахара и слегка прокалила на огне, пока не появился лёгкий запах пожара. Затем залила водой почти до края, чтобы легче было собирать пенки: ведь кофейные пенки и есть самое главное в приготовлении кофе, и их нужно снимать в стаканчик из грубого стекла, пока они, покрыв его дно, не станут взбираться по стенкам. Кофе не должно достичь своих пределов на огне – нужно успеть потушить пламя или лучше поднять сосуд за деревянную ручку вверх – так, чтобы жар устремился вдогонку последним касанием, а потом брызнуть в томно дымящийся аромат несколькими каплями холодной воды.
Анна устроилась на крылечке, опустив босые ноги на плоский белый камень. Первое прикосновение казалось тёплым, но из глубины быстро просочилась прохлада недавней ночи, а за ней и сырость ушедшей зимы. Анна погладила рукой траву, пропуская колоски между пальцами. Навстречу ей стремительно спускались – с земли, словно с неба – миры: синие, зелёные, жёлтые, красные… Красные были в чёрный горошек и пробирались через непроходимую чащу, раздвигая перепутанные нити своими слабыми лапками. Жёлтые были круглы и пушисты, а синие – изысканны, и всё они простодушно дарили свою прелесть – спокойно и свободно…
Один человек сказал, что если описать устройство часов как угодно подробно, то это не приблизит к пониманию времени… Пёстрая радуга складывается в белый цвет… или свет… или счастье созерцания пёстрого… или осознания белого?
Анна не знала. Она сидела на низком крылечке, погрузив ноги в траву и опираясь подбородком о сложенные на коленях руки.