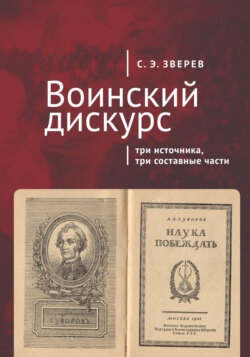
000
ОтложитьЧитал
Юлии
Рецензенты:
доктор социологических наук, доцент Ю. В. Верминенко (Военная академия связи)
доктор исторических наук, профессор О. Ю. Пленное (Санкт-Петербургский университет)
© С.Э. Зверев, 2019
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019
Введение
Анализ известных педагогических и военно-педагогических систем и социальной практики воинской деятельности свидетельствует, что потенциал речи активно использовался как в процессе обучения и воспитания, так и для руководства войсками (силами флота), повышения морально-психологической устойчивости, формирования положительной мотивации военнослужащих. Тем не менее, исследования, посвященные изучению воинского дискурса, относительно редки – до настоящего времени не проводилось всеобъемлющего исследования, имевшего целью систематическое описание воинского институционального дискурса. Практический интерес, на наш взгляд, здесь представляют не столько сугубо лингвистические штудии, сколько комплексное историко-риторико-психолого-педагогическое (да простится нам такое словообразовательное новшество) исследование с целью выявления взаимосвязи нормативных требований к организации воинского дискурса с качеством командирского и штабного мышления, подходами к организации служебно-боевой деятельности и в конечном счете с боеспособностью войск.
Под воинским институциональным дискурсом (или просто, воинским дискурсом) в данном исследовании будет пониматься тип коммуникативного поведения, обусловленный профессиональными и социально-культурными условиями воинской деятельности, а под персональным дискурсом – речевую деятельность военнослужащих, осуществляемую в соответствии с требованиями воинского институционального дискурса.
В этой связи особенный интерес представляет вопрос об источниках воинского дискурса: откуда военные черпали и до настоящего времени черпают образцы коммуникативного поведения, что определяет характер их речевой деятельности и регламентирует ее. Вопрос это сложный – непросто бывает отделить реальные речи исторических персонажей от их переложения по своему вкусу и в зависимости от степени осведомленности историками.
Например, один из наиболее заслуживающих доверия греческих историков Фукидид честно признавался: «Что касается речей, произнесенных отдельными лицами, то для меня трудно было запомнить все сказанное в этих речах со всей точностью, – как то, что я слышал сам, так и то, что передавали мне с разных сторон другие. Речи составлены у меня так, как, по моему мнению, каждый оратор, сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего, мог говорить о настоящем положении дел, причем я держался возможно ближе общего смысла действительно сказанного»[1]. Это, конечно, не значит, что военная риторика не оказывала никакого влияния на формирование воинского дискурса – риторика наука по преимуществу воспитательная; на речах, написанных тем же Фукидидом, воспитывались многие поколения будущих героев. Они же и впитывали то, что было вымышлено или переложено историками, и речи их в свою очередь служили материалом для историков грядущих поколений. Недаром Цицерон писал, что «та древняя наука (риторика. – авт.), по-видимому, была учительницей и правильных поступков и умения хорошо говорить, и учителя не были отдельными, но одни и те же лица учили и жить, и говорить»[2].
Риторика стоит на топе (общее место) и на примере. Откуда же было древним учителям красноречия брать и то, и другое? Помимо окружающей действительности, почерпать их можно было только из литературных произведений и эпоса, прежде всего «Илиады» Гомера. Большинству людей античности Гомер представлялся средоточием всей человеческой мудрости. Героические поэмы Гомера были школой жизни античного общества: его герои были образцом для подражания десятков поколений военных и государственных деятелей, пафос их речей пронизывает всю историю Древнего мира.
В песнях древнейшего греческого поэта Тиртея (VII в. до н. э.) мы находим многочисленные следы влияния Гомера. Происходивший из Лаконии Тиртей своей лирикой был обязан вести спартанцев к победе, создавать песни, в которых бы прославлялось бодрость, мужество и решимость идущих сражаться за отечество. В его стихотворных призывах к бойцам, идущим на смерть, можно найти множество мыслей и образов, навеянных «Илиадой». Стихотворения Тиртея пользовались в Спарте большим почетом: их исполняли во время общих обедов, после молитвы богам, перед сражениями как пэан (боевой гимн) или эмбатерии (маршевые песни). Уже древние (Ликург, Гораций) упоминали «о том влиянии, какое Тиртей и Гомер имели на развитие храбрости у людей (выделено нами. – авт.)»[3].
Тесное переплетение эпоса, литературы и истории не случайно. Эпос питает сознание народа на уровне архетипа, который впоследствии воспроизводится в литературе и исторических сочинениях. Безусловно, неверно будет искать точного отражения эпических событий в исторических произведениях. Но общее впечатление, оценку и порой неожиданные особенности восприятия народным сознанием наиболее значимых явлений исторической действительности эпос отражает. Можно утверждать, что архетипические сюжеты, персонажи и образы могут и должны проявляться в речевой деятельности вполне реальных исторических персонажей.
В военных трактатах и военной риторике византийцев часто встречается топ, который представляет собой то, что в литературоведении известно под понятием «бродячий сюжет». Например, «Тактика» Льва VI (IX в.) полагала, что для воодушевления воинов «особенно убедительными должны быть слова о том, что предстоит сражаться с врагами, которые тоже состоят из плоти и крови и которые способны страдать точно так же, как и остальные люди»[4]. Подобными словами рекомендовал «воспламенять» души воинов к битве автор анонимного трактата «О боевом сопровождении» (Хв.): «…для возбуждения в воинах мужества, отважности и неустрашимости скажи пред ними лестную для них речь следующего содержания: «Римляне! Станем против врагов с непоколебимой твердостью, храбростью и мужеством!..
Не каменную, не медную они имеют крепость, чтоб быть невредимыми; не железное у них тело, чтоб не утомиться и не ослабеть от труда»[5]. В «Стратагемах» Полиэна в уста афинского полководца Хабрия (IV в. до н. э.) вложена речь следующего содержания: «Когда мы намереваемся вступить в бой, мы должны считать, что не с врагами, наделенными нечеловеческими свойствами, мы столкнемся, но с людьми, что имеют кровь и плоть и обладают той же самой сущностью, что и мы»[6]. В сражении при Евфрате (576 г.) византийский стратиг Юстиниан в своей прекрасно разработанной речи использовал тот же образ: «Не бессмертна природа персов, счастье мидийцев не неизменно, руки варваров не без устали, рук и ног у них не больше, чем у нас, не две души имеют они, и тела их не из адаманта. Тайне смерти подвержены также и персы»[7]. Древнейшим источником этих «бродячих сюжетов» военной риторики, призванных убедить воинов, что любого врага можно убить и победить, является, судя по всему, «Илиада», в четвертой песне которой Аполлон так пытается возбудить мужество в троянцах:
«Конники Трои! Смелее, вперед! Не сдавайте ахейцам
Поле сраженья! Ведь кожа у них не железо, не камень!
Острою медью ударишь – удара она не задержит!»
(И., IV, 509–511)
Во взаимном переплетении и перетекании друг в друга сюжетов эпоса и литературы, топов военной риторики и рекомендаций военных трактатов заключается та системообразующая для воинского институционального дискурса связь, которая призвана питать, обогащать и возвышать военное дело и воинскую деятельность. Это сплетение одно только обеспечивает воинскому дискурсу способность превращать войну и военную службу в восприятии ее общественным сознанием из ремесла, основанного на противоестественном убийстве себе подобных, в избранное служение, охарактеризованное в свое время эпиграфом к «Уставу воинскому» Петра I: «Чрез оружие домогаются чести».
Итак, мы нащупали древнейшие источники воинского институционального дискурса – эпос, литературу, военную риторику и военные трактаты, – взаимно питавшие друг друга. С наступлением Нового времени функцию регламентации речевой деятельности военных, прежде, как правило, эпизодически выполняемую военными трактатами, переняли воинские уставы. По мере своего развития уставы обнаружили склонность к всеобъемлющей регламентации не только служебно-боевой деятельности, но и, можно сказать, уклада жизни военного сословия. Уставной дискурс стал все шире использоваться в качестве эталонного в персональных дискурсах военнослужащих. Приказы и команды почти вытеснили из воинской деятельности военную риторику, предоставив ее частному почину отдельных полководцев, к которому, к тому же, прибегали, обычно оказываясь в самых стесненных, если не критических обстоятельствах.
Потеря воинским дискурсом вместе с утратой возвышающих душу топов и примеров воспитывающей силы безусловно сказалась на боевом духе и боеспособности войск. Там, где «вместо храбрости – нахальство, а вместо подвигов – психоз», места храбрости и подвигам обычно не находится, а без них ни одна армия в мире воевать еще не научилась и вряд ли научится, по крайней мере, по-настоящему, а не гибридно. Прикрыть этот очевидный и не очень удобный для многих лишенного истинно воинского духа военных факт попытались фиговым листком военной науки и военного искусства, ссылаясь на содержимое выеденного яйца многотрудных «компетенций», которыми-де теперь необходимо овладевать солдату и офицеру вследствие немыслимого усложнения военного дела. Дискурс современных боевых уставов из канцелярски-административного превратился отчасти в псевдонаучный, оперирующий разветвленной и нередко весьма запутанной терминологией. Как следствие, возникла необходимость в военных словарях и энциклопедиях, в которых военная премудрость находила бы солидное научное обоснование и подкрепление. Поскольку уставы, доктрины и прочие основополагающие документы теперь исправно ссылаются на толкование военных терминов, закрепленных в соответствующих словарных статьях, военные словари и энциклопедии в настоящее время могут считаться, наряду с уставами, одним из источников воинского институционального дискурса.
Итак, современный воинский институциональный дискурс в военных словарях и энциклопедиях кодифицируется, в воинских уставах регламентируется, а в военной риторике преимущественно реализуется. Мы употребили применительно к военной риторике оговорку «преимущественно», потому что в первом своем значении – как наука, технология и искусство целесообразного изобретения, построения и употребления речи – военная риторика не находит применения в отечественной педагогической практике. Остается надеяться, что частный почин отдельных военачальников до сих пор еще удовлетворяет второму ее значению – быть совокупностью произведений персональных дискурсов, служащих обеспечению воинской деятельности. Читателей, интересующихся историей военной риторики, мы отсылаем к монографиям серии «Военная риторика», выходивших в издательстве «Алетейя» в 2011–2014 годах.
Монография, которую мы предлагаем вниманию читателей, посвящена изучению источников воинского дискурса: древних военных трактатов (раздел I), воинских уставов (раздел II) и военных словарей и энциклопедий (раздел III).
Раздел I
Военные трактаты
Глава 1
Европейские военные трактаты
Первая попытка регламентации речевой деятельности полководцев и войск была предпринята в военных трактатах. В «Тактике» Асклепиодота (I в. до н. э.) описывались правила подачи команд в строю фаланги, которым в общих чертах следуют и современные боевые и строевые уставы: «Итак, голосовые команды должен быть короткими и однозначными. Это будет достигнуто, если частная команда будет предшествовать общей, так как общие (команды) неоднозначны. Например, мы не скажем «Поворот направо!» но «Направо – поворот!», так что в запальчивости некоторые могут сделать поворот направо, а другие налево, когда приказ о повороте дан первым, но все должны делать то же самое вместе; или мы не скажем «Кругом через правое плечо!» но «Через правое плечо – кругом!..» [3, URL: http://www.simposium.ru]. Разделение команды на предварительную и исполнительную часть и вынесение ключевого слова на первое место – то главное, чем следует руководствоваться и сегодня при командовании в строю и при передаче целеуказаний по средствам связи.
И Асклепиодот, и Элиан в своей «Тактике» (I в.) отмечали, что команды, подаваемые голосом, наиболее понятны воинам, если только условия (протяженность строя, звуки боя, шум, погодные условия или условия местности) не создают помех пониманию их смысла. В противном случае полководцам рекомендовалось прибегать к сигналам при помощи знаков, значков и музыкальных инструментов.
Арриан (I в.) также указывал: «Нужно приучать войско быстро принимать команды, [поданные] голосом, видимыми значками, или трубами. Более понятными оказываются [команды], отданные словом, потому что такое сообщение доносит всю полноту мысли, не то что сигнал, который только видят или слышат» [14, с. 163]. Он же, следуя Асклепиодоту, полагал, что «команды нужно отдавать как можно более кратко и так, чтобы они были совершенно ясными. Это будет достигнуто, если мы остережемся давать такие [команды], которые солдаты могут понять двояко[8]. Например, если ты говоришь «повернись», и потом к этому добавляешь – «к копью», или «к щиту», то те, кто привык быстро повиноваться приказам, воспримут и выполнят [команду] каждый по-своему. Поэтому нужно говорить не «повернись к копью», или «повернись к щиту», но в обратном порядке – «к копью повернись» или «к щиту повернись»: тогда все, сколько есть, услышат и выполнят одно и то же. Так же не нужно командовать «поворот кругом» или «контр-марш»: ведь эти [команды], указывающие [только] на род действий, побудят, кто слушает, к исполнению разных приемов. Вид должен предшествовать роду, то есть: «к копью поворот кругом!» или «к щиту!..» [14, с. 165–166]. «Вид» и «род» в данном переводе есть то же, что и «частная» и «общая» команды у Асклепиодота, а команды «к щиту» и «к копью» есть аналоги «налево» и «направо»: поскольку каждый воин держал щит в левой руке, а копье в правой – не возникало необходимости введения новых понятий «левое» и «правое».
Пока римские легионы сохраняли агрессивную напористость, ту тягу ко «всеобладанию», о которой писал Е.Б. Фукс[9], авторы военных трактатов были достаточно лаконичны – в речевой деятельности полководцев команды явно преобладали. Но стоило покачнуться римской военной мощи, что, конечно, явственно отразилось на боевом духе легионеров, как оказалось, что одними командами не обойдешься. И вот уже у Вегеция (конец IV – начало V вв.) встречается следующая знаменательная рекомендация: «В тот день, когда воинам предстоит сражаться, старательно разузнай их настроение. Не очень доверяй, если новобранец жаждет боя; для тех, кто не испытал сражения, оно кажется заманчивым; знай, если испытанные бойцы боятся сражения, тебе лучше его отложить. Благодаря убеждениям и поощрениям вождя у войска растут храбрость и мужество, особенно если они понимают, что метод предстоящего сражения таков, что они могут надеяться легко добиться победы. Затем нужно указать на неспособность и ошибки врагов, и если они раньше были побеждены нами, напомнить об этом. Нужно рассказать о том, что вызовет ненависть к врагам и зажжет души наших воинов гневом и негодованием» [5, с. 231]. Умение формировать боевой настрой перед сражением требовалось от полководцев испокон века; новым для римских полководцев является осторожничанье с оглядкой на трусивших воинов. Совет откладывать сражение, если опытные солдаты не уверены в его исходе и стремление побеждать, не затрачивая больших усилий, косвенно может свидетельствовать о том, что римляне еще сохраняли стратегическую инициативу, но духом уже ослабели.
Воспитанию войск, в особенности ближайших помощников военачальника, в мирное время уже требовалось уделять серьезное внимание. Это неизбежно приводило к смещению акцентов с монолога полководца к диалогическому общению с подчиненными: «Для вождя наиболее полезным и искусным приемом является выбрать из всего войска знающих военное дело и мудрых людей и, устранив всякую лесть, которая в этом случае крайне вредна, чаще вести с ними беседы (выделено мной – С.З.) о своем и о вражеском войске, о том, у кого больше бойцов, у нас или у врагов, чьи люди лучше вооружены и снабжены, чьи более обучены, чьи более мужественны в тяжелых условиях. Нужно разобрать, на чьей стороне лучшая конница, на чьей – пехота, а надо знать, что в пехоте заключается сила войска… Надо разобрать, у кого больше запасов продовольствия, или у кого их не хватает; ведь голод, как говорится, внутренний враг и очень часто побеждает без меча. Но главным образом надо обсудить, выгоднее ли оттянуть неизбежное или скорее вступить в бой…» [5, с. 223]. Примечательно, что одними глашатаями, как у Арриана, римский полководец уже не мог обойтись: его речевому воздействию нужны были не только «усилители голоса», но и «передаточные механизмы», обеспечивающие трансформацию его замысла в мысли, чувства и волю бойцов, стоявших в рядах фаланг. И, как следует из приведенного отрывка, этим людям совсем не обязательно было быть командирами, – ими вполне могли быть заслуженные воины, обладавшие авторитетом среди своих товарищей, к чьему голосу прислушивались в рядах – предтечи византийских кантаторов.
В этом вопросе Вегеций фактически повторяет[10] Онассандра, чьи «Наставления военачальникам» современная наука датирует I веком на основании авторской надписи, посвящающей труд Квинту Веранию, бывшему консулом в 49 году. Достаточно ли этого для однозначного установления авторства? Риторический трактат «Для Геренния», например, до сих пор считается анонимным, поскольку по дошедшим до нас сведениям, только в I веке известны минимум два Геренния сенаторского звания, к которым мог бы адресоваться автор, предположительно Цицерон. При датировке трактата Онассандра сомнения возникают, главным образом, на основании анализа текста.
Во-первых, в сравнении с предшественниками и предполагаемыми современниками – Асклепиодотом, Элианом, Аррианом, уделявшим внимание в основном боевой силе и организации войска, трактат Онассандра слишком всеобъемлющ, слишком всеохватен, он уделяет слишком много внимания подробностям, относительно малозначимым для войска, одержимого агрессивным стремлением к завоеваниям и победам. Онассандр стремится снабдить полководца советами буквально на все случаи жизни: как следует отдыхать военачальнику, когда следует кормить воинов, как погребать павших и проч. Это роднит его с более поздним трактатом Вегеция, также очень внимательного к деталям.
Во-вторых, трактат начинается с необычной для полководцев античности заботы о справедливости: «Я думаю, что должно прежде всего убедиться в необходимости войны и открыть всему свету справедливость причин, побуждающих начать оную. Это единственное средство обратить на себя благоволение Божества, получить помощь небес, и ободрить войско к перенесению опасностей брани. Люди спокойные в своей совести и убежденные в том, что они не делают несправедливого нападения на других, а только защищают свою безопасность, к достижению сего употребляют все свои силы, между тем как те, которые почитают Божество разгневанным несправедливою войною, от сей мысли приходят в боязнь, дабы от неприятелей не случилось им претерпеть какого-нибудь бедствия. И так полководцу надлежит употребить сперва сношения и посольства, чтоб удобнее достигнуть предметы своих желаний и совершенно показать несправедливость требований, делаемых врагами; в случае же несогласия их с его законными представлениями, дать знать, что необходимость, а не зложелательство принудили его сделать набор войска. Пусть тогда он представит Бога свидетелем правоты своих намерений, пусть ясно покажет врагам, что он объявляет им войну не потому, чтобы почитал бедствия, наносимые оною маловажными, или не потому, что в сем случае преимущественною целью он имеет то, чтобы начать войну с одним желанием причинить зло неприятелям» [13, с. 29–31]. Трудно представить римского полководца I века, обременяющего себя посольствами только для того, чтобы очистить свою совесть, что не он является причиной кровопролития и смертоубийства и убедить своих воинов в том, что боги будут им покровительствовать. Конечно, и Цезарь не отвергал переговоры с неприятелем, но это скорее служило прагматичным средством вызнать замыслы врага, разведать его силы и, по возможности, внести раскол в его ряды. Боги Рима отнюдь не были альтруистами, a virtu римлянина была густо замешана на крови и сексе, что убедительно показал, например, П. Киньяр[11]. К категории справедливости стало особенно чувствительно христианское сознание византийцев V–XI веков, формировавшееся под знаком ценностей религиозного пафоса общественной речи.
К тому же, прибегать к набору войска в I веке не было необходимости – в распоряжении римских полководцев были готовые легионы профессиональных солдат. Практика набора наемного войска получила в Риме распространение на пару веков позднее.
Интересно также указание трактата на необходимость очищения воинства перед предстоящим сражением: «Полководец, прежде вывода своих воинов на поле сражения, должен приказать очистить их от грехов, и общих или частных пороков духовными жертвами, предписанными законом Божественным, или назначенными в предсказаниях» [13, с. 35]. Трудно судить, насколько эта практика была распространена в римском войске I века, по крайней мере, в записках Цезаря о Галльской войне о подобных ритуалах не упоминается ни разу. Но по мере распространения христианства участие воинов в религиозных обрядах стало обязательным и, как будет показано далее, регламентировалось наставлениями военных трактатов. Заметим: жертвы предписаны духовные. Следовательно, трактат можно датировать не ранее IV в., когда христианство победило в Римской империи. Даже если бы Онассандр был христианином I века, ему бы не пришло в голову рекомендовать такое римскому магистрату. Ко всему прочему, приведенный здесь отрывок трактата можно переводить по-разному. Вот как он звучит в переводе А.Б. Шарниной: «Стратег, ведущий божественное [воинство] в сражение, [пусть положит] за первое искупление [грехов]. Пусть свободный от порока полководец выводит войска, которым, кто свят, путь указывает [божественный] закон, а очищающимся, – пророки, удаляя, если есть какое позорное пятно на государстве, или частным образом у каждого скверну». «Святыми» называли сами себя в первые века христиане. Сомнительно, чтобы всего через полтора-два десятка лет после распятия Христа (в соответствии с принятой датировкой трактата) его последователи умножились в римском войске настолько, что автору потребовалось входить в тонкости христианского вероучения и отделять «верных» от «оглашенных».
В-третьих, Онассандр, описывая порядок погребения павших, указывает: «Сие благочестивое дело есть священный долг мертвым и нужный пример для переживших, ибо всякий воин, видя пред глазами сию участь, что об нем будут не радеть, как скоро он погиб на поле брани, и судя по настоящему и о будущем, что и он, если умрет, равно не будет должным образом предан земле (выделено мной. – С.З.), нелегко переносит бесчестие остаться без гробницы» [13, с. 35]. Данный пассаж прямо противоречит существовавшим в I веке погребальным обычаям римлян: «В последние века республики и в первый век империи трупы обычно сжигались, и погребение в земле начало распространяться только со II в. н. э., возможно, под влиянием христианства, относившегося к сожжению резко отрицательно» [16, URL: e-libra, rmread/ 315738-zhizn-drevnego-rima..html].
Приведенные соображения позволяют предположить, что трактат Онассандра не мог быть написан ранее второй половины III – начала IV века. Слова Ф. Стуарта, что автор был «философ платонический» следует трактовать, что Онассандр был представителем неоплатонизма, чье учение стало известным в Риме со второй половины III века. Для неоплатоников было характерен политеизм – переплетение почти христианского понимания духовности с языческой религиозно-магической практикой с ее жертвоприношениями, гаданиями и предсказаниями, – отражение которой мы находим в трактате.
Неудивительно, что Онассандр, сам отличавшийся прекрасным слогом[12], придавал такое значение слову военачальника: «Полководец должен быть красноречивым. Сие дарование военачальника много пользы может доставить войску. Когда он будет расставлять воинов в боевой порядок, тогда убедительная его речь внушит им презрение к опасностям и желание оказать дела доблестные. Звук трубы, достигнув слуха воинов, не столько воспламеняет их души к сражению, сколько речь, возбуждающая их мужество на месте битвы. Во время неудачи и поражения утешительная речь ободрит унылые сердца. Речь военачальника, могущая доставить утешение в несчастьях, претерпеваемых войском, гораздо полезнее искусства лекарей, обыкновенно сопутствующих воинам для уврачевания их ран. Врачи своими лекарствами пользуют только раненых, а речь полководца придает бодрость утомленным и возбуждает отважность в бодрых. Но как болезни внутренние лечить труднее, нежели наружные, так и утешительной речью исцелить сердце от малодушия гораздо труднее, нежели уврачевать ясную по наружным признакам телесную болезнь; и так, если никакой город не посылает войска без военачальника, то не должно избирать военачальником человека, не обладающим даром красноречия» [13, с. 17].
«Красноречие» трактовалось достаточно широко: для ободрения сражающихся допускалось сеять ложные слухи, например, громко возглашать, что царь или военачальник неприятельский убит; на левом крыле сообщать, что правый фланг одолевает врага, а правофланговых подзадоривать тем, что левофланговым сопутствует успех. Главное же для стратига было – в любых обстоятельствах сохранять спокойствие и напускать на себя бодрый и веселый вид, способствуя эмоциональному заражению войск. Впрочем, при случае полагалось необходимым уметь разъяснить серьезность положения: «Цель такого представления не та, чтобы воинов привести в страх, но чтоб сделать их рассудительнее» [13, с. 87]. Пример Цезаря показывает, что это было весьма полезно в том случае, если войско по каким-либо причинам начинало роптать на своего полководца – боязнь оказаться брошенными без покровительства его сильной руки в окружении грозящих гибелью врагов отрезвляла и делала «рассудительными» многие горячие головы. Как бы то ни было, но полководцу признавалось полезным «иметь сии два качества: уметь говорить хорошо в нужное время и принимать на себя вид, какой потребуют обстоятельства» [13, с. 88].
Помимо красноречия, Онассандр полагал важным умение слушать. Для этого полководцу необходимо было быть доступным в любое время каждому – «раб ли он, или свободный, днем ли или ночью, на дороге, в шатре, на постели, в бане или за столом», – кто пожелал бы доставить ему какое-либо известие о неприятеле.
Ценность риторики в военном деле находит отражение в византийских трактатах, рассматривавших подготовку воинов к битве не только как обязанность полководцев, но и считавших полезным существование для этой цели специальных должностных лиц. Так, «Стратегикон» Псевдо-Маврикия (VI в.) упоминает о должностях кантаторов, которые «до сражения держат речь, готовят воинов, напоминают о том, что может случиться» [9, с. 13].
Признавалось важным, чтобы военачальник «был бы точен и внятен при разъяснении самых труднейших упражнений», и не торопился наказывать, но делал это только после тщательного разбора дела. Наконец, подчеркивалась важность постоянного общения с воинами; рекомендовалось «вступать с ними в разговоры, употребляя при этом ласковые слова, просторечия и прочее, что подходит к их понятиям», поскольку «без этого нельзя уверенно управлять войском» [9, кн. 8, 1].
Так же как в трактате Онассандра, главнокомандующему полагалось полезным в речах соблюдать «золотую середину» – не перехваливать своих и не унижать боевые качества врагов: «Когда он держит речь к войску, то не должен оставлять без похвалы даже неприятельские подвиги, чтобы таким образом выказать себя справедливым и по отношению к неприятелю и обратно – чтобы свои не слишком превозносились» [9, кн. 8, 2]. Рекомендация, что и говорить, полезная для искоренения шапкозакидательных настроений у современных военнослужащих, под воздействием государственной пропаганды порой теряющих способность трезво оценивать противника. Достаточно вспомнить к чему привело культивирование безответственного лозунга «воевать малой кровью на чужой территории» перед Великой Отечественной войной.
Полководческое красноречие трактат рекомендовал подкреплять «увещеваниями» всех начальников, вплоть до младших командиров – декархов и пентархов (десятников и командиров над пятью воинами).
С точки зрения содержания речей «Стратегикон» отдавал предпочтение классическому героическому пафосу: «Прежде всего надо напоминать о прошлых славных подвигах» [9, кн. 7, 5]. Не исключались материальные и правовые стимулы: «В то же время надо объявить в каждой тагме через ее начальников, что Верховный Вождь желает награждать воинов, обещать награды тем, которые окажут услуги государству, и прочесть писанные законоположения присяги» [там же].
Первым дошедшим до нас полнотекстовым документом, целиком посвященным организации речевой деятельности полководца и речевому воспитанию войск в VI в. стал трактат, известный в научной литературе под названием «Rhetorica militaris» (далее по тексту R.m.).
В качестве главной цели произнесения военных речей автор трактата выделял побуждение воинов к сражению и воодушевление их. Византийские армии VI века были наемными: в случае необходимости император вручал определенную сумму денег военачальнику и поручал ему провести набор солдат. Следовательно, у военачальников не было возможности заботиться о воспитании воинов в мирное время, кроме разве своей личной охраны – буккеллариев. Речи полководцев являлись действенным средством двинуть войска в сражение, что было непростым делом, ибо наемники, как правило, не горели желанием сложить голову на поле боя.
Трактат устанавливал различие между четырьмя видами речей: речи, призывающие к войне, речи победные, убеждающие и гневные.



