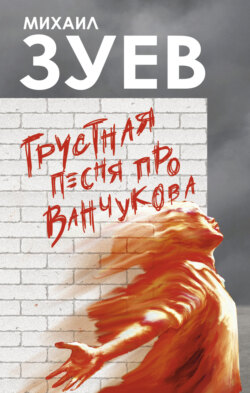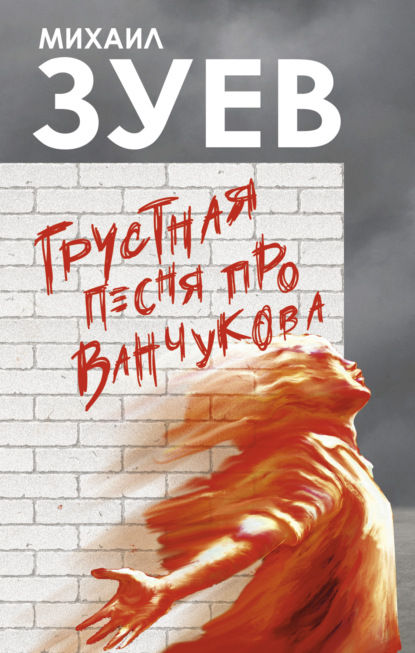© Текст. Михаил Зуев, 2021
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021
* * *
Все события и персонажи этого романа вымышленные. Любое сходство или совпадение с реальными событиями и/или реальными людьми – случайное и непреднамеренное.
* * *
Мишке.
* * *
В нашем богоспасаемом / богом терзаемом мире,
Где наследство пятак, а долги распирают карман,
Где все спаяны бытом в большой коммунальной квартире
(тот подлец и дурак, та гуляет, а этот по пятницам пьян),
Где по стенам висят стульчаки и портреты героев,
не вернувшихся с – ах, прошлогодней столетней войны,
Где на кухне поместится всё, кроме ближнего боя,
Где жильцы в эту общую жизнь как в болезнь влюблены —
Бесполезно судить, бесполезно искать, бесполезно.
Только дверь изнутри подпереть – и бездумно смотреть,
Как кудрявое солнце на крышу мальчишкой полезло,
Как колодец двора стал светлее на целую треть.
Ольга Левская[1]
Пролог
Отчего-то людям нравится задавать дурацкие вопросы. Ладно бы – себе; так нет же – другим. Вот, к примеру, один, наидурейший: «Опиши твоё самое первое воспоминание». С чего всё началось? С чего начался ты? Давай-ка, не ленись – выкладывай без утайки; именно «самое» и именно «первое».
Кто-то подходит серьёзно, будто в самом деле ничего и нет важнее на свете. Вот уже щедро морщится лоб, слегка прикрываются глаза, раздражённо потираются виски. Отчаявшись найти быстрый ответ, запускаются маленькие, недобро жужжащие, с острыми лезвиями, лопаточки-совочки ретроспекции разума под сводом храма черепной коробки: чтобы поворошить там, покопаться, напоследок даже поскрести по стенкам. И – так ничего не вспомнив – сделать вид: «Нарыл!». Это как «эврика!», только попроще; всё же двадцатое столетье за окном – не Средние века, не какой-нибудь там недобитый Ренессанс. И с умным видом потом – как давай вещать, да соловьём!.. Понятно, придумывая на ходу. В меру своей испорченности.
Кто-то же рубит сразу и с плеча: отстаньте, не тратьте время. Ничего не помню, вспомнить не могу, да и не хочу. И не буду. Коротко, зато честно.
Но есть другие. Самые редкие. Те, кто на самом деле помнят, и придумывать им ничего не надо. И, главное, никогда не забудут.
Ванчуко́в был из этих самых. Из третьих.
Июньским утром, прозрачным, в яркой дымке нехотя рассеивающегося тумана, с трудом сохраняя хрупкое равновесие на дерзко пробующих землю ножонках – впрочем, лишённых рахитичности и через раз встречающегося косолапия – Ванчуков застыл на краю лужайки, взбугрённой свежей травой и залитой раскисшей грязью привозного чернозёма. Даже самый мелкий куст там был для него с большую пальму, способную укрыть прохладной тенью завивающуюся светлыми вспотевшими кудряшками макушку под смешной, пельмешком-пирожком, с двумя перламутровыми пуговичками, панамкой. Что ж до деревьев, обступивших поляну, то их присутствия Ванчуков не замечал вовсе: они были так велики, что в картине мира Ванчукова для них при всём желании не нашлось места.
Трава под ногами – скользкая, мокрая – чавкала с каждым неуверенным шажком. Она просто сочилась водой, как свежий, только что купленный бисквитный торт-полено исходит сладкой коньячной пропиткой. Над поляной тёк, завихряясь, сложный аромат тёплой зелёной свежести. Рядом с Ванчуковым, на расстоянии вытянутой детской ручонки, из земли торчал горбатый, синим крашенный поливочный водопроводный кран, увенчанный похожей на бандитский кастет ручкой вентиля. Какой-то бесталанный торопыжка когда-то забыл закрыть его как полагается – до конца, и кран, целыми днями хрипло сипя и побрызгивая радужною дугою больших водяных капель, затопил поляну городского парка, превратив её не то в заливной луг, не то в свежее болото. Такое безалаберное отношение к воде здесь, в сухой казахской степи, смотрелось по меньшей мере глупо.
Ещё там, кажется, пели птицы; тёрли маникюрными пилками лапок по гулким слюдяным крылышкам кузнечики; конечно же, пари́ла земля; вполне вероятно – даже наверняка – волнами накатывал советский плагиатный твист из рупоров торчащего поодаль несуразного сборища скрипучих аттракционов вперемешку со всенепременным визгом оседлавших качели-карусели граждан – ведь то было воскресенье, день святой, единственный выходной в рабочей неделе образца одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Конечно же, всё это там было – его просто не могло не быть.
Но ничто из перечисленного Ванчукову не запомнилось. В память же навеки твёрдо впечаталось совсем другое: предательски-наждачно при каждом шажке саднящая пятка, обструганная до липкой пахучей крови жёстким задником убогой двухрублёвой пары совнархозовских сандалет. Причём не просто «пятка», а пятка конкретная. Правая.
Боль заставляет чувствовать, втягивать в себя окружающий мир в распахнутые диафрагмы расширяющихся от му́ки зрачков. Боль приказывает человеку: запоминай. И именно она, боль, всегда, без исключений и пощад, всплывает из глубин прошлого первой, расталкивая всё и вся, – как бы сервильно и глубоко ни пытаться её запрятать.
Вообще, странно, нелепо, что летним утром шестьдесят третьего года Ванчуков оказался на лужайке. По большому счёту, он, Ванчуков, был нонсенсом. И его не должно было быть не только на лужайке. Его не должно было существовать вообще. Но – материализовался, случился, задышал, открыл карие глаза, и вот теперь, случившись, да ещё и стерев до крови правую пятку, впервые в жизни застрял в непролазной грязи.
Так откуда он здесь? Волей-неволей придётся копнуть ещё глубже, отмотать ломкий мутный целлулоид времени ещё на десятилетие. Хотя что для вечности эти «десять туда, десять сюда»?.. Так, не стоящий внимания пустяк.
Ничего себе – был пустяк, а стал – целый Ванчуков.
Часть первая
Глава 1
Сношенные подошвы давно отживших своё галош безбожно скользили на подтаявшем от распутицы лежалом снегу разбитой мостовой узенького и кривенького переулка. Мало того, что скользко и срывающаяся с крыш капе́ль так и норовит залезть поглубже за шиворот, так ещё – путь в горку! Идти нелегко. Так хочется расстегнуть старое драповое перелицованное кургузое пальтишко! Но нельзя: верная простуда. Сибирь даже весной вольностей не прощает.
Вырвавшийся из-за угла, словно тать с большой дороги, порыв ледяного ветра с размаху хлестанул в разрумянившееся девичье личико. Изольда, вздохнув, крепче прижала к шее над истёртым цигейковым воротником штопаную-перештопаную шаль, завязала фривольно болтавшиеся тесёмки войлочной ушанки и чуть ли не бегом рванула вверх по изъеденному дворницкой солью тротуару бестолковой главной улицы – туда, где за ренуаровской туманной дымкой нависал над прохожими и проезжими строгий неуютный серый корпус металлургического института.
Неделю назад Изольде стукнуло двадцать три. Она была восьмым ребёнком в семье. Но только во фразе этой – «она была восьмым ребёнком в семье» – не было и на грош правды.
Во-первых, потому что никаких семи братьев и сестёр у Изольды нет: все они умерли во младенчестве, никто из них не пережил даже двухмесячного возраста. Изольда осталась жива по непонятной причине, но вряд ли это могло исправить ситуацию: отцу, Пегову Михаилу Ивановичу, врачу-хирургу, многолетний ужас с мёртвыми детьми и осатаневшей от напрасных родов женой уже не первый год стоял поперёк горла. Его призвали на финскую кампанию; он с радостью сбежал из ненавистного дома. Служил в госпитале рядом с линией фронта.
В предоперационную влетела бомба. Покосило всех, кроме Изольдиного отца – ему только посекло осколками обе ноги да чиркнуло по левой щеке, перебив нерв и навсегда бессильно опустив угол рта. Выхаживала его сестричка из хирургического отделения. С ней-то Михаил Иванович и вернулся после финской в Сибирь. Квартиру горздрав дал сразу – такими спецами разбрасываться глупо. Молодая жена Михаила Ивановича была уже на приличном сроке беременна двойней. Домой, в коммуналку, к Изольде с матерью, хмурый Пегов явился через неделю: собрать чемоданчик с личными вещами. Чемоданчик собрал, Изольду чмокнул торопливо и вышел вон – строить новое счастье с новой женой и новыми детьми в новой квартире. Так появилось и «во-вторых»: никакой семьи у Изольды теперь и вовсе не было.
А что было? Сначала, после финской и краткого явления отца за чемоданчиком, была следующая война. Отца поставили главврачом местного тылового госпиталя. Город наводнили раненые и эвакуированные. Была коммуналка, была нищета. Мать Изольды, когда-то, до исторического материализма, выпускница Смольного – женщина без профессии и без должности, туберкулёзница, курившая по пачке самых дешёвых плохих папирос в день, бледная, измождённая, отчаявшаяся – зарабатывала на жизнь тем, что перешивала на старом «зингере» людям старые вещи. Это она, по второму уже разу, перелицевала Изольдино позорное пальто, купленное когда-то по случаю на последние деньги на барахолке, – хотя бы за перелицовку не пришлось платить.
Жили скудно. Хлеба по карточкам мало: материна была не рабочая, а иждивенческая. Ну и Изольдина, детская – а много ли по ней… Изольде всегда хотелось есть. Ещё надо было расти – но расти было не с чего. Бледная, тощая, с глазищами в пол-лица, с чёрной косой чуть ли не до пола, она не представляла, что возможна другая жизнь.
Что ещё было? Был город. Суровый, сибирский, с навеки растворённым в воздухе запахом меткомбината и окрестных угольных шахт. «Через четыре года здесь будет город-сад»[2]. Город построить успели, сада не случилось. Была война. Были голодные обмороки. Была победа. Была золотая медаль в школе. Был единственный в городе институт. Отличница, повышенная стипендия. И вот теперь, после пяти лет – преддипломная практика.
Отец? Так он ушёл. С чемоданчиком. И дорогу туда, откуда забрал чемоданчик, вытер из виноватой памяти насовсем. Иногда Изольда сама, превозмогая обиду и тоску, приходила в больницу. Подолгу сидела в приёмной – папа то был в операционной, то на обходе, то где-то ещё. Конечно, можно было позвонить – в кабинете главного врача существовал телефон, а на улице хватало таксофонов; но звонить Иза не хотела и не могла. Она просто не знала, как разговаривать с отцом, не видя его глаз. Папа, усталый, совсем уже седой, погрузневший, посеревший лицом, в белом отглаженном халате на голое тело, в высокой хирургической шапочке, с болтавшейся на шее марлевой маской, быстро входил в свою приёмную, поднимал дочь с кресла, целовал в обе щёки, брал в охапку, запихивал в кабинет, усаживал – всегда! – в «царское», как он любил шутить, кресло за необъятным рабочим столом; сам садился на широкий подоконник, ставил пепельницу, курил сталинскую «герцеговину» одну за одной, широко открыв форточку. Поил Изольду крепким чаем, кормил бутербродами и пряниками, пил чай сам. Слегка склонив голову набок, спрятавшись, наверное, сам от себя за клубами дыма, расспрашивал про жизнь, про институт, никогда не вспоминая даже намёком о бывшей жене. Давал денег. Деньги эти Иза раз за разом, уходя, «забывала» на столе; Михаил Иванович замечал, хватал купюры в кулак, бежал следом, догонял, останавливал на лестнице, засовывал в сумку или в карман. Изольда молчала, давилась слезами; не разбирая дороги, уходила вниз по лестнице. Она никогда не была у отца дома – хотя сколько раз он приглашал. Никогда не видела сводных сестёр-близняшек, пока однажды они, уже подросшие, не отловили её у выхода из института, не кинулись на шею. И так стояли они, втроём, три хрупкие девчоночки – одна бледная, две смуглые (их мать была абхазкой), стояли, обнявшись, и плакали тихо, то ли от радости, то ли просто потому, что не заплакать в такие моменты у тех, кто имеет души, не получается.
Личная жизнь? А это как? Это откуда? Какая может быть личная жизнь: в голоде, в холоде, в постоянных, все пять лет института, подработках да приработках – иначе на одну повышенную никак не прожить вдвоём с матерью, ослабевшей, совсем лишившейся возможности заработать хотя бы какую-то копеечку. Были, конечно, кавалеры-ухажёры. Война войной, разруха разрухой, а тестостерон никто не отменял – да и не в силах людишкам над планами высших сил властвовать. В девчушках Иза поначалу была испуганной и просто миловидной, но после двадцати успокоилась, немного-таки откормилась и расцвела. Проще говоря, стала красивой, хоть и малорослой – не дотягивала до ста шестидесяти. Крупные черты лица, коим была она обязана греческим предкам три поколения назад, вкупе с бледностью и изредка проявляемым на чуть впалых щеках румянцем, тяжёлая коса чуть ли не до пола давали такой замес, что многие сокурсники в буквальном смысле сходили с ума. Однако ума у этих многих и так было не особо; все они хотели одного, и хотели быстро. Изольда же совершенно не понимала, зачем ей вся эта мышиная возня. Тем более, что есть всегда хотелось больше, чем любить.
Мать по обычаю глядела на дочь недовольно, выражалась в её адрес резко, часто в сердцах попиливала за излишнюю разборчивость: мол, гляди, так в девках и протухнешь. Изольда слушала её исключительно по дочерней обязанности, без раздражения – как, допустим, шофёр автомобиля слушает шум двигателя. Без шума машина всё равно не едет – так зачем на него реагировать? Мать была властной, высокой, прямой, костлявой, худой, с неистребимой смольной институтской осанкой, с гордо посаженной головой, с безумно пылающими глазами – и от всего этого несчастной и жалкой. Весь её тщетно оберегаемый до конца не растраченный и не растерянный в страшных послереволюционных годах аристократизм оказывался в сочетании с нищетой не просто бессмысленен, но убийственен. Она уже давно не воевала со всем миром – она воевала с собой. И войну эту день за днём проигрывала. Ибо бой с тенью никогда не может завершиться победой.
С Лялькой Барышевой Изольда столкнулась прямо в раздевалке. Раскрасневшаяся взмокшая Лялька как раз скидывала на руки гардеробщице новую каракулевую шубку, на ходу запихивая в рукав кружевной платок. Изольда замедлила шаг, хотела было спрятаться за стоявший по центру вестибюля стенд с учебными расписаниями. Сдавать своё убитое пальто следом за Лялькиной шубкой было выше её сил. Но номер не прошёл.
– Изка, Изка, ой, ты! Ой, как я рада! Ой, а мы не опоздали?! – Лялька, в сущности, была хорошей девчонкой. Доброй, отзывчивой. Ну, глуповатой, но это-то самую малость. – Изка! Я всё-всё весной забываю! В какую нам аудиторию?
– Девушка, – с полпути до вешалки повернулась к Ляльке пожилая гардеробщица, – у тебя на шубе вешалка оторвана. Не приму.
– Ой, ой, простите, пожалуйста! – виновато затараторила Барышева. – Я пришью, я обязательно пришью! А повесьте за ворот, а?.. Ну, пожалуйста!..
Пегова подождала, пока закончится цирк с конями.
– В двадцать третью, на втором, – чуть ли ни по слогам сказала она бестолковой однокашнице, медленно-медленно освобождаясь от позорного пальто и кладя его на руки гардеробщице. – Не опоздали. У нас ещё две минуты. Но точно опоздаем, если ты ещё тут квохтать будешь.
На «квохтать» Барышева, весь институт списывавшая у Пеговой все контрольные и курсовые, нисколько не обиделась. Иза, конечно, не подруга и, конечно, дочери главного меткомбинатского инженера не ровня; да, девушка резкая, но – не злая. Отходчивая. И вообще: себе дороже обижаться. Обидишься вот – а она потом списать не даст!
– Эх, надо же, – покачала головой вслед поднимающимся по лестнице девчонкам гардеробщица, – одна вся в нарядах, в шелках да кашемирах, а какая неряха. А тут – заплатка на заплатке, сарафан-то скоро на просвет будет как марля, а гляди ж ты – в каком всё порядке. И вешалка у польта еёшного какая – клещами не выдерешь!
Вешалку к Изольдиному пальто пришивала мать. Не простую – из металлической цепочки, закреплённой к ткани двумя маленькими кусочками кожи. Да ещё раз в месяц проверяла: не вырвана ли. Наверное, жалела, что к дочери нельзя было пришить такую.
Народу в тесной двадцать третьей собралось немного – человек тридцать, половина выпускного курса металлургического факультета. Иза с Лялькой сели справа, недалеко от входа. Минуты через три в открытую дверь, прихрамывая, ввалился замдекана доцент Поскрёбышев. С ним пришли ещё пятеро мужчин. Никого из них Иза раньше не видела. Поскрёбышев сразу отправился за трибуну, а мужчины стали усаживаться в первом ряду. Но свободных мест там оставалось всего четыре. Пятый, кому места не хватило, улыбнулся, спросил у девушек разрешения, сел на свободное рядом с Лялькой. Та зарделась и ещё наглее запахла дорогими духами.
– Ну что, дорогие товарищи, – начал Поскрёбышев. – Ещё вчера я бы сказал вам «товарищи студенты», а уже сегодня так обратиться к вам не могу. Потому что это будет неправильно. Не студенты вы больше. Теперь вы – дипломники. Впереди у нас с вами всего один семестр, он же последний, и он же самый важный. И, как вы догадываетесь, самый тяжкий, – Поскрёбышев обвёл аудиторию тяжёлым взглядом. Осколочное ранение в спину всякий раз напоминало о себе, когда приходилось долго стоять. – Потому что за один семестр вам нужно всё, чему вас учили и чему вы учились все пять лет, применить на практике, создать и защитить дипломную работу. Я специально не говорю «написать». Это пусть контора пишет.
По залу пробежал лёгкий смешок. Поскрёбышев сам улыбнулся своим словам и продолжил:
– Нам с вами повезло, да, именно повезло! Вам учиться, а нам преподавать – в одном из лучших вузов советской страны, к тому же находящемся в славном городе, названном именем великого Сталина! Почему – в одном из лучших? Да потому что наш институт, всего три года как отметивший двадцатилетний юбилей, ещё совсем молод и полон сил. Потому что у нас преподают лучшие практики металлургического дела, которые, если можно так образно выразиться, товарищи, одинаково легко примеряют на себя и академическую мантию, и брезентовую робу сталевара! Потому что у каждого студента нашего института есть уникальная возможность практиковаться в своей профессии на самом современном металлургическом комбинате нашей великой страны!
Изольда, вполуха слушая замдекана, исподтишка, короткими простреливающими взглядами изучала сидящего слева мужчину, наполовину скрытого от неё Лялькой Барышевой, смотревшей прямо перед собой – интересно, куда ты впялилась? – подозрительно выпрямившись и втянув живот. Вот же ты сучка, усмехнулась про себя Иза, – и зачем только тебе учёба?! Что, папа институт присватал? Только рядом с тобой посади какие штаны, тут же вся грызня гранита науки заканчивается. Вовсе даже и не начавшись.
Мужчина слева был ещё вполне нестар – наверное, лет тридцати пяти, может, чуть больше, но если и больше – то уж сущую малость. Самой выдающейся деталью его профиля был большой, с горбинкой, но вполне себе изящный, тонкий нос, что он то и дело почёсывал – очевидно, чугунная речь Поскрёбышева наскучила ему не меньше, чем Изольде. Серые глаза. Рыжеватая кудрявая шевелюра, лёгкая проседь на висках. Высокий лоб. Волевой подбородок. Чётко очерченные аристократические скулы, чуть впалые щёки, густо обсыпанные мелкими песчинками рыжеватой щетины. Очень длинные, скорее женские, пальцы с аккуратно подстриженными ногтями. Если б не знать, где мы, Иза подумала бы, что он музыкант – пианист или скрипач.
Изольда с пяти лет занималась скрипкой. Играла сначала хорошо, потом говорили: «талантливо», а затем и вовсе в педколлективе музшколы начали шептаться: «непревзойдённо». Директор написал запрос в гороно, получил «добро». Школа выделила Пеговой в безраздельное пользование итальянский инструмент самого начала девятнадцатого века, конфискованный когда-то местным реввоенсоветом в каком-то имении сбежавших с Антантой царских недобитков. Только все эти экзерсисы ни к чему не привели. Конечно же, после музшколы Изольду Пегову единогласно рекомендовали к поступлению в училище при консерватории – но, увы.
Бед-ность. Всего-то, всего лишь – два слога. Два слога, отнимающих надежды, а с ними и будущее. Да и как едва живую мать бросить? Так вот вместо необыкновенной Москвы с Петром Ильичом в чугунном кресле на улице Герцена случился с Изольдой обыкновенный металлургический институт, названный в честь «товарища Серго» на улице с вдохновляющим названием «Рудокопровая». А что же скрипка? А скрипка на долгие годы легла в футляре на самое дно в самом дальнем углу ветхого нафталином пропитавшегося шифоньера. Её Пеговой за заслуги, словно награду, оставили.
Костюм мужчины, которого похотливая стерва Лялька, дай ей волю, тут же разобрала бы по винтикам, был почти новым, двубортным, в широкую полоску, «утёсовского» фасона. Но – отглажен плохо. Но – сидел кривовато. Ворот сорочки над галстуком мелко морщил. Галстук завязан некрасивым узлом – как курица лапой. Сам обладатель костюма и галстука производил впечатление человека умного, однако отчего-то сильно уставшего и неухоженного. Какого-то остывшего, не отогретого. Однако чистого, уютного и в чём-то даже – Изольда изумилась ходу своих мыслей – красивого.
– Времени на раскачку у нас нет, – тем временем привычно продолжал сотрясать воздух Поскрёбышев. – Сейчас я познакомлю вас с вашими руководителями дипломов. Поприветствуем, поприветствуем, товарищи!
Пятеро неизвестных поднялись со своих мест под жидкие аплодисменты начинающих дипломников и вышли к кафедре, встав полукруглой вольготной шеренгой. Все при пиджаках, при галстуках. И лишь один – Лялькин случайный сосед – поднявшись со скамьи, заученным, автоматически выверенным движением застегнул одну пуговицу пиджака. «Хорошие манеры, – подумала Изольда. – Интересно, откуда?»
Первый из пятерых, нёсший себя с глуповатым индюшачьим видом, оказался начальником цеха. Двое других – «Пат и Паташон», язвительно окрестила их Иза – инженерами из заводского КБ. Кто был ещё один – она не расслышала. Этот маленький пожилой плешивый человечек с натянутой поверх толстого одутловатого лица угреватой серой кожей не внушал ей никакого доверия. Незнакомец же в прихваченном на верхнюю пуговицу пиджаке был представлен Поскрёбышевым как сменный мастер прокатного цеха со странной, никогда раньше Изольдой не встреченной фамилией – Ванчуков.
Пока длилось представление надсмотрщиков над дипломниками, Сергей Фёдорович Ванчуков – теперь он наконец-то, к вящей радости Изольды, обрёл имя – коротко взглянул в переданный ему Поскрёбышевым листок, неловко левым рукавом прижал листок к корпусу, правой полез во внутренний карман пиджака, достал очёчный футляр, положил на стол, одной рукой открыл, водрузил на нос очки и снова уткнулся в листок. Тяжёлые очки уменьшили глаза Сергея Фёдоровича почти вдвое. «Плохо видит. Близорук. Вдобавок неуклюж», – отметила Изольда.
Руководители, подглядывая в розданные листки, стали выкликать волею судеб данных им в ощущениях подопечных. Дипломники поднимались со своих мест, выходили на пятачок перед кафедрой. Как только группа формировалась, руководитель взмахом руки подзывал их к себе, и все вместе выходили из аудитории в широченный коридор: проводить так называемое индивидуальное установочное собрание. Ванчуков оказался последним, поэтому ни Ляльке, ни Изольде, ни ещё троим студентам, двое из которых были оболтусами, а один – отмороженным комсомольским деятелем, никуда идти не пришлось.
– Вот, – рассмеялся Ванчуков, – и последние станут первыми!
Смеялся он заразительно; на небритых щеках немедленно начинали играть лёгкие, едва заметные трогательные ямочки, отчего их обладатель сразу выглядел моложе лет на десять. «Мальчишка. Какой же он, в сущности, ещё мальчишка», – что-то непонятное незримо колыхнулось в душе Изольды, там, где до этого всегда, все двадцать три года кряду, было пусто, гулко и безразлично.
– Иногда полезно быть последним! Все в коридоре на ногах, а мы тут сидим в комфорте…
– Сергей Фёдорович, Сергей Фёдорович! – затараторила Лялька. – А скажите, пожалуйста, какой нам нужен список литературы? У нас же у всех темы разные, так?.. Так! А список будет один для всех или тоже разный?
– Не беспокойтесь, товарищ… – Ванчуков сверился с листочком, – товарищ Барышева. Список будет индивидуальный для каждого дипломника. Завтра я встречусь с каждым из вас. Мы поговорим и сформируем для каждого индивидуальный план дипломной практики. Ну и, конечно же, индивидуальный список литературы. А теперь – великодушно прошу меня простить: я с ночной, не спал почти двое суток, соображаю плохо. Поэтому позвольте откланяться. Все вопросы решим завтра.
Сергей Фёдорович попрощался с ребятами элегантным коротким кивком головы и быстрым шагом покинул аудиторию. «Офицерские манеры, – опять зачем-то подумала Изольда. – И теперь понятно, почему небрит».
– Изка! Како-о-ой мужчина!.. – облизнувшись, протянула Лялька.
– Какой он тебе мужчина! – сама себе удивившись, рявкнула на неё Пегова. – Он не мужчина! Он – наш руководитель!
Хотела ещё добавить: «Дура!», но сдержалась. Всё же Лялька была, в сущности, неплохой девчонкой.
* * *
До дома вымотанный и мало что уже соображающий Сергей Фёдорович добрался лишь затемно. Хотел залечь спать сразу после институтского сборища, но пришлось топать в заводоуправление и проторчать там битых три часа. Вызвал Барышев – секретарша позвонила в деканат и собравшегося было уже восвояси Ванчукова, что называется, отловила: «Иди сюда!» А распоряжения Барышева на комбинате не обсуждали.
У главного в приёмной, как всегда, светопреставление. Входная дверь предбанника то и дело – хлоп, хлоп, хлоп… Хоть иногда и старались придержать, да где там… люди входят-выходят, в спешке, бегом; суета, толкотня. Когда беспокойная дверь кабинета приоткрывается, впуская-выпуская взмыленный народ, изнутри в предбанник следом за людьми вылетают, как с пожара, клубы вонючего папиросного дыма; невпопад звучат обрывки фраз, с хрипом выплёвываемых грубыми застуженными на сквозняках горячих цехов мужскими глотками, всегдашним фоном гудит незатейливый мат, скрипят двигаемые по полу стулья, позвякивают ложечки в чайных стаканах с подстаканниками. Это – кабинет главного инженера. Сейчас здесь совещание. Здесь – работают. Если здесь не будут орать, клясть друг друга на чём свет стоит, не будут тянуть из себя жилы, не будут жизнь класть ради плана каждый день – комбинат встанет. Здесь, за хлипкой, с расхлябанными петлями, грязным дерматином с ватином оббитой дверью, инженерный талант, матерная ругань и вера во что-то такое, чему нет имени и быть не может цены, переплавляются в невидимую глазу сталь. Ту самую, без которой настоящей стали не будет, не получится, не случится. Здесь на всех один бог – металл, и здесь – не до шуток.
– Чего там Олегыч? – тихо спросил у Зинаиды Ванчуков.
– Присаживайся пока, Серёжа. Не до тебя там, сам, что ли, не слышишь, – сочувственно улыбнувшись, тихо сказала секретарша Барышева. – Там надолго.
– Ага, – глядя в окно, рассеянно сказал Ванчуков. – Я отойду на лестницу покурить, ладно? Позовёшь, если что?
– Если что, позову. Только вряд ли быстро – ты там всю пачку смотри не скури.
«Всё-таки становой мужик наш Вяч Олегыч, – думал Ванчуков, вполглаза наблюдая за тем, как выпущенный им дым обтекает оконное стекло и сваливается вниз. – Откуда только силы на всё берёт, воевода? Зачем главному, головой и партбилетом ответственному за государственный план, ещё и рацпредложения с изобретениями? Придёшь – никогда не открещивается, во всё вникает, будто в сутках по сорок часов. У меня уже столько сил нет, а ведь он старше на десять лет. Спит – через раз – на диване в задней кабинетной каморке. Жена, вон, по утрам рубашки чистые глаженые завозит… Повезло мужику. Моя бы рубашки носить не стала. Как и передачи в тюрьму».
Ванчуков преувеличивал. Сил у него в тридцать девять, а скоро сорок, было предостаточно. И всю войну он точно так же, как Барышев, спал в цеху, на раскладушке, наведываясь домой раз в две недели. Потому что катать лобовую броню для наших танков мог только его стан, один на всю страну. Его цех, где он был сменным мастером. Теперь, конечно, другое время, авралы подзабылись. Но, в сущности, ничего же не изменилось. Металл нужен точно так же. И лобовая броня тоже – пусть даже машины сразу «с колёс» не уходят в бой. Это на улице – мир. А тут, за заводскими воротами, война не заканчивалась.
Из окна высокого третьего, последнего этажа заводоуправления ничего кроме комбината увидеть было нельзя. Для непосвящённого всё, что творилось за окном, представало хаосом. Опасным хаосом. Шум – гром – бух! – трах! Клубы серной тухлецой воняющего пара, столбы дыма; непрекращающаяся тошнящая сладковатая вонь аглофабрики; алчные сполохи багрянца в чревах гулких домн, протяжный сип мартенов; свистки маневровых «кукушек», тянущих упирающиеся хвосты покоцанных вагонеток по изъеденным рельсам на трухлявых шпалах; алчный лязг раскалённых прокатных станов; неотмываемая с торжественно-чеканных человеческих лиц жирная сажа; раскалённые хищные осы стальных искр, прогрызающие брезент роб; негнущиеся рукавицы, пудовые «пробивняки» в разбухших от натуги руках; острый, отрыжкой в нос отдающий вкус солёной газировки, наплёскиваемой ржавыми цеховыми водяными автоматами в обгрызенные мутные гранёные стаканы.
Хаос – для всех. Для всех, кроме тех, настоящих, для кого комбинат – и мать, и отец, и всё на свете. Ванчуков пришёл на завод в тысяча девятьсот тридцать первом. Было ему шестнадцать, комбинату – два. Строящийся днями и ночами без остановок комбинат не смог стать сыном Ванчукову: слишком мала разница в возрасте. Но комбинат уже родился его младшим братом. А братьям старшим судьбой положено отвечать за младших. Судьбой и жизнью. Так заведено.
Сам Сергей Фёдорович был рождён в начале тысяча девятьсот пятнадцатого года, в разгар Первой мировой, далеко от линии фронта – глубоко в ещё не успевшей как следует всполошиться Германии, в лагере для интернированных города Фрейбурга. Место своего рождения Сергей не выбирал. Его отец учился в университете на факультете горного дела, одном из лучших в Европе, собираясь стать горным инженером, но окончить не успел. Ему, русскому социал-демократу, выпускнику петербургского Пажеского корпуса, сыну генерал-губернатора одной из южных провинций и фрейлины двора Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской, сначала пришлось отсидеть год в местной тюрьме за членство в РСДРП и революционную агитацию среди туповатых немецких бюргеров. А вскоре после освобождения, впопыхах зачав близнецов, сына и дочь, бежать в Швейцарию, подальше от поднимавшего змеиную голову немецкого «орднунга» и перспективы лагеря, теперь уже не для перемещённых лиц, а самого настоящего концентрационного. Кто считает, что немецкие концлагеря – химера, рождённая Второй мировой, по незнанию ошибается. Всё имеет гораздо более глубокие корни.
- Изнанка
- Квартира № 41
- Промежуток
- Страшная Маша
- Кипиай
- Ошибка сказочника. Возвращение Бессмертного
- Счастье Кандида
- Срок для адвоката
- Хроники спекулянта. В поисках утраченного антиквариата
- Вечный эскорт
- Грустная песня про Ванчукова
- Папа
- Прощание с Гипербореей
- С катышками и без
- Мертвые видят день
- Великий Шёлковый путь. В тисках империи
- Возвращение блудного Покрышкина
- Изнанка
- Батарея, подъем
- Грот, или Мятежный мотогон
- Элвис жив
- Пираты Гибралтара
- Судный год
- Ошибка сказочника. Возвращение Бессмертного
- Обрывки газет
- Школа бизнеса в деревне Упекше
- Папа
- Спекулянт. Подлинные и занимательные истории продавца антиквариата
- Квартира № 41
- Путешественники
- Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного
- Думайте, что вы пьете
- Эксперимент. Код потери
- Страшная Маша
- Желтый ценник
- Приманка
- Грустная песня про Ванчукова
- Кипиай
- Подлинная история Любки Фейгельман
- Перестройка
- Счастье Кандида
- Сердце Демидина
- Тайна страны шедевров
- Хроники спекулянта. В поисках утраченного антиквариата
- Срок для адвоката
- Вечный эскорт
- Оскомина
- Пчела в цвете граната
- Ошибка сказочника. Школа Бессмертного
- Полет саранчи
- Стать нижней
- Прощание с Гипербореей
- Дневной поезд, или Все ангелы были людьми
- Укротившая драконов
- Записки домохозяйки
- Каин
- С катышками и без