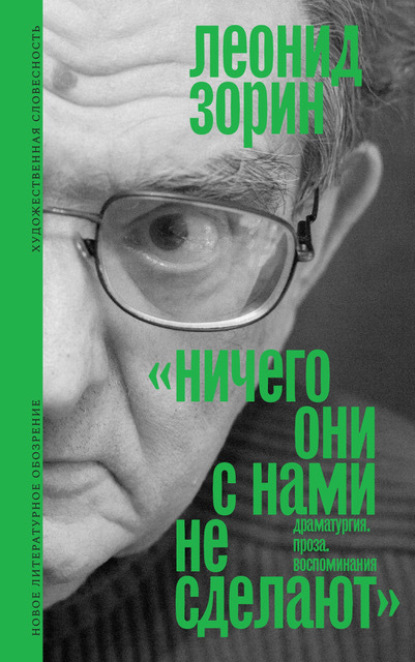000
ОтложитьЧитал
УДК 821.161.131
ББК 84(2Рос=Рус)644Зорин Л.Г.
З-86
Редактор серии – Д. Ларионов
Составление и вступительная статья А. Зорина
Леонид Зорин
«Ничего они с нами не сделают» (Драматургия. Проза. Воспоминания) / Леонид Зорин. – М.: Новое литературное обозрение, 2024.
В сборник выдающегося драматурга и прозаика Леонида Генриховича Зорина (1924–2020), приуроченный к 100-летию со дня его рождения, вошли пьесы, повести, рассказы и воспоминания, посвященные одной из центральных тем его творчества – отношениям художника и власти или, шире, литературы и политики. В книге отразилась эволюция взглядов писателя на свободу творчества с середины ХХ столетия до последних лет его долгого творческого пути. Вошедшие в том пьесы «Медная бабушка», «Пропавший сюжет», «Развязка» и другие Леонид Зорин считал своими главными произведениями. О драматических взаимоотношениях художника и власти автор размышляет и во включенных в книгу фрагментах своего мемуарного романа «Авансцена», рассказывающих о сложной театральной судьбе многих его пьес, а также о замечательных режиссерских и актерских работах А. Лобанова, Г. Товстоногова, О. Ефремова, С. Юрского, Р. Быкова и др., которым не суждено было дойти до зрителей.
В оформлении обложки использована фотография Фёдора Савинцева.
ISBN 978-5-4448-2470-2
© Л. Зорин, наследники, 2024
© А. Зорин, составление, вступительная статья, 2024
© Ф. Савинцев, фото на обложке, 2016
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
От составителя
Идея этой книги принадлежит Ирине Прохоровой, много сделавшей для публикации творческого наследия Леонида Зорина. Я благодарен ей за замысел и поддержку, а также благодарен Татьяне Геннадьевне Поспеловой и Наталье Елкиной за помощь в работе с архивом Л. Зорина, Григорию Зорину и Ольге Розенблюм за присылку необходимых материалов, Ирине Зориной и Евгению Шкловскому за помощь в подготовке рукописи.
Бо́льшая часть произведений, вошедших в этот том, печатается по прижизненным изданиям, подготовленным автором. Однако печатные тексты «Римской комедии» и особенно «Медной бабушки» сохранили ряд искажений цензурного характера, исправленных по беловым рукописям.
Андрей Зорин
Поэты и деспоты
В предлагаемый читателю сборник, выходящий к столетию со дня рождения Леонида Зорина, вошли произведения, посвященные отношениям писателей и власти или, говоря шире, искусства и политики. Проблема эта была для него центральной, и он возвращался к ней много раз. Две пьесы, ей посвященные: «Медную бабушку» и «Пропавший сюжет», он неизменно называл своими главными произведениями.
Политика вторглась в жизнь и творчество моего отца с самого начала его литературной работы, а сочинять свои первые стихи он начал исключительно рано, уже в четыре года. В резко идеологизированной атмосфере СССР времен становящегося тоталитаризма повседневность была перенасыщена политическими клише, неудивительно, что первые стихотворные опыты одержимого сочинительством мальчика добросовестно воспроизводили штампы, доносившиеся до него из всех углов.
Советская пропаганда того времени видела в раннем развитии одаренных детей проявление преимуществ социалистического строя – вундеркиндов так же, как и ударников труда, отыскивали и пестовали по всей стране. Юный поэт быстро стал достопримечательностью в своем родном Баку. В 1934 году, когда ему было девять лет, республиканское издательство Азербайджана «Азернешр» выпустило маленькую книжку его стихов с портретом на обложке, и почти сразу же его отправили в Москву встречаться с Горьким, который написал о юном визитере очерк «Мальчик», открывающий напечатанный в том же году в газете «Правда» цикл с характерным названием «Советские дети».
Как вспоминал Горький, он спросил у гостя, пишет ли он лирические стихи, на что тот решительно ответил: «Нет, политические. Но писал и лирику. Кажется, у меня в архиве сохранилось стихотворения два-три». По просьбе Горького «мальчик» прочитал ему поэму о Гитлере и Геббельсе, исполненную «горящей и кипящей смолой той именно человеческой ненависти, которая может быть вызвана только глубочайшей любовью к людям труда, к людям, погибающим под властью мерзавцев и убийц».
Много десятилетий спустя Натан Яковлевич Эйдельман научил меня и отца игре в «рукопожатия». Играющий должен был вычислить, сколько рукопожатий отделяют его от той или иной исторической личности или от современников, отделенных от него географическими, политическими и социальными барьерами. Даже не зная правил этой игры, собеседник Горького не мог не осознавать, что находится в одном рукопожатии от Толстого и Чехова, с одной стороны, и от Ленина и Сталина, с другой.
О странной близости между большими писателями и носителями государственной власти Леонид Зорин в последние годы жизни написал в автобиографической повести «Тайны молчания», где детские впечатления сплетаются с размышлениями старого человека о судьбах людей, которых он увидел в тот удивительный день. По дороге к Горькому он познакомился с Бабелем, которого государство уничтожило, как, вполне возможно, уничтожило оно и самого Горького. Разговоры на эту тему мне доводилось слышать дома. Моя мама, писавшая оставшуюся незаконченной диссертацию на тему «Горький и МХАТ», не сомневалась, что писатель был убит НКВД в преддверии готовившихся московских процессов. Насколько я помню, отец сохранял по этому поводу известную долю агностицизма, но и ему эта версия далеко не казалась невероятной. В «Тайнах молчания» он осторожно высказывает это предположение.
В очерке «Мальчик» Горький предупреждал советских детей и окружающих их взрослых об опасностях вундеркиндизма и напоминал, что преждевременное признание нередко калечит души и судьбы. Юному Леониду Зорину удалось выдержать испытание медными трубами, ставшее, вопреки заданной в поговорке последовательности, для него первым. Огню и воде было суждено прийти немного погодя.
Резко обозначившееся с юных лет признание влекло отца в Москву. В то же время мысль об отъезде давалась ему тяжело. Он любил Баку, чувствовал родство с этим городом, да и вообще с югом и южным образом жизни. Однажды он поделился своими сомнениями с классиком азербайджанской литературы Самедом Вургуном, пьесы которого переводил на русский язык. «Послушай, Леня, – ответил Вургун. – Если бы я жил в Евлахе, как ты думаешь, хотел ли бы я переехать в Баку?» В 1948 году, на фоне уже начавшейся кампании против «безродных космополитов», безвестный двадцатичетырехлетний бакинский литератор отправился покорять столицу империи. Я не знаю, рассказывал ли Вургун своему переводчику о своей дружбе с первым секретарем ЦК компартии Азербайджана и бывшим чекистом Мир Джафаром Багировым. В любом случае смерть Вургуна в мае 1956 года, на следующий день после того, как был расстрелян Багиров, дала отцу еще один повод задуматься о природе связи между писателем и властителем. К тому времени ему самому уже довелось испытать ледяное дыхание государства.
История публикации, постановки и запрета пьесы «Гости» стала ключевым событием, определившим жизнь Зорина. В 1953 году, через несколько месяцев после смерти Сталина, он взялся за пьесу, где предвосхитил многие тенденции едва начавшейся оттепели. В духе декларированного позднее «возвращения к ленинским нормам» здесь лицом к лицу сведены старый большевик, бывший чекист Алексей Петрович Кирпичев и его сын Петр, крупный сановник, демагог и карьерист, приехавший с семьей навестить отца на даче. Судьями в этом конфликте отцов и детей призваны выступить внуки, но и среди них нет единства – старший, Сергей, живет с дедом и полностью разделяет его ценности, в то время как младший, Тёма, уже нравственно разложен материальными благами, достающимися ему в силу номенклатурного статуса Петра.
В финале пьесы внутрисемейный конфликт приобретает черты классической трагедии – обе стороны объявляют друг другу войну на уничтожение, исход которой поначалу вовсе не кажется предопределенным. На сцене «хозяева» преобладают над «гостями», которые вынуждены позорно ретироваться, но этот численный перевес оказывается во многом уравновешен внесценическими персонажами – сослуживцами и подчиненными Петра Кирпичева, высокопоставленными родителями приятелей Тёмы и т. п. Их незримое присутствие дает понять, что за спиной неудачливых визитеров стоят Москва и могучий государственный аппарат. Только в заключительной реплике, подобно королю в мольеровском «Тартюфе» или чиновнику по особым поручениям в «Ревизоре», появляется deus ex machina – большая статья в «Правде», расставляющая добро и зло по своим местам.
Тема «Гостей» – перерождение высшего слоя государственной бюрократии. Автор интерпретирует это перерождение как классовое – о «классовом» чувстве по отношению к зарвавшейся семье Петра Кирпичева говорит его сестра Варвара, и она же формулирует сущность этого чувства восклицанием: «Господи, до чего ненавижу буржуев!» Позднее, когда по Би-би-си читали книгу Милована Джиласа «Новый класс», основу которой составили статьи, написанные буквально в те же месяцы, что и «Гости», отец поражался, насколько джиласовский анализ эволюции партийно-бюрократической верхушки коммунистического общества отвечал его собственным ощущениям.
М. Джилас был крупным государственным деятелем социалистической Югославии. Его статьи о новом классе публиковались в газете «Борба» – югославском аналоге «Правды». Впоследствии, однако, он был изгнан со всех должностей и арестован – понятно, что эти зигзаги были вызваны колебаниями в политике руководства югославской компартии. Скорее всего, сходные процессы определили и судьбу «Гостей». Пьеса получила цензурное разрешение, в феврале 1954 года она была напечатана в журнале «Театр» и одобрена таким статусным писателем, как Константин Симонов. «Гостей» начали ставить театры, изголодавшиеся за «мрачное семилетие» конца сталинской эпохи по насыщенной конфликтами драматургии, на пьесу горячо реагировали первые зрители и читатели. Через несколько месяцев ситуация изменилась резко и катастрофически.
Лучшая постановка «Гостей», осуществленная в московском театре имени Ермоловой замечательным режиссером Андреем Михайловичем Лобановым, была снята со сцены сразу после премьеры, а против автора пьесы была поднята продолжавшаяся несколько лет кампания травли. По «Гостям» ударили в официальных изданиях, начиная с «Советской культуры», органа Министерства культуры СССР, ее осуждали на собраниях. «Об одной фальшивой пьесе», как называлась редакционная статья в «Литературной газете», читали лекции в трудовых коллективах и домах отдыха. Одна из таких лекций состоялась в больнице, где отец лежал после очередной операции на легких. Вскоре после начала кампании и запрета спектакля у него пошла горлом кровь, открылся туберкулез, и несколько лет он провел между жизнью и смертью. Ни сам он, ни его врачи, ни родные и друзья не поверили бы, если бы им сказали, что ему суждено прожить долгую жизнь и пережить подавляющее большинство ровесников.
Обличения зарвавшихся бюрократов не были в советской литературе чем-то из ряда вон выходящим. Положительный герой «Гостей» журналист Трубин объясняет перерождение Петра Кирпичева «пошлостью, жадностью, славолюбием», то есть, в конечном счете, его личными пороками. Однако Варвара Кирпичева идет дальше. «Есть одно короткое слово – власть», – говорит она, ясно связывая моральную деградацию брата с его служебным положением. «Власть портит не всех – взгляните на своего отца. Впрочем, примеров много…» – возражает Трубин. Несмотря на эту оговорку, официальные инстанции без труда сумели сделать из реплики Варвары напрашивающийся вывод: «Как будто руководители, облеченные в нашей, самой демократической в мире стране доверием трудящихся и являющиеся слугами народа, портятся именно потому, что они – руководители… Мысль политически вредная, глубоко порочная», – говорилось в передовице «Литературной газеты».
«Гости» еще были исполнены верой в социалистический строй и идеалы революции. Когда, уже в годы перестройки, Владимир Андреев, игравший в лобановском спектакле, решил вернуть пьесу на сцену, Зорин отредактировал ее, устранив то, что казалось ему слишком советским. Эта исправленная версия вошла в состав трехтомника оттепельной литературы, подготовленного С. И. Чуприниным. Цеховое чувство историка литературы побудило меня тогда посетовать, что в книгу, призванную отразить облик эпохи, попал текст, переделанный задним числом. «Когда меня не будет, печатай, как хочешь, – отозвался отец, – но я выпускать это под своим именем не могу». Сегодня мне кажется своевременным воспользоваться этим разрешением не только потому, что редакция 1954 года представляет интерес как исторический документ. При переделке вместе с простодушием и прямолинейностью из пьесы ушел запал, позволяющий вполне оценить остроту вызова системе, брошенного молодым автором.
Отцу потребовалось десять лет выздоровления от страшной болезни и мучительного возвращения в литературу, чтобы попытаться облечь опыт столкновения с державой в сценическую форму. Если «Гостей» он написал на заре оттепели, то «Римская комедия» была создана на ее закате в 1964 году, когда оттепельные иллюзии уже начали выветриваться. Действие здесь перенесено в квазиисторический Рим первого века не для того, чтобы завуалировать вполне очевидный актуальный подтекст, тем более что говорят герои пьесы вполне современным языком. Скорее, автор стремился «укрупнить» проблематику комедии, придав истории отношений поэта и императора универсальное звучание.
В «Римской комедии» ссыльный сатирик Дион, пострадавший за наивную попытку открыть Цезарю глаза на положение дел в стране, укрывает у себя прячущегося от мятежников императора Домициана, чьи приближенные, включая придворного одописца Сервилия, спешат присягнуть лидерам мятежа. Казалось бы, после этого Домициан должен понять, на кого из его подданных он мог бы опереться. Однако, вернувшись на престол, он вновь отправляет спасшего его поэта в изгнание и награждает льстеца и проходимца.
«Само собой, я его презираю и, наоборот, как это ни глупо, уважаю тебя. Но зато этот прохвост, в свою очередь, уважает начальство, чего о тебе уж никак не скажешь. В этом его преимущество перед тобой. <…> Если хочешь, его измена была доказательством его благонамеренности, его предательство – залог его верности мне. Разумеется, только покуда я император, но если я перестану им быть, то, сам посуди, на что мне Сервилий?» – объясняет Домициан свое решение Диону. И поэт, и тиран отчетливо осознают, что им не по пути. Логика власти заставляет Домициана изгнать Диона, которому остается уповать только на суд истории и вечность искусства. Эту надежду в ту пору разделял и автор «Римской комедии», что позволило ему завершить пьесу оптимистическим финалом. У гонимого поэта объявляется ученик и последователь, решающийся сопровождать его в изгнание. «В добрый путь, мальчик! Ничего они с нами не сделают», – говорит ему Дион, покидая дворец. Спутником изгнанника оказывается Децим Юний Ювенал, в будущем величайший римский сатирик, чего, конечно, в отличие от зрителей и читателей комедии, ни поэт, ни император, знать не могут.
Историческому прототипу героя комедии – философу Диону Хризостому, или Диону из Прусы, было суждено восторжествовать над гонителем еще при жизни. После того как Домициан был убит заговорщиками, Диона вернули из ссылки, и он дожил в Риме до глубокой старости, окруженный почетом. Впрочем, это не имеет особого значения – «Римская комедия» ни в коей мере не историческая пьеса. В первоначальной редакции автор предпослал ей краткое предуведомление, в котором заверял, что «стремился стоять на твердой почве истории», но потом вычеркнул его. Как некогда выразился Пушкин, «спрятать уши под колпак юродивого» было невозможно, аллюзионный фон комедии просвечивал сквозь римские одеяния персонажей.
Действительность к тому же подбрасывала дополнительные параллели. В конце 1965 года генеральным секретарем Коммунистической партии стал Леонид Брежнев, характерной деталью внешности которого были густые брови. В «Римской комедии» упоминались «брови» мятежника Луция Антония. Разумеется, отец не думал о будущем генсеке, когда писал пьесу, но тем не менее «брови» пришлось заменить на «губы» из цензурных соображений. В 1967‑м, после выигранной Израилем «шестидневной войны», в СССР началась очередная антисионистская, а точней говоря, антисемитская кампания, что вызвало особое внимание цензуры к репликам вольноотпущенника Бен Захарии. Наконец, в 1968‑м войска стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом были введены в Чехословакию, чтобы сместить реформистское правительство страны. Официально было объявлено, что оккупационный контингент останется в Чехословакии «до стабилизации положения». Именно эту формулу использует в «Римской комедии» Сервилий, объясняя Диону, почему в Рим вместе с Луцием должны прийти варвары. Поэтика комедии словно притягивала аллюзии.
Через три месяца после вторжения в Чехословакию умер Рубен Симонов, добившийся разрешения играть пьесу на сцене театра Вахтангова, и очень скоро она была окончательно запрещена. На вахтанговской сцене спектакль шел под названием «Дион» – после скандала, последовавшего за премьерой в Большом драматическом театре в Ленинграде, «Римскую комедию» пришлось переименовать. Блистательная постановка Георгия Товстоногова, собравшая звездный актерский состав, имела феноменальный успех. Как мне рассказывал отец, на премьере была Ахматова, сразу после закрытия занавеса сказавшая сопровождавшему ее театроведу Борису Поюровскому: «Спектакль не выйдет». «Почему? – удивился Поюровский. – Вы же видите, как принимают». «А вот поэтому и не выйдет», – ответила Ахматова. Как и в случае с лобановскими «Гостями», дело ограничилось единственным исполнением. Лучшие постановки пьес Зорина фатально не доходили до зрителя.
Не менее глубокой раной стало для отца и последовавшее через несколько лет запрещение его следующей пьесы, посвященной отношениям поэта и государства, – «Медной бабушки», поставленной Олегом Ефремовым в Художественном театре с Роланом Быковым в роли Пушкина. На этот раз власти предусмотрительно не довели дело до премьеры, состоялся лишь прогон без зрителей. В отличие от спектаклей, отшлифованных Лобановым и Товстоноговым, эта работа была еще сырой, но тоже обещала стать крупным событием – особенно сильное впечатление производил сам Быков в главной роли.
О театральной истории и «Гостей», и «Римской комедии», и «Медной бабушки» подробно рассказано в «мемуарном романе» «Авансцена». Отец вспоминает там, что придавал своей пьесе о Пушкине такое значение, что берег специально для этой премьеры уникальный херес шестидесятилетней выдержки, подаренный ему крымскими виноделами. В конце концов бутыль распечатали – героическими усилиями Ефремов сумел пробить спектакль, в котором сыграл Пушкина сам. Увы, и новая постановка скорей не удалась, и вино оказалось безнадежно испорченным, выяснилось, что для длительного хранения ему требовались особые условия, которых в нашей квартире, конечно, не было. В «Авансцене» об этом ничего не говорится – то ли отец не хотел обижать много сделавшего для него Ефремова непредусмотренной, но неизбежной символикой запоздавшего праздника, то ли просто забыл.
Авторов, обращавшихся к биографии Пушкина, часто привлекала дуэльная история. В центре «Медной бабушки» – неудавшаяся попытка поэта выйти в отставку и переехать в деревню летом 1834 года – возможно, его последний шанс выбраться из все туже стягивавшегося вокруг него узла. Решение разрубить этот узел, предпринятое поэтом два с половиной года спустя, привело его к гибели. Если Дион был изгнан из Рима, то Пушкин сам рвался прочь из Петербурга. Он хотел оставить оскорбительную для него должность камер-юнкера, привести в порядок расстроенные денежные обстоятельства, а главное, вернуть себе способность писать – все лето он тяготился охватившим его творческим бесплодием. К тому же именно в эти месяцы поэт тщетно пытался продать доставшуюся ему в приданое за женой медную статую Екатерины II, которую был вынужден перевозить с квартиры на квартиру. Этот образ державной власти, неотступно преследующий Пушкина, и дал пьесе ее название.
Вскоре после казни декабристов друг Пушкина Петр Вяземский занес в свою записную книжку высказывание французского короля Генриха IV: «счастлив, кто имеет десять тысяч ливров годового дохода и никогда не видал короля». В «Медной бабушке» Вяземский повторяет эти слова со сцены. «Как раз про меня», – отзывается Пушкин, постоянно страдавший от безденежья и измученный двусмысленными отношениями с Николаем I, начавшимися со знаменитой аудиенции в Чудовом монастыре в 1826 году. Как известно, привезенный тогда с фельдъегерем из Михайловского поэт сказал самодержцу, что будь он 14 декабря в Петербурге, то находился бы среди своих друзей на Сенатской площади.
В «Медной бабушке» Пушкин и Николай не появляются вместе на сцене, но оба делятся воспоминаниями о давней встрече в разговорах с Жуковским. Императору более всего запомнилась даже не открытая фронда его собеседника, а нарушение субординации – в ходе разговора поэт присел на стол, стоявший в кабинете за его спиной. Для Пушкина же, наоборот, первая встреча с царем становится лучшим воспоминанием жизни – тогда он ощущал себя свободным человеком, а потом, после объявленной ему высочайшей милости, попал в удушающие объятия государства, высвободиться из которых ему так и не удалось. Особые отношения, обещанные Николаем, пожелавшим стать личным цензором Пушкина, обернулись для поэта унизительной зависимостью и в конечном счете гибелью.
И все же, как говорится в «Медной бабушке», Пушкин решил взять назад прошение об отставке не только потому, что опасался вызвать гнев двора. Более важным мотивом была для него возможность сохранить доступ в государственные архивы, необходимый ему для продолжения работы над историей царствования Петра I. Получив вслед за Карамзиным, во многом служившим для него образцом, должность придворного историографа, Пушкин чувствовал, что призван постигнуть и описать центральный эпизод русской истории, перед которым остановился его предшественник. Держава удерживала его при себе не только административным принуждением, но и историософской загадкой, манившей его не меньше, чем воспетые им «покой и воля».
В отличие от Пушкина, герой последней исторической пьесы Зорина «Граф Алексей Константинович» уже ничего не ждал от государства, несмотря на то что (или, возможно, потому что) вырос практически при дворе и был другом детства наследника престола, будущего императора Александра II. Отец был фанатом Алексея Толстого, причем особенно ценил у него не исторические романы и драмы и даже не лирику и баллады, а юмористическую поэзию и водевили. Эту страсть он с самого детства прививал мне: за столом мы перекидывались репликами из прутковских фарсов, прочитанная им мне «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» была моим введением в русскую историю, а «Сон Попова» я уже без малого шестьдесят лет помню наизусть от начала до конца.
Только прочитав «Графа Алексея Константиновича», я вполне понял, чем характер Алексея Толстого так привлек отца. Аристократ, богач, красавец и богатырь, наделенный к тому же совершенно феерическим чувством юмора, Толстой оказывается в пьесе бесконечно ранимым, одиноким и неуверенным в себе человеком, болезненно нуждающимся в признании, понимании и сочувствии. Прожив всю жизнь с единственной женщиной, которую он любил, Толстой чувствовал себя несчастным в браке, а будучи автором множества произведений, пользовавшихся незаурядным успехом, всегда сомневался в своем литературном призвании.
Поначалу отец задумывал пьесу как диалог, в котором участвовали бы только сам Толстой и его возлюбленная, а потом жена – Софья Андреевна Миллер. После мирового успеха «Варшавской мелодии» он вполне оценил потенциал драматического дуэта. Тем не менее потом он отошел от этого замысла и написал своего рода историческую панораму с двумя десятками персонажей, большинство из которых появляются на сцене один-два раза, хотя и отдавал себе отчет, что делает шансы своего детища на сценическое воплощение вполне призрачными. Такого рода костюмная пьеса была практически неподъемной для театров, тем более что в начале 1990‑х годов, когда была написана пьеса, государственное финансирование культуры резко сократилось.
Как в пьесе о Пушкине, Зорину казалось важным выйти за пределы семейной трагедии, так в «Графе Алексее Константиновиче» он хотел показать своего героя в контексте конфликтов его эпохи, объяснить, почему, не веря в Крымскую войну, он собирался снарядить ополчение, почему, осуждая радикалов, пытался спасти Чернышевского от ареста и, будучи искренне преданным императору Александру, в 1861 году, в кульминационный момент реформ, когда царю были особенно нужны сподвижники, покинул службу и ушел в отставку с сулившей карьеру и влияние на государственные дела должности флигель-адъютанта. Личное одиночество Толстого усиливалось политическим – в обществе, резко разделенном на партии, он не мог примкнуть ни к одной из них. Из «серьезных» стихов Алексея Толстого отец чаще всего читал мне «Двух станов не боец, но только гость случайный».
Решение написать «Графа Алексея Константиновича» как пьесу для чтения – свидетельствовало также о падении интереса отца к театру. Для него всегда было не менее важно увидеть свои пьесы напечатанными, чем поставленными, но именно в это время он все больше переходит на прозу, решительно предпочитая уединенную работу над словом и уединенное восприятие литературного текста.
Несколькими годами раньше отец написал пьесу «Пропавший сюжет». Этой пьесой он особенно гордился и склонен был ставить ее выше даже особенно дорогой ему «Медной бабушки». Начата она была, как рассказано в «Авансцене», буквально в день прихода к власти Горбачева.
«Пропавший сюжет» – тоже историческая пьеса, ее действие происходит в Одессе в 1906 году во время первой русской революции, а ее герой Андрей Николаевич Дорогин – писатель, полностью вымышленный и не особо знаменитый, зарабатывающий на жизнь юмористическими рассказами в популярных изданиях. Именно ему, в большей степени, чем Диону, Пушкину или Алексею Толстому, доверено стать alter ego драматурга и высказать его заветные мысли.
По воле автора, Дорогин должен делиться этими мыслями с неожиданно появившейся в его доме юной террористкой, готовящейся к покушению на сановника средней руки, выносящего палаческие приговоры невинным людям. Сам Дорогин не только «двух станов не боец», но даже и не «гость случайный», ему одинакова чужды и власть, и одержимые борцы с нею, но удержать от безумного шага свою гостью, с которой у него вспыхивает обреченный, но бурный роман, он, несмотря на все свое красноречие, оказывается не в силах.
Скептическое отношение к революционизму было свойственно отцу и раньше. Если власть уничтожает в человеке человеческое, то тот же эффект имеет и борьба за власть, обнаруживающая внутреннее родство противостоящих друг другу «станов». Еще в середине 1960‑х годов Зорин написал пьесу «Декабристы», в которой он очень далек от распространенной в ту пору идеализации героев-мучеников 14 декабря. В «Графе Алексее Константиновиче» его эскапизм проявился еще отчетливей. В «Пропавшем сюжете» и ставшей его продолжением пьесе «Развязка», где герои встречаются еще раз в 1918 году, эти настроения достигают апофеоза.
И «Пропавший сюжет», и «Развязка», в отличие от «Графа Алексея Константиновича», написаны на двух актеров и насыщены драматическими поворотами. Тем не менее сценическая судьба дилогии сложилась не слишком успешно, хотя Владимир Андреев и поставил «Пропавший сюжет» на малой сцене театра имени Ермоловой. В годы перестройки и последовавших за нею реформ и политических боев взгляды и автора, и героя обеих пьес были не ко двору.
Я хорошо помню наши разговоры тех лет. В повседневной жизни отец сохранил свой давний интерес к политике, прочитывал ворох газет, смотрел популярные телепередачи, следил за ходом событий и сочувствовал сначала Горбачеву, а потом Гайдару. Главным в наступивших переменах для него была свобода печати, позволившая издать все, что десятилетиями лежало в столе, и свободно публиковать новые произведения. Он никогда не жаловался на резкое ухудшение своего материального статуса, пришедшее вместе с реформами, или падение общественного интереса к словесности, повторяя: единственное, что должно быть важно для писателя, – это отсутствие цензуры.
В то же время в творчестве он становился все непримиримее ко всему, что отдавало политикой: идеологической нетерпимости, публичным выступлениям и общественным акциям, набирающим силу партийным проектам и выборным кампаниям. Он желал успеха своей стране и тем, кто пытался ее улучшить, но, кажется, очень мало верил в этот успех и категорически отказывался принимать какое-либо участие в общественной деятельности, увлекавшей в ту пору многих его коллег.
В годы перестройки довольно широкое распространение получила сентенция: «Если ты не будешь заниматься политикой, она займется тобой». Исходно эта мысль принадлежит французскому мыслителю, журналисту и государственному деятелю XIX века Шарлю Монталамберу, который, однако, высказал ее в настоящем времени. В переводе печальная констатация факта превратилась в этическую максиму. Отец вряд ли знал источник цитаты, но в своей повести «Забвение» заставил своего героя-эскаписта отозваться на ее популярную русскую версию гневной тирадой:
«И дьявол с ней!.. – Пусть эта стерва мной занимается, если ей нечего больше делать и некем заняться, кроме меня. Значит, фатально не повезло. Быть посему. Не пофартило. Я заниматься ею не буду. Этого от меня не дождутся».
Тем не менее он продолжал размышлять о роковой природе связи, существующей между литературой и политикой. Разумеется, для человека, прожившего свою жизнь в СССР, тайна завороженности великих писателей государственной властью была, прежде всего, связана с личностью Сталина. Отец думал о Горьком и Бабеле, которых встретил в один из самых памятных дней своей жизни, о Булгакове и Пастернаке, которым Сталин звонил по телефону, о Мандельштаме, садистически растянутое убийство которого вождь курировал лично, доведя поэта, написавшего строку «власть отвратительна как руки брадобрея», до почти искренних славословий своему губителю. Не в меньшей степени он думал о самом вожде и его странном внимании к литературе, принесшем ей столько несчастий.
- Аппендикс
- Целый год. Мой календарь
- Предатель ада (сборник)
- Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы
- Правила философа Якова
- Стихотворения, красивые в профиль. Избранное
- Белый верх – темный низ
- Наши тени так длинны
- Поднебесный Экспресс
- Нью-йоркский обход
- Показания поэтов. Повести, рассказы, эссе, заметки
- Десятый десяток. Проза 2016–2020
- Ничего они с нами не сделают. Драматургия. Проза. Воспоминания