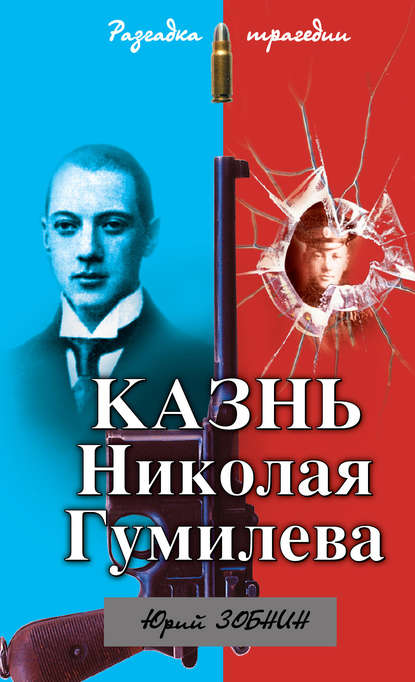Майклу, Маргарите, Алеше, Алене, Антону
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
Редьярд Киплинг
Вместо предисловия
В раннее утро 25 августа 1921 года перелесок на краю Ржевского полигона близ Бернгардовки был необычно и страшно оживлен. Круглую поляну на откосе окружала цепочка вооруженных солдат, электрические фонари освещали топкую низину прямо под крутым изгибом реки Лубьи. Рядом с вывороченными вверх мощными корнями завалившегося дерева чернели два свежевыкопанных рва. Темные фигуры в грубых грузных шинелях вытягивали из дверей заброшенного порохового склада причудливо одетых людей, мужчин и женщин – в исподнем, халатах, «толстовках», изодранных полевых гимнастерках без погон, – и гнали затем кулаками и штыками к ямам. Двое конвоиров вывели человека в измятом черном костюме без галстука и, придерживая его руками за локти, отвели к самому краю нелепого строя, выставленного прямо перед темнеющими в рассветной голубизне неба сосновыми корнями. Человек медленно оглянулся и, не торопясь, сонным движением потянув из кармана пиджака папиросу, закурил.
Внезапно беготня людей в шинелях оборвалась: на лесной дороге появился черный лимузин. Еще до того, как машина, буксуя и скрипя, застыла, из открытого кузова, спотыкаясь, выскочил молодой военный в щегольской форме, пробежал несколько шагов и крикнул;
– Поэт Гумилев, выйти из строя!
Человек в черном оживился и, как бы не замечая застывших сзади конвоиров, сделал шаг вперед.
– А они? – и спокойным плавным жестом левой руки он указал на двигающуюся и… тихо воющую за его спиной шеренгу.
А молодой военный щеголь крикнул:
– Николай Степанович, не валяйте дурака!
Человек в черном вдруг улыбнулся, бросил недокуренную папиросу под ноги и аккуратно затушил носком ботинка. Затем, так же не торопясь, стал в строй у ямы и звонким, громким голосом произнес:
– Здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев!
И тогда раздался залп…
* * *
Это – легенда.
Документально подтвержденных свидетельств о последних минутах жизни Николая Гумилева нет, но Анна Ахматова и первый биограф поэта П. Н. Лукницкий уверенно называли местом казни и захоронения всех расстрелянных в августе 1921 года по делу «Петроградской боевой организации» (ПБО), – окраину Ржевского полигона.
– Я про Колю знаю, – рассказывала Ахматова Л. К. Чуковской в 1962 году. – Их расстреляли близ Бернгардовки, по Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь – следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на 60 человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: «Другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю»[1].
Ахматова побывала на Ржевском полигоне дважды – в 1930 и 1941 годах. С ее слов П. Н. Лукницкий составил план[2], который спустя полвека использовали поисковики группы «Мемориал», установившие место погребения великого поэта России. «…Точка, которую Лукницкий обозначил как место расстрела и захоронения Н. С. Гумилева, достаточно точно может быть нанесена на карту Ржевского артиллерийского полигона. <…> Все пустые пространства и лужайки в настоящее время заросли смешанным лесом, а по тропе Лукницкого, идущей к реке, сегодня вообще проходит трасса газопровода. Тем не менее излучины реки в целом сохранили свои очертания, и прямой участок Лубьи сохранился (его конфигурация определена высоким берегом). Сама точка Лукницкого представляет собой низкую излучину, заросшую деревьями. И хотя размещение захоронения на низком берегу у самой воды, вообще говоря, вызывает сомнения, поднимающийся в десятке метров от края воды высокий покатый берег образует обычный расстрельный ландшафт, известный нам по другим регионам (предпочтение обычно отдавалось песчаным склонам, более удобным для выкапывания траншейных ям и для последующей их засыпки). Если же подняться на самый верх, то мы оказываемся на достаточно плоской вершине холма, по которой проходят неглубокие ложбины, а в 100–150 метрах западнее мы увидим сквозь деревья краснокирпичные стены порохового погреба, с обнаружения которого мы и начали наш поиск. И тут уместно добавить, что старый пороховой погреб хорошо известен среди местных жителей под необъяснимым, с их точки зрения, названием. Со слов своих отцов они называют это здание – тюрьма»[3].
Дурная слава окружала эти места задолго до августа 1921 года – с того момента, как после начала «красного террора» (5 сентября 1918 года) Петроградская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ввела в практику массовые расстрелы[4]. Речь тогда шла, прежде всего, о заложниках, случайно оказавшихся в заключении по самым разным причинам, от банальной спекуляции до некстати произнесенных неосторожных слов, и казнимых в целях устрашения и мести – за покушения на Ленина и Урицкого, за гибель К. Либкнехта и Р. Люксембург во время Берлинского восстания, за поражения Красной Армии на фронтах Гражданской войны и т. п.[5] Помимо правовой и морально-этической специфики, это коммунистическое новшество в отечественной практике исполнения наказаний имело и специфическую «техническую» сторону. Ведь в Российской империи даже в самое грозное время революционных волнений 1905–1907 годов и в годы Первой мировой войны смертная казнь была всегда мерой исключительной и, как правило, строго «индивидуальной». «Рассказ о семи повешенных» Л. Н. Андреева, потрясший в 1908 году российских читателей, рисует мыслимо возможную тогда массовую экзекуцию, подготовка к которой, как следует из самого рассказа, начинается более чем за месяц. В период междувластия 1917 – начала 1918 года по стране прокатилась волна массовых расправ и погромов, но тут действовала слепая ярость неуправляемой, мятежной толпы.
«Красный террор» поставил перед сотрудниками ВЧК невиданную до того в России задачу уничтожения заключенных, поставленного «на поток». Так, в том же Петрограде за один 1918 год чекистам нужно было умертвить минимум 1169 человек (по официальной статистике)[6]. Это требовало новой методики исполнения смертных приговоров.
С начала «красного террора» массовые расстрелы проходили по ночам в подвалах и внутренних дворах городских мест заключения, в том числе – в Петропавловской крепости[7]. Однако уже тогда, для особых случаев, стали появляться и загородные «спецучастки», служившие одновременно местом казни и конспиративным могильником. Одним из первых подобных «спецучастков» в истории Советской России и стал примыкающий к Рябовскому шоссе дальний угол Ржевского полигона, между станциями Ковалево и Приютино тогдашней Ириновской железной дороги (ныне включенной в систему Финляндской железной дороги и существенно перестроенной). Это было пустынное мелколесье, отделенное от самого́ полигона рекой Лубьей, где находился выстроенный еще в XIX столетии двухэтажный пороховой погреб, обнесенный с трех сторон огромным земляным валом (на случай взрыва хранившихся боеприпасов). К погребу была проложена грунтовая подъездная дорога, а на въезде располагалось караульное помещение. К концу 1910-х годов пороховой погреб, караулка и прилегающая к ним пустошь были заброшены. Для тайных чекистских гекатомб это было идеальное место, расположенное относительно недалеко от города, но совершенно безлюдное, находящееся в охраняемой военной зоне, но отчужденное от нее и, главное, имеющее укрытое от любых посторонних глаз и ушей сооружение, которое можно было использовать в случае особенно большого количества жертв.
«Неопубликованные разыскания краеведа В. Фудалея суммируют собранные им свидетельства старожилов Ковалева и Ржевки. По собранным В. Фудалеем свидетельствам, места расстрелов «были в оврагах и на болотах между Ковалево и Приютино». Заслуживает упоминания и свидетельство В. Т. Будько: «Говорили старики о пороховом погребе у Приютина, что он был накопителем, т. е. туда привезут, а потом выводят на расстрел. Так он стоит до сих пор, это точно. Но ввязываться я в это дело не хочу»[8]. В апреле – мае 1921 года где-то здесь, у станции Ковалево, расстреливали матросов – участников Кронштадтского мятежа (всего по этому делу было осуждено на смертную казнь 2103 человека)[9]. Что же касается расстрела 25 августа 1921 года, то С. П. Мельгунов, опираясь на свидетельство анонимного автора эсеровской газеты «Революционное дело», описывает происходившее так:
«Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской ж<елезной> д<ороги>. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться… Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей»[10].
О поведении Гумилева в эти последние, чудовищные минуты перед расстрельной ямой рассказывал в 1921 году в разговоре с М. Л. Лозинским поэт С. П. Бобров – «сноб, футурист и кокаинист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам», как характеризует его Г. В. Иванов, который и зафиксировал этот разговор в своих «Петербургских зимах»: «Да… Этот ваш Гумилев… Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу… Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодчество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж – свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны»[11].
Георгий Иванов – не самый достоверный мемуарист, однако нечто подобное упоминается в целом ряде других источников. Актриса Д. Ф. Слепян, например, пишет о своей встрече в театре «с бывшим старым чекистом <…>, который присутствовал при расстреле Гумилева. Он рассказывал, что был поражен его стойкостью до самого трагического конца»[12]. «В последний день, когда было назначено исполнение приговора, – рассказывал в 1923 году Л. В. Горнунгу осведомленный В. А. Павлов, также привлекавшийся по «делу ПБО», – арестованных вывезли далеко за город. Поэты, близкие Гумилеву <…> разыскали какого-то садовника, жившего недалеко от места расстрела, предположив, что он мог что-то видеть, и уговорили его рассказать о случившемся. По его словам, всю партию поставили в один ряд. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени, умоляли пьяных солдат. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно»[13].
Можно ли считать эти (и некоторые другие, подобные) свидетельства современников вполне достоверными? Нет, конечно. Ведь и сами мемуаристы не скрывают, что все сведения об августовском расстреле на Ржевке получены ими из анонимных «третьих рук» (от «ребят из особого отдела», «старого чекиста», «садовника, жившего поблизости» и т. п.). Важно другое: даже если речь идет только о циркулировавших по городу слухах или о дезинформации, запускаемой службой ВЧК в конспиративных целях, – само содержание подобной апокрифической гумилевской мартирологии в высшей степени показательно. Частный исторический факт гибели человека – факт трагический, ужасный, но все-таки являющийся сам по себе лишь скорбным эпизодом в бесчисленном ряду других таких же смертей в эпоху кровавой гражданской распри, – вдруг превратился в повод для создания великого мифа о смерти поэта. В этом мифе каждый из его вольных или невольных творцов, включая – хоть это и дико! – даже самих расстрельщиков-чекистов («свалял дурака, не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру – нам такие люди нужны!»), искал духовную опору, решающий нравственный аргумент в пользу добра, чести, личного мужества, благородства.
Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомством взвесится, кто сколько утаил.
Гумилев подарил России и миру не только свою жизнь, наполненную великой поэзией, любовью, путешествиями. Он сумел подарить людям – последним и, быть может, величайшим подарком – и свою смерть, именно такую, что ее образ мог стать затем синкретическим источником мифотворчества.
Это, впрочем, понимали уже ближайшие к августу 1921 года современники, причем – вне зависимости от того, по какую сторону возведенной 1917 годом исторической баррикады они стояли. «Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских поэтов-воинов, и он займет в ней по поэтической значительности далеко не последнее место, – писал по горячим следам событий один из идеологов белой эмиграции, философ и общественный деятель П. Б. Струве. – Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью – память о самых ужасных днях падения и мук России. То, что его казнили палачи России, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши души и в них лелеять»[14]. «Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией», – синхронно возражал / соглашался один из активных организаторов ранней советской литературы в Сибири, «партийный коммунист», по его собственной рекомендации, В. А. Итин[15]. А Максимилиан Волошин, в доме которого в годину лихолетья находили убежище «и красный вождь, и белый офицер», под впечатлением дошедших до Крыма скорбных вестей из Петрограда написал в январе 1922 года потрясающее стихотворение, как кажется, точнее всего передающее то, что творилось тогда в душах как «белых», так и «красных» читателей Гумилева:
Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца – Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не выберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
«На дне преисподней».
Нужно понимать: могила Гумилева так и не найдена и, по всей вероятности, не будет найдена никогда. Даже если «точка Лукницкого» истинно указывает место трагедии 1921 года, вряд ли кому-нибудь придет теперь в голову дикая мысль поднимать грунт над расстрельными ямами и особо извлекать останки поэта, перемешанные с останками других жертв и мучеников гражданского противостояния, в котором сам Гумилев свободно и по совести избрал свою участь:
Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право
Самому выбирать свою смерть.
Мы не знаем с документальной исторической достоверностью[16] не только подробности расстрела в Бернгардовке, но и то, был ли собственно сам расстрел как таковой (версий о месте и способах казни Гумилева и других участников «Петроградской боевой организации» до сих пор много).
Но на низкой, топкой пустоши в Бернгардовке, неподалеку от той лесной поляны, каждый год на протяжении многих десятилетий собираются люди.
И стоит там простой железный крест, сваренный из обрезков двух труб, и лежат вокруг небольшие валуны: символические надгробья поэтов, убитых и замученных в России.
Крест установлен теперь и на самой территории порохового погреба, стены которого с 25 августа 2001 года отмечены памятным знаком «жертвам красного террора». А на стволах и ветках ельника, выросшего на расстрельной пустоши, безвестные паломники год за годом крепят иконы, свечи, записки со стихами. В этом страшном, великом, таинственном и необыкновенном месте до сих пор с физической несомненностью ощущаешь духовную необходимость в неудержимом и непонятном стремлении живых к красноречивому безмолвию некрополей. Как некогда писал Пушкин:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Наверное, здесь будет создан когда-нибудь и традиционный, «архитектурный» мемориал, однако никакое гранитно-мраморное оформление ничего не убавит и не прибавит в метафизическом значении места, уже ставшего во мнении народном одним из самых величественных и грозных русских некрополей. И точно так, как и Святогорский монастырь, как и склеп в Тарханах, – Ржевский полигон уже утратил для своих паломников непосредственную связь с исторической конкретикой, перерос ее, стал чем-то большим, чем только «место расстрела и погребения Гумилева», «место воспоминания»…
Три таинственных кошмара преследуют духовное бытие любого причастника русской культуры, любого «русскоязычного», независимо от состава его биологических генов. Они влекут и мучают его, как мучила и влекла Эдипа загадка Сфинкса, которую зачем-то – пусть даже и ценой жизни! – нужно, необходимо разгадать.
Человек, распростертый в луже крови на девственно-белом снегу, в тридцатиградусный мороз.
Бумажный фунтик с вишнями, зажатый в мертвой руке.
И – эхо от выстрелов в душную и сырую августовскую ночь:
Когда упал на землю Гумилев
Она не взорвалась, не содрогнулась.
…Быть может, стайка серых соловьев
С ветвей зеленых яростно рванулась.
Но соловьям тогда был не сезон,
А с веток падать листья начинали.
Кто видел, как упал на землю он?
Те, кто стрелял… Они его не знали.
………………………………………
О нем немало горестных стихов,
Но – после гибели. При жизни – мало.
Россия ничего не понимала,
Когда упал на землю Гумилев.
Марина Левина.«Когда упал на землю Гумилев…»
I
В советский период истории России ХХ века трагический финал жизни Гумилева не был средоточием интересов его биографов. Излишнее любопытство здесь было чревато разнообразными неприятностями со стороны крепнущего советского коммунистического режима даже в 1920-е (сравнительно «вегетарианские», по выражению Ахматовой) годы.
Первый «архивариус» Гумилева П. Н. Лукницкий вполне сознательно акцентировал внимание в своей работе над «Трудами и днями» поэта на бытовом и эстетическом аспектах его творческой биографии, тщательно избегая идеологии и тем более политики. Его примеру следовали и продолжатели советской «гумилевианы»[17].
К осторожности в отношении обстоятельств гибели Гумилева, которому, по меткому выражению А. Чернова, «советская власть 70 лет не могла простить то, что она его расстреляла»[18], побуждали не только соображения личной безопасности. «Сам факт его участия в контрреволюционном заговоре оказался неожиданностью для многих современников, да и не только современников. Поверили не все. Но, тем не менее, Гумилев шестьдесят шесть лет официально считался контрреволюционером, и, как водится, такая оценка распространялась и на его стихи. Публикация стихов Гумилева была практически невозможна, и, чтобы отменить запрет, следовало снять с поэта обвинение в контрреволюционности»[19].
В. Сажин, обратившийся к истории ПБО в эпоху горбачевской «гласности», писал, что одна из главных причин фигуры умолчания, традиционно используемой мемуаристами и исследователями предшествующих советских десятилетий, коль скоро речь заходила о весне и лете 1921 года, – «подспудная борьба за возвращение Гумилева в литературу»: «В этих условиях раскрывать обстоятельства ареста и казни Гумилева считалось тактически неверным»[20]. Но и после того, как книги Гумилева в юбилейном 1986 году были возвращены в российский легальный читательский обиход, «антибольшевистский мотив» в биографии поэта, вероятно, по инерции достаточно долго игнорировался в отечественном литературоведении. «…Споры о степени серьезности или выдуманности «дела» Таганцева производят грустное впечатление. Люди, казалось бы, не консервативных взглядов с прежним маниакальным упрямством исходят из догмы, что «хороший человек» Гумилев не мог ни в какой форме бороться с «хорошей» революцией, и поэтому надо во что бы то ни стало… доказать, что он чист и не виновен перед властью большевиков»[21].
Между тем «Петроградская боевая организация, вошедшая в историю России как «таганцевский заговор», вовсе не являлась ни провокационной структурой, созданной ВЧК, ни, тем более, следственной химерой, «выбитой» чекистами из случайных, невинно арестованных «фигурантов». И то, и другое действительно имело место в практике советской тайной полиции. Так, например, в 1923–1924 годах для окончательной ликвидации зарубежной террористической группы Б. В. Савинкова (операция «Синдикат-2») в СССР было создано бутафорское «подполье» т. н. «либеральных демократов», эмиссары которого заманили на советскую территорию как Савинкова, так и многоопытного английского разведчика С. Рейли[22]. Что же касается фабрикации доказательств следователями НКВД в годы «ежовщины», то эта тема ныне изобильно отражена не только в специальной, но и в массовой художественной литературе. Однако прямые аналоги с ПБО тут могут лишь запутать читателей.
Характерно, что история «таганцевского заговора» сама по себе, в отличие от истории самого знаменитого заговорщика – Гумилева, никогда не попадала в СССР под цензурный запрет. О ликвидации ПБО весной – летом 1921 года писали в разное время в совершенно «открытых» источниках (хотя и не часто и, разумеется, без излишней детализации) видные советские историки, резонно полагая, что факт реальной борьбы с террористическими группами в один из самых напряженных моментов Гражданской войны никак не может скомпрометировать советскую власть ни в глазах современников, ни в глазах потомков. И действительно, исторический фон, на котором развивались события, предопределившие трагическую развязку земного пути Гумилева, заслуживает хотя бы краткого специального экскурса.
25 апреля 1920 года, в ходе продолжающегося с 1919 года советско-польского конфликта, польская армия, поддержанная интернированными в Польше русскими Добровольческими частями, по приказу маршала Польши Ю. Пилсудского начала наступление на Волынь и Подолию с целью разгрома 12-й и 14-й армий Юго-Западного фронта. В мае – июле на Украине и в Белоруссии шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная Армия сумела вытеснить противника на территорию Польши, освободив Киев и Минск, однако была остановлена на Висле, а затем разгромлена в результате блестяще проведенной Пилсудским Варшавско-Львовской операции.
Во время этой кампании на западе вновь сформированная в Крыму Русская армия под командованием П. Н. Врангеля 6–7 июня осуществила прорыв и заняла Северную Таврию, намереваясь пойти на соединение с Пилсудским с юга. Вероятность успеха подтверждал и вспыхнувший в августе 1920 года крестьянский мятеж в Тамбовской и Воронежской губерниях, переросший в полномасштабную крестьянскую войну под руководством А. С. Антонова. Однако Пилсудский, удовлетворенный результатами летнего наступления, заключил перемирие с РСФСР и Украиной, которое было подписано в Риге 12 октября 1920 года. После этого оставшийся в одиночестве Врангель был разгромлен в октябре – ноябре силами Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе. Единая партизанская армия Тамбовского края А. С. Антонова героически сражалась до мая 1921 года и была уничтожена войсками М. Н. Тухачевского в ходе грандиозной карательной операции с масштабным применением ядовитых газов и массовым взятием заложников (в концлагеря было заключено более 9 тысяч человек). Это были последние крупные сражения Гражданской войны в России.
Разумеется, что все эти месяцы с предельным напряжением работали и спецслужбы всех воюющих сторон – как «белой», так и «красной». Первую в конце 1920–1921 годов (время существования ПБО) представляли агенты сформированного П. Н. Врангелем в Париже «Союза освобождения России» (с 1924 года – «Российский общевоинский союз» (РОВС)), действовавшего автономного от него савинского конспиративного «Народного союза защиты родины и свободы» (НСЗРиС), центр которого находился в Варшаве, а также агентура внешних разведок Польши и ее союзниц – Великобритании и Франции. Таким образом, у советских чекистов начала 1920-х годов не было нужды в искусственном обострении внутренней ситуации в стране с помощью вымышленных вражеских подпольных структур: обстановка была и так напряжена до предела, и могущественные враги у РКП(б) в канун исторического Х съезда (8—16 марта), провозгласившего НЭП, существовали отнюдь не на бумаге.
Кульминацией «тайной войны» в этот период российского гражданского противостояния стало восстание моряков Балтийского флота, действительно поставившее под угрозу коммунистический режим в РСФСР (в случае успеха балтийские моряки, закрепившись в Петрограде, могли соединиться с действующей на Тамбовщине «зеленой» армией Антонова и идти на Москву).
Волнения в Кронштадте, где царил зимой 1921 года настоящий голод, начались 28 февраля 1921 года. 1 марта экипаж броненосца «Петропавловск» принял резолюцию с требованием переизбрания Советов («Советы без коммунистов»), свободы слова и печати, реформы в распределении пайков и т. д. и выдворил из города прибывшего из Москвы председателя Центрального исполнительного комитета съезда Советов М. И. Калинина. После этого ЦК РКП(б) принял резолюцию о наличии в гарнизоне Кронштадта «контрреволюционного заговора». В ответ на это на следующий день, 2 марта моряки создали Временный революционный комитет во главе с писарем «Петропавловска» С. М. Петриченко и обратились к петроградским рабочим с воззванием «покончить с режимом комиссаров».
5 марта на побережье Финского залива были выдвинуты карательные части во главе с М. Н. Тухачевским, который 8 марта попытался штурмовать крепость по льду. Эта атака была отбита восставшими, использовавшими артиллерию вмерзших в лед кораблей на кронштадтском рейде. В Петрограде известие о провале Тухачевского вызвало волнения на заводах (т. н. «волынки»). На открывшемся в тот же день в Москве X съезде РКП(б) сообщение о кронштадтской неудаче вызвало настоящую панику: было принято постановление о направлении военнообязанных делегатов съезда на поддержку Тухачевского. События в Кронштадте повлияли на молниеносное принятие съездом решения о переходе от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» (НЭП) и о проведении генеральной «чистки» партии.
16 марта X съезд завершил свою работу, а 17 марта Тухачевский начал второй штурм Кронштадта. После двухдневных ожесточенных боев 18 марта (в день возникновения в 1871 году Парижской коммуны, являвшийся в РСФСР государственным праздником) город был взят, и началась кровавая расправа с восставшими. Как уже говорилось, было расстреляно более 2000 человек, часть из них – на Ржевском полигоне. Тогда же в Петрограде и по всей России прокатилась первая волна массовых арестов эсеров, которые были признаны главной «политической базой» этого возмущения. Помимо того начались репрессии против военной, научной и творческой интеллигенции, сочувствовавшей восставшим. Вплоть до осени северо-западные районы РСФСР, включая Петроград, находились на особом положении, ибо со дня на день ожидалось вторжение белогвардейских формирований либо с территории Польши, либо из Прибалтики или Финляндии. «13 августа <1921 г.> в полномочное представительство ВЧК в Петроградском военном округе поступило распоряжение заместителя председателя ВЧК И. С. Уншлихта обеспечить мобилизацию коммунистов для усиления охраны Государственной границы на ближайшие две-три недели. 16 августа президиум ВЧК принял решение усилить пограничные особые отделения и довести численность погранвойск до штатного состава, обеспечив их обмундированием, пайками и т. д. 24 августа председатели ЧК пограничных губерний получили экстренную шифровку за подписью начальников секретно-оперативного и административного отделов ВЧК В. Р. Менжинского и Г. Г. Ягоды. В ней сообщалось, что, по данным ВЧК, на 25–28—30 августа намечалось крупномасштабное вторжение вооруженных отрядов через западную границу Республики. Направленным из Финляндии и Эстонии группам надлежало захватить узловые железнодорожные станции на линии Петроград – Дно – Витебск. Отряды с территории Латвии 28–30 августа занимали Псков. Формирования полковника С. Э. Павловского наносили удар в треугольнике Полоцк – Витебск – Смоленск. Части Н. Махно 28 августа планировали войти в Киев <…> Руководство ВЧК приказало образовать в губерниях, уездах и на железнодорожных станциях «чрезвычайные тройки», скрытно мобилизовать бойцов особого назначения, установить связь с воинскими подразделениями, контроль за коммуникациями и т. д. Указанные меры были приняты. Но сроки прошли, массового вторжения контрреволюционных сил не последовало. Поступила новая директива ВЧК: усиленную охрану ослабить, ибо ожидавшееся вторжение отложено на середину сентября за неподготовленностью»[23].
Все это следует учитывать тем современным биографам Гумилева, а также вузовским и школьным преподавателям, которые склонны видеть в ПБО несерьезную (а то и – «детскую») затею. История, как очень хочется надеяться, уже свершила свой «корректурный труд» в отношении событий без малого девяностолетней давности, и время для объективного и беспристрастного разговора явно настало. Поэтому, для того чтобы ясно представить себе обстоятельства гибели поэта, необходимо вместо общих сентиментальных сентенций сформулировать ясный ответ на три вопроса:
1. Что представлял собой тот заговор, который вошел в историю под условным названием «таганцевского»?
2. В чем заключалось участие в нем Гумилева?
3. Какова специфика юридического осмысления этой деятельности поэта – как в исторической ситуации начала 20-х годов, так и с современной точки зрения?