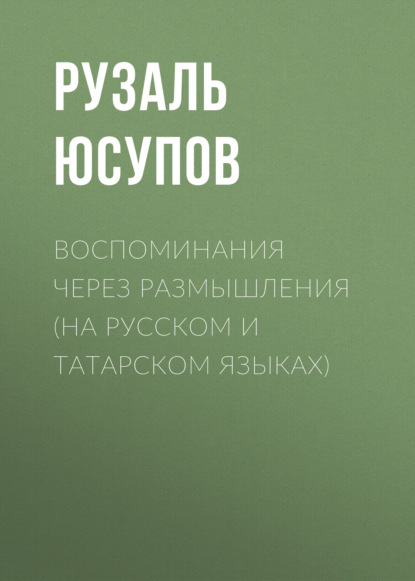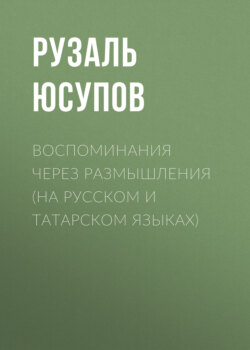
000
ОтложитьЧитал
Свою новую жизнь мне пришлось начинать с обустройства бытовых условий.
Мне выдали комнату в деревянном доме без всяких удобств, который исполнял функции общежития райпотребсоюза. Печь топилась дровами. Уже был сентябрь, повеяли холодные ветры. Я познакомился с татарином по имени Равиль, работавшим в райпотребсоюзе, который был старше меня. Он помог мне заготовить дрова. В тех краях лесов много. Прихватив пилу, мы отправлялись в лес, валили берёзу и распиливали её на части.
Тогда я впервые увидел, какими бывают комары в сибирских лесах, о которых раньше только слышал. Их было много, они были крупные и кровожадные. Пока я работал и мои руки были заняты, они в кровь кусали мне спину. И вот удивительно: Равиля они почти не трогали, наверно, признавали в нём «своего».
Привезённые брёвна мы нарубили на поленья. Таким образом, проблема с дровами была решена.
Встала необходимость раздобыть тёплую одежду. Было очевидно, что с моим старым костюмом и лёгкими ботинками мне долго не протянуть. Дни становились всё холоднее. Я решил купить пока самые дешёвые вещи – телогрейку и кирзовые сапоги. Но денег и на это не было: в Казани нам выдали денег немного, так, чтобы хватило лишь на дорогу, а здесь до зарплаты было ещё далеко. Кто-то предложил попросить у председателя райпотребсоюза Калугина аванс. Я так и сделал, но он отказал. Это был первый урок моей самостоятельной жизни: добро и зло ходят рядом, на свете есть хорошие люди и есть люди недобрые, жестокосердые, безжалостные. Разве на телогрейку и кирзовые сапоги понадобилось бы много денег?.. И что должен был делать приезжий молодой парень, у которого здесь никого не было?! За тот год с небольшим, что я работал там, мне не раз пришлось испытать на себе недоброжелательство и зловредность Калугина. А телогрейку и кирзачи я всё равно купил: главный бухгалтер как-то умудрился выдать мне аванс.
Мои должностные обязанности состояли в следующем: организовать приём по счёт-фактуре товара, поступающего в райпотребсоюз с межрайбазы на станции Шумиха, с базы в городе Кургане и от других поставщиков; составлять от имени комиссии акты о недостаче товара, указанного в документе, и отправлять на их основании претензии нерадивым поставщикам; списывать по акту испорченные или не соответствующие требованиям продукты со склада райпотребсоюза; составлять разнарядку для снабжения дефицитными товарами сельпо, относящиеся к райпотребсоюзу; время от времени навещать сельпо, проверять ход торговли; ездить на товарные базы и к товаропроизводителям в Шумиху и Курган за товаром, и ещё ряд разных дел.
Но я начал рассказывать, как налаживал свой быт. Продолжу.
Пустая комната. Мебели нет никакой. Нет ни кровати, ни постели. С первой зарплаты я купил недорогую железную кровать. Подушка у меня уже была – мама дала. Но нужно было ещё что-то подстелить под себя и чем-то накрываться.
На складе райпотребсоюза я углядел порванные матрас и одеяло. Составив акт и снизив на них цену, я их купил (новые-то стоили дорого, а у меня зарплата всего 600 рублей, у простого инженера она составляла, около 1000 рублей). Матрас и одеяло я зашил, и получилась вполне приличная постель.
Вот так началась моя жизнь в Усть-Уйском районе Курганской области. Прожил я там недолго, но прошёл жизненную школу, богатую событиями, научился преодолевать трудности, закалил характер.
Время от времени меня посылали за товаром на межрайонную базу в небольшой городок Шумиху, расположенный в 100 километрах от райцентра. Устроившись в конторе у постоянного экспедитора нашего райпотребсоюза Ивана Бабушкина (отчество забыл), я на протяжении нескольких дней (благо, в конторе было где ночевать) отправлял со складов базы в райпотребсоюз разные товары.
Бабушкин был очень интересным и своеобразным человеком. Крепкого телосложения, он ступал грузно, как медведь, говорил неспешно. У него было десять дочерей. Младшая училась в десятом классе. Мы с ней познакомились. Она была приветливая, ласковая, разговорчивая. К тому же, была красивая. Наверно, я тогда уже начал заглядываться на девушек. Она рассказала мне, что одна из её старших сестёр вышла за армянина, другая за еврея, третья ещё там за кого-то… Может быть, она хотела мне намекнуть, что в знакомстве с татарином не видит ничего предосудительного?.. Но мне тогда и в голову не приходило обсуждать такого рода отношения…
Так вот, отправка товара с этой Шумихинской базы была тяжёлой и опасной работой. Надо было сначала отыскать на станции порожний грузовик, отправляющийся в райцентр, уговорить шофёра, привести его на базу, с разных складов по счёт-фактуре получить товар, самому погрузить его (иногда из жалости некоторые шофёры помогали мне). Закончив грузить, надо было составить накладную, получить подпись шофёра, принявшего товар, и отправить один экземпляр вместе с ним. Доставив товар на базу райпотребсоюза, шофёр сдавал товар заведующему складом по накладной. Бывали дни, когда я отправлял с базы до десяти машин с товаром. Отправив в течение нескольких дней по заранее составленной счёт-фактуре весь товар, я возвращался в райпотребсоюз и сдавал по документам заведующему складом весь отправленный мной товар.
Однажды, отправляя с Шумихинской базы разные товары, я забыл вписать в накладную шесть ящиков кофе. Шофёр выгрузил на склад райпотребсоюза вместе со всем грузом эти шесть ящиков – он и не посмотрел, что в накладной их нет. Приехав, я начал проверять груз по счёт-фактуре, а завскладом Николай Васильевич начал отрицать, что принял у шофёра шесть ящиков кофе. Получалось, раз товар принимал я и подпись на счёт-фактуре моя, то и стоимость потерянного кофе в несколько тысяч рублей должен платить я. А я помнил даже то место в машине, куда поставил эти злополучные ящики. Несколько раз я просил заведующего: поищите, кофе здесь, он должен быть на продуктовом складе. Нет, отвечал он мне, в машине кофе не было… Отправившись в автохозяйство в деревню Половинное, я разыскал того шофёра. К счастью, оказалось, что он запомнил те ящики, сам их выгружал, а потому может подтвердить мою правоту заведующему складом и руководству райпотребсоюза. Я доложил об этом начальству и потребовал провести на складе инвентаризацию. Почувствовав, что дело принимает серьёзный оборот, на утро следующего дня завскладом выставил к моему приходу ящики с кофе. А мне объяснил, что их привёз накануне вечером тот шофёр. Таким образом заведующий с помощником планировали присвоить кофе стоимостью в несколько тысяч рублей, а мне пришлось бы выплачивать его из своей зарплаты за несколько месяцев.
Таких явных проявлений по отношению ко мне несправедливости было несколько. Разумеется, обо всех рассказывать нет необходимости. Но ещё об одном случае всё же не могу не рассказать.
Как-то, в конце марта или начале апреля, я отправлял с товарной базы в Шумихе грузы в райпотребсоюз. Получил две машины дрожжей: наш Усть-Уйский район был большим, магазинов много. Дрожжи были свежие, только что произведённые, и запах настоящий. Когда я их брал на базе, температура воздуха была минусовая. Тем временем по каким-то своим делам на базе появились уже упоминавшийся заместитель председателя райпотребсоюза Анатолий Александрович и тот самый Равиль, который помог мне с дровами. Увидев, что я занимаюсь погрузкой дрожжей, они посмотрели товар и никаких изъянов не нашли.
Погрузив ящики с дрожжами на две машины, я отправил их в райпотребсоюз. Сам, занимаясь отправкой других товаров, задержался в Шумихе ещё на несколько дней. Вернувшись, я обнаружил на складе дрожжи, которые, раскиснув, уже вытекали из ящиков: дни потеплели, а отправку дрожжей в сельпо не организовали. Ответственный за эту халатность – уже знакомый читателю заведующий продуктовым складом Николай Васильевич. В таких случаях полагалось создать комиссию и по акту списать испорченный товар – это входило в мои обязанности. Так я и поступил. В акте написал: продукт испорчен вследствие того, что в условиях тёплой погоды долго хранился на складе. Обычно в таких ситуациях испорченный товар списывают за счёт райпотребсоюза. Я рассчитывал, что так будет и на этот раз…
Прошло некоторое время, я вернулся из командировки в Курган, а мне сообщают: «На заседании правления райпотребсоюза тебя обвинили в порче партии дрожжей на сумму в несколько тысяч рублей. Вынесено решение удержать эту сумму из твоей зарплаты». Выходило, что я должен был несколько месяцев работать бесплатно. Таким образом, была совершена ещё одна подлость председателя Калугина и заведующего складом Николая Васильевича.
Но и я оказался упрямым – платить не собирался. Я не стал давать согласия на вычет стоимости дрожжей из моей зарплаты, поскольку был уверен в своей невиновности.
В таких случаях по закону деньги с меня могли взять лишь по решению суда. Моё дело передали в районный народный суд. Я подготовился, принял необходимые меры: взял на метеорологической станции справку о том, что в день, когда я получал с Шумихинской базы дрожжи, была минусовая температура (следовательно, товар не был испорчен). Эту справку я представил в суд. Анатолий Александрович – заместитель председателя (и второй по значимости руководитель!) – пришёл в суд и выступил свидетелем в мою защиту, подтвердив, что в день отправки с базы товар не был испорченным.
Суд прошёл в соответствии со всеми правилами.
По обе стороны от женщины-судьи сидели два народных заседателя. В зале я (впереди) и ещё несколько человек. Судья объявила о начале заседания, познакомила с его повесткой и дала слово представителю истца – главному бухгалтеру райпотребсоюза. Истец изложил суть предъявляемых ко мне претензий.
Затем судья предоставила слово мне. Сначала задала мне несколько вопросов, касающихся моих анкетных данных (фамилия, имя, год рождения, место работы). Услышав ответ, судья улыбнулась: «Очень молодой товаровед». Мне тогда не было и 18 лет. В соответствии с законом, меня даже не имели права назначать на должность, связанную с материальной ответственностью.
Судья велела мне изложить суть дела. Я рассказал.
Слово дали свидетелю – Анатолию Александровичу Катаеву. Он высказался в мою защиту, не скрывая своего раздражения на председателя Калугина, притеснявшего невинного человека. Своё выступление он закончил словами: «В порче дрожжей виноват не Юсупов, а заведующий складом и председатель, и стоимость испорченного товара надо заставить выплатить их!».
Вот насколько отличаются люди друг от друга своей натурой и характером: один ненавидит людей и получает удовольствие, заставляя страдать невинного человека, другой всеми силами борется против несправедливости. Анатолий Александрович потом ещё не раз выручал меня в трудных ситуациях.
Решение суда, к счастью, оказалось в мою пользу. Требования истца удовлетворены не были.
Расскажу ещё одну поучительную историю и на этом завершим курганскую эпопею.
Как-то из вышестоящей организации – облпотребсоюза – пришёл приказ: специалисты, имеющие среднее специальное образование, должны организовать курсы обучения для продавцов, не имеющих специального образования. В Усть-Уйском райпотребсоюзе тут же приступили к реализации этого мероприятия. К каждому специалисту со средним специальным образованием прикрепили по одному сельпо. За мной закрепили сельпо Матвеевское. И я, раздобыв где только мог, специальную литературу, и оживив в памяти полученные когда-то скудные знания, составил для предстоящего курса что-то вроде программы и приготовился исполнять эту весьма сложную для себя миссию.
Дело было зимой. В контору сельпо в селе Матвеевка, расположенном в 15–20 километрах от райцентра, из отдалённых деревень на лошадях съехались женщины-продавцы. Из Ново-Кочердыка прибыл и я – 17-летний паренёк.
Моё смущение и волнение трудно было передать словами. Ведь прошло всего три года, как я окончил семь классов татарской школы. Мой русский язык тогда, наверно, был не ахти какой. А слушатели-курсанты – русские женщины среднего и старшего возраста!
Но, как говорится, чему быть, того не миновать. Поднапрягши мозги, я что-то там рассказывал, поглядывая в книги. К счастью для меня, эти курсы (ликбез) продолжались не очень долго.
За период работы в Курганской области я преодолел немало сложностей. Всякое бывало: зимой и весной застревал в дороге, сидел в поле, мёрз в машине с товаром – тогда кабины ещё не обогревались, в них ветер гулял. Ладно ещё не пристрастился к спиртному: сфера торговли – особая, я – молодой да неопытный, а надёжных советчиков – родных и близких – рядом нет.
Нам впрок быть кавалеристом, поработать журналистом и стать педагогом
Проработав полтора года, я взял отпуск и вернулся в Казань. Так закончилась моя курганская эпопея. Обратно туда я уже не поехал. Полгода я проработал товароведом в Казанском пищеторге, и затем был призван на срочную военную службу.
В военном комиссариате, где проходил медицинскую комиссию, я, улучив удобный момент, спросил, куда меня отправят служить. Мне ответили: будешь кавалеристом. Я решил, что надо мной подшутили, но ошибся: оказывается, в горах Памира границу с Афганистаном охраняют конные пограничники. Вот туда я и попал.
Двенадцать дней мы добирались до киргизского города Ош в товарном вагоне. Спали на трёхэтажных нарах, питались сухим пайком. Мне достался второй этаж, чтобы лечь, надо было вползать в узкое расстояние между первым и третьим этажами. Сидеть, разумеется, было тем более невозможно, вдобавок сверху сыплется пыль, мусор, иногда и капало. В вагоне было неимоверно жарко, все в поту, а помыться возможности нет.
В городе Ош Киргизской республики, выгрузившись из поезда, мы пересели в машины. Нам выдали старые рваные тулупы и валенки. И это в августе месяце в Средней Азии! Но вскоре мы получили ответ на свой немой вопрос. Потому что нам предстояло ехать по знаменитой высокогорной трассе Ош – Хорог, которая временами взмывала на высоту до пяти километров, а на перевалах уже кое-где шёл снег.
Нас погрузили в грузовики, совершенно не приспособленные для сидения. Мы устроились на корточках, а сверху нас накрыли брезентом. Моя привычка вести себя чересчур культурно привела к тому, что в момент погрузки я не стал толкаться и суетиться, и в результате оказался в конце кузова. Я сидел скрючившись, ноги нещадно затекали и ныли, к тому же была ещё одна беда – выхлопные газы вызывали у меня нестерпимую тошноту. В таком состоянии мы пробыли двое с половиной суток, за которые, преодолев 838 километров, добрались до маленького городка Хорог.
Дорога была проложена в форме серпантина, который извивался то вверх, то вниз, пробивая себе дорогу среди скал. За весь период моей службы в армии самым трудным эпизодом стала та самая дорога Ош – Хорог.
Хорог был административным центром Горно-Бадахшанской автономной области в составе Таджикской союзной республики. Городок располагался на высоте двух с половиной километров среди Памирских гор на самой границе с Афганистаном. Всюду были горы, высоченные скалы. Солнце показывалось где-то около десяти утра, а в четыре-пять уже скрывалось за вершинами гор. На Памире, в отличие от Кавказских гор, мало растительности, в основном голые скалы. И всё же в некоторых местах среди гор прятались небольшие долины с зеленью и деревьями, там и располагались населённые пункты.
С антропологической точки зрения – говоря проще, по внешнему виду – бадахшанские таджики заметно отличаются от большинства таджиков, населяющих город Душанбе, расположенный у подножия гор, и другие города и сёла этого региона. Они светлокожие, голубоглазые, с тонкими чертами лица. Иногда во время занятий, когда мы с карабинами в руках отрабатывали стойку рук, мимо нас по ту сторону колючей изгороди проходили девушки-таджички, и что-то по-своему говорили и смеялись. Запомнилось, что они были очень красивые…
Наше подразделение являлось Хорогским пограничным отрядом Среднеазиатского военного округа. В отряд входило несколько пограничных застав. Мы должны были пройти в этом отряде учебные курсы.
Армейская жизнь – это армейская жизнь. Порядки такие строгие, что мало не покажется. В отряде невозможно было даже ходить спокойным шагом: только бегом или с песней. Со снаряжением бежать трудно, да и петь не особо хочется – часто не до песен бывало.
Обещанная в Казанском военном комиссариате кавалерия не заставила себя ждать: у нас было много занятий верховой езды. К каждому солдату прикрепили коня, вернее, к каждому коню прикрепили по бойцу. Мы должны были кормить их, чистить, убирать за ними. Кони были хорошие, обученные. Сидя верхом, мы на всём скаку преодолевали препятствия, срубали саблей специально установленные прутья; переходя на рысцу, выполняли на лошади различные упражнения. Пока не закончился срок обучения, мы не расставались с саблей, прикреплённой к обмундированию специальными ремнями, похожими на шлею. А ещё очень страдала наша «пятая точка»: она была вся в ссадинах и кровоподтёках, у многих брюки были насквозь пропитаны кровью. Раны долго не заживали, потому что горный воздух содержит меньше кислорода. Эта злая участь не обошла и меня.
В целом я пришёл к мнению, что порядки в нашей армии строятся на психологии унижения и издевательства. Вот пара эпизодов из личного опыта.
Начало ноября. Холодно. Рано утром мы умываемся, разбив корку льда на поверхности воды в арыке. На нас только гимнастёрки: шинели не выдают. Спим в холодном гараже.
На подъём отведено две минуты: надо успеть намотать портянки, надеть сапоги, натянуть гимнастёрку, всю обвитую, как конская шлея, ремнями (когда торопишься, эти ремни имеют обыкновение путаться – увы, кавалеристская форма!), нацепить саблю и заправить постель. Это сущее наказание!
Целый день тебя гоняют туда-сюда. Дороги – сплошь камни. Шагать, бегать трудно.
Поскольку находишься постоянно в напряжённом движении, чувство голода наступает очень быстро. Питание наше было скудное. Я себя никогда прожорливым не считал, но и у меня почти всегда сосало под ложечкой.
Однажды вечером я заболел: поднялась температура, появился жар. Я попросил командира разрешить пойти в санчасть. Но он не отпустил меня. На следующее утро у меня опять не получилось пойти: оказывается, там принимают только после обеда. Получается, и в санчасть нельзя пойти, и в казарме нельзя отлежаться. Пришлось с высокой температурой идти на стрельбище…
Пришло время обеда. Аппетита у меня не было, но нас всех строем повели в столовую на обед. Санчасть была рядом со столовой. Казалось бы, зайди по дороге. Так нет, надо сначала вернуться со всеми в казарму, а потом специально пойти в санчасть. Вот такие дела творятся иной раз в армии.
Когда я наконец попал в санчасть, температура приближалась уже к сорока градусам. Меня тут же госпитализировали, и я провалялся там несколько дней.
Известно, что в армии закаляют боевой дух, учат солдат противостоять трудностям. Но во всём должна быть мера. И не следует без нужды рисковать здоровьем человека.
Много лет спустя мы с женой Дилярой и дочерью Диляфруз поехали навестить сына Фаниса, который проходил службу в Челябинской области. Была зима. В казарме температура воздуха ниже десяти градусов. Кому было нужно так мучить людей и рисковать их здоровьем?.. После окончания службы сын уже не расставался с кашлем: его бронхи были хронически застужены.
Вернёмся в мой пограничный отряд.
На Памире, в Хороге, нас обучали секретам пограничной службы. По каждому виду подготовки: политической, по стрельбе, навыкам конной езды, пограничной и прочим – нам выставили оценки. У меня по всем предметам были «пятёрки». В качестве поздравления в мой адрес даже была выпущена газета-«молния». По этой же причине меня не отправили вместе с другими на заставу, а командировали в школу сержантов в Сталинабад (ныне Душанбе). После прохождения школы меня должны были вернуть на одну из застав Хорогского отряда. Но мне не суждено было вновь оказаться на Памире: два года с половиной я прослужил в школе сержантов, а перед возвращением из армии полгода служил в Ташкенте.
Служба проходила успешно. Я был активистом: редактором стенгазеты, комсоргом. Был награждён почётной грамотой Центрального Комитета комсомола Таджикистана, различными значками.
Вряд ли можно утверждать, что три года службы принесли мне большую пользу. Вместо того чтобы учиться, получать образование, расширять кругозор, мне пришлось проводить время в безысходном однообразии и условиях несвободы. Но что делать… Что было, то быльём поросло. Во всяком случае, свой долг перед государством я выполнил и научился ценить свободу.
Демобилизовавшись, я снова оказался в родной Казани. За три года моей службы в нашей семье произошли большие перемены. Самый старший брат – Равиль и следующий за ним брат – Наиль друг за другом отслужили в армии и устроились на работу в Казани. Когда я уходил в армию, они уже начинали строить дом в посёлке Северный. Закончив строительство, Равиль женился. Из деревни, продав дом и хозяйство, переехали в Казань и родители с самым младшим из детей – Муниром (он ещё был школьником). Образ их жизни в городе поначалу был похож на деревенский, они даже корову держали. Теперь, когда вернулся в этот дом и я, мы снова стали большой семьёй. Дом изначально был задуман и построен большим: места всем хватало.
Чем я буду заниматься после армии, я продумал ещё во время службы. В этом вопросе у меня была своя, достойная внимания, особенность. Хотя после окончания седьмого класса мне не пришлось больше учиться на татарском языке, я решил подавать документы на отделение татарского языка и литературы Казанского университета. Поступить на другие специальности для меня было бы легче. А здесь предстояло сдать вступительные экзамены по татарскому языку и литературе (напомню, что в 8–10-х классах я уже не учился в татарской школе). К тому же, конкурс составлял 6–7 человек на одно место. И всё-таки несмотря на это я подал документы на отделение татарской филологии.
Надо заметить, что мой выбор не был никем подсказан. Наоборот, впоследствии, когда я уже стал студентом, мой школьный учитель по математике Шамиль-абый даже отругал меня: «Что ты наделал, ведь ты должен был стать математиком!». Действительно, математика давалась мне легче других предметов.
Но во мне с младых ногтей жил некий национальный, гуманитарный дух. И работая в Курганской области, и во время службы в армии я очень скучал по татарским песням, даже писал стихи (разумеется, на татарском). Тогда-то мне и пришла в голову мысль: я должен изучать татарский язык и литературу. Эта мысль крепла день ото дня, пока я не стал студентом отделения татарского языка и литературы историко-филологического факультета Казанского государственного университета.
Интересный факт: в те годы (начало 60-х) среди татарских юношей и девушек царил какой-то душевный подъём. Большинство юношей из нашей группы отслужили в армии, девушки поступили с двух-трёхлетним опытом работы – одним словом, это была целеустремлённая и серьёзная молодёжь. Впоследствии большинство из них стали известными людьми, внёсшими достойный вклад в развитие татарской культуры. Достаточно назвать такие имена, как Равиль Файзуллин, Фарсель Зиятдинов, Шамиль Маннапов, Фирдаус Гарипова, Флёра Баязитова, Ленар Замалетдинов, Шарипзян Асылгараев, Анвар Шарипов, – всё это бывшие студенты нашей группы, а ныне известные писатели, учёные, общественные деятели.
С самых первых дней наша группа показала себя достойной во многих отношениях: мы хорошо учились, активно участвовали в общественной работе, увлечённо занимались литературным творчеством, журналистикой. Равиль Файзуллин, Шамиль Маннапов, Фарсель Зиятдинов и Ленар Замалетдинов уже в момент поступления в университет были «заражены» неумолимой тягой к творчеству. В этой области особенно больших успехов достиг Равиль. Сейчас он – один из самых видных татарских поэтов.
Фарсель был удивительным парнем: он писал стихи, печатал статьи в газетах и журналах, готовил радиопередачи, активно работал в комсомоле и, к тому же, как оказалось, заочно учился в сельскохозяйственном институте. Впоследствии он стал членом Союза писателей, известным садоводом-агрономом, журналистом, доктором экономических наук, профессором.
Для всех нас студенческие годы были очень плодотворными и прошли в атмосфере духовного подъёма. Мы получили хорошее образование, сформировались как активные члены общества, вступили на стезю творчества и науки. Наши выезды всей группой в десятки сёл и деревень с концертами, лекциями, с помощью колхозам стали фундаментом для наших будущих успехов.
Нашими учителями были видные учёные и опытные педагоги – первый татарский философ, профессор Мансур Ибрагимович Абдрахманов, литературоведы: Юлдуз Галимзяновна Нигматуллина, Хатип Усманович Усманов, языковеды: Мирфатых Закиевич Закиев, Диляра Гарифовна Тумашева и другие видные люди.
После того как профессор М. З. Закиев был назначен заведующим кафедрой татарского языка, по его инициативе на факультете было принято важное нововведение. Некоторые студенты – по желанию и с учётом их индивидуальных способностей – с третьего курса были переведены на индивидуальный план обучения. В нашей группе по такому плану обучались Равиль Файзуллин, Ленар Замалетдинов, Шарипзян Асылгараев и я. Поскольку я учился в техникуме на русском языке, затем работал в Курганской области среди русских, да и в армии отслужил три года, я неплохо знал русский язык, а потому меня обучали по специальному плану для получения квалификации «переводчик-филолог». Получение соответствующего диплома сыграло решающую роль в моей последующей карьере.
Поскольку мы учились по индивидуальным планам, то нам была предоставлена возможность самостоятельно готовиться к зачётам и экзаменам и досрочно их сдавать. Из-за нехватки на селе учителей нашу группу на четвёртом курсе перевели на один год на заочную систему обучения и отправили работать в школы. Но нас, четверых «индивидуальщиков», оставили. Зачёты и экзамены за четвёртый курс мы сдавали самостоятельно, в то же время посещали занятия со студентами пятого курса, выполнив учебный план и за этот курс. Таким образом обучение, рассчитанное на пять лет, мы закончили за четыре года. Оставалось только написать и защитить дипломную работу. Это мы сделали уже вместе со своей группой в обычные сроки.
Я готовился стать переводчиком. Изучал теорию перевода, постепенно осваивал практику. Сделав перевод небольших книжечек-брошюр, отнёс в книжное издательство, и они, к моей радости, опубликовали их. Настроение было прекрасным: и опыт накапливался, и небольшой гонорар выплачивали. Впоследствии мне пришлось выполнять и более серьёзные работы – в частности, переводы трудов Ленина.
Закончив с опережением программу пяти курсов за четыре года, Фарсель Зиятдинов устроился на радио сотрудником отдела сельского хозяйства. Тем временем появилась вакансия в отделе музыки, куда тут же приняли Ленара Замалетдинова (он у нас был с литературно-музыкальными способностями). А тут засобирался на пенсию Абдулла Тухватуллин, много лет проработавший на радио переводчиком. Об этом тут же сообщил Фарсель и посоветовал мне сходить к руководству и поговорить насчёт моего трудоустройства на вакантное место. Так я и сделал.
Меня приняли переводчиком с испытательным сроком. Для меня эта работа стала поистине серьёзным испытанием. Опыта совсем не было. Абдулла-абый проработал в этой должности тридцать лет: он был уже матёрым переводчиком – настоящим асом. Взяв с телетайпа последние новости из Москвы, он шёл в машбюро и с ходу переводил, а машинистка Суфия-апа тут же печатала текст. Затем текст просматривал редактор, вносил необходимые поправки и передавал его диктору. Новости по радио должны были передаваться быстро.
Меня предупредили: «Раньше, чем через год, ты не сможешь с ходу диктовать машинистке». Но я чувствовал: никто меня год ждать не станет, надо как-то быстрее научиться. Взяв тексты последних новостей с телетайпа, я прочитывал их, про себя переводил (записывать времени нет!) и шёл в машбюро. Суфия-апа уже ждала меня. Глядя в русский текст, я диктовал татарский перевод. Было тяжело, очень тяжело. Только тот, кто переводил, знает, насколько сложна эта работа. Но отступать было не в моем характере. Поэтому я старался, как мог. Разумеется, иногда ошибался. Приходилось тут же исправлять. Мне становилось стыдно, потому что Суфия-апа печатала быстрее, чем я успевал произнести слово до конца. Но она была очень умной женщиной, понимала меня и не сердилась.
Промучившись так месяц, я научился вполне уверенно диктовать перевод сразу. Тогда проснулась и надежда: у меня получится! Ведь, кроме последних новостей, я ещё переводил тексты для разных тематических передач. Но их, поскольку спешки не было, я делал вечером, после работы, в письменном виде.
Напряжённая учёба – сдача в один год экзаменов и зачётов за два курса (и все их надо сдавать только на «пять», поскольку я – ленинский стипендиат), а также освоение новой сложной работы привели к истощению организма: несколько раз вечерами после работы у меня открывалось обильное носовое кровотечение и стали болеть глаза. Но, слава Аллаху, вскоре это прошло.
Прошёл месяц с тех пор, как я пришёл на радио. Коллектив готовился к торжественным проводам Абдуллы-абый на пенсию. Однажды начальник радиокомитета Фатхи Фазулзянович вызвал меня в кабинет и деликатно завёл разговор: «Сынок, ты сам видишь, работа у нас очень сложная, здесь нужно переводить и одновременно диктовать. Тебе будет не по силам, пожалуй, нам придётся поискать другого человека». Разумеется, здесь не обошлось без мнения редактора. Потому что ему и в самом деле приходилось исправлять больше, чем раньше. Я вышел из кабинета, едва сдерживая слёзы. Но что поделать, мир так устроен. Я постарался утешить себя мыслью, что неудачи в жизни тоже бывают.
Однако на проводы Абдуллы-абый я всё же зашёл: он сам пригласил меня.
Дали слово виновнику торжества. А он возьми да скажи, кивнув в мою сторону: «Вот, вместо меня остаётся хороший парень, я верю, что он справится с этой работой». Тут я робко вставил: «Мне уже сказали, что мне придётся уйти». Абдулла-абый вспыхнул: «Что за ерунда, кто сказал, почему со мной не посоветовались? Если уволите этого юношу, я ввек не прощу!» Эти его слова оказались для меня решающими: меня приняли на радио Татарстана переводчиком на постоянную работу.
Я успешно проработал в этом качестве около полугода. Когда на телевидении образовалась вакансия редактора передач на татарском языке, руководство, посовещавшись, решило назначить на эту должность меня. Объяснение было простое: радио и телевидение представляли собой одну организацию – «Комитет по радио и телевидению при Совете Министров Татарстана», в котором был председатель и два его заместителя, отвечающие один за радио, другой за телевидение. Значит, перевод работника с радио на телевидение примерно соответствовал тому, чтобы перевести колхозника из одной бригады в другую.