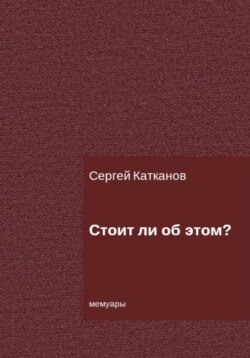Фамилия
Раньше мне не нравилась моя фамилия. Она казалась мне невнятной и неблагозвучной. Никто не мог её с первого раза правильно расслышать, приходилось по несколько раз повторять. Это раздражало. А потом я понял, что это всё ерунда, и теперь мне моя фамилия нравится. Что толку быть, например, Смирновым или Плотниковым? Банально и скучно. Всё вроде бы понятно, но ни о чём не говорит. А в моей фамилии – загадка. Мужчине идёт загадочность. У меня с этим всё в порядке.
Но с другой стороны, фамилия должна быть путеводной нитью на жизненном пути. Она должна определять судьбу, указывать откуда я пришёл и куда мне в силу этого надлежит идти. Вот будь я, к примеру, Гогенцоллерном – всё было бы понятно и мне, и окружающим. Или Голицыным. Тогда я мог бы сказать: «Я из рода Гедиминовичей, и моя задача – показать, что такое быть настоящим Гедиминовичем в современном мире». А мне куда идти и кому чего доказывать? Не понятно.
Мою фамилию никто ещё достаточно убедительно не растолковал. Отец говорил, что наша фамилия происходит от слова «кот» и раньше звучала «Котканов». Но почему тогда не Котов или Котовский? Это объяснение меня не удовлетворило, но другого у отца не было.
Мой друг уверен, что моя фамилия происходит от слова «канать», то есть «бежать». Но почему тогда не Канаев? Есть, кстати, такая фамилия. Всё это слишком большие натяжки, основанные на неправильном подходе – они пытаются объяснить эту фамилию через какое-то одно понятие, а в ней очевидным образом звучат два корня. И ни один не ясен.
Однажды меня осенило. Я вдруг УСЛЫШАЛ свою фамилию. Мне стало внятно её первоначальное звучание: КАТХАНОВ. Тут просто «х» по законам языка со временем ассимилировалось и превратилось в «к». А первоначальная форма по-видимому звучала «КАТ-ХАН». Вот такие дела. Из Чингизидов мы.
Однако, что же значит «КАТ»? И тут я, слегка обалдев, вспомнил, что по-древнерусски «кат» значит «палач». Впрочем, я относительно легко переварил это открытие, философски заключив: «Ну да, суров был предок». И та лёгкость, с которой я принял немного шокирующую правду, косвенно подтверждала, что это действительно правда.
Хотя корень «кат» вовсе не обязательно должен быть древнерусским. Мало ли из какого он ещё языка. Однажды я поделился с одним армянином догадкой о своём ханском происхождении, и он сразу же заключил: «Всё правильно. Твоя фамилия переводится «владыка молока»». А потом как-то в письме он назвал меня «достойным сыном армянского народа». К древнему армянскому народу я отношусь с большим уважением, но полагаю, что «армянский след» в истории моих предков неизбежно заведёт в тупик. Я армянин только в том случае, если Адам был армянином. От КАТ-ХАНА пахнет степью, а не горой Арарат.
Косвенные подтверждения этого не замедлили. Во-первых, я однажды обнаружил одного Катканова в Казани. Где же ему ещё и быть. Во-вторых, я как-то встретил свою фамилию в исконном, на мой взгляд, звучании: КАТХАНОВ. В-третьих, данные в пользу этой версии уже полвека регулярно предоставляет мне зеркало. Черты лица несут явный восточный след, но никак не армянский – борода и усы растут по-другому. Это «монголоидный тип оволосения лица». Хочешь радуйся, хочешь плачь, но это так.
Сначала хотелось заплакать. Я находил мало удовольствия в том, чтобы вести свою родословную от «монголо-татарского ига». И к современным татарам я отношусь примерно так, как это предписывает поговорка про незваного гостя. Сейчас я уже могу и не извиняться за такое отношение к татарам, потому что и сам похоже… из них. Но что же делать? Нельзя объявлять правдой то, что максимально удобно и приятно. Надо учиться жить с той правдой, какая есть.
И я стал учится. Во-первых, думаю, при чём тут татары? Ханы у них были только из монголов, из Чингизидов. Монголы привели на Русь бесчисленное количество тюркских народов, условно говоря – татар, но сами они не были тюрками. Недавно в разговоре с одним очень умным и опытным человеком я сказал, что чувствую себя русским человеком. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Да, ты русский. Но с примесью монгольской крови». Вот, думаю, человек сразу почувствовал. Не тюркская во мне кровь, а монгольская.
Во-вторых, мало ли аристократических русских родов вели своё происхождение от монголо-татар. Юсуповы, например. И даже Годуновы. Не говоря уже о разного рода Рахметовых. То есть, в принципе, с этим можно жить.
В-третьих, хан – это, по нашему говоря, царь. То есть всё-таки получается,что я – царского рода. Чингизиды – сильная династия. Они такого шороха навели, что и до сих пор по всему миру последствия. Недавно я сказал в узком кругу: «Я вам не какой-нибудь там мурза. Я – хан». Ну это чтобы своих посмешить, а то я опасаюсь выглядеть слишком торжественно. Но про себя я думаю о своей принадлежности к великой династии очень даже серьёзно.
Недавно посмотрел сериал про Чингиз-хана. И душа откликнулась на романтику степей, вполне ощутив энергию великого пассионарного порыва. Это, пожалуй, вполне моё, хотя на мой вкус эти парни были малость диковаты. Но если разобраться, Чингиз вряд ли превосходил по дикости Хлодвига и Рюрика, да, я думаю, что и Тарквиний мало напоминал утончённого аристократа.
Да и к тюркам под напором новых фактов я стал последнее время относится куда лучше. Всё же есть в них нечто достойное самого глубокого уважения. И я так начал думать не потому что мне это удобно. Новые факты, новые углы зрения, новые ощущения порою очень видоизменяют реальность души.
Мой отец вырос в глухой и убогой русской деревне, но черты лица имел очень благородные. (Куда более благородные, чем мои. Во всяком случае, тот предмет, который торчит у меня над верхней губой, заметно уступает по форме точёному отцовскому носу). И в характере отца присутствовало благородство, которое трудно было впитать в диковатой среде, которая его вырастила. Думаю, это наследственное, нечто прорвавшееся сквозь десятки поколений.
Отец был по-восточномугоряч, но справедлив. Я унаследовал и его горячий нрав, и стремление к справедливости. Ещё отец очень любил наводить порядок. («Орда» и «орден» – однокоренные слова и происходят от латинского «ордо» – порядок). Надеюсь, что и это во мне есть. Слово отца всегда было «со властью», он был рождён для того, чтобы приказывать, точнее – повелевать, хотя больших чинов не достиг, то есть умение повелевать не было воспитано в нём жизнью, оно было генетическим. Я чувствую это и в себе. Ханскую натуру не пропьёшь, хотя я и пытался. Впрочем, мне довольно быстро разонравилось руководить, стремление подчинить степь стало казаться нестоящим усилий, и я ушёл в степь своей души. Но когда мне приходилось приказывать, я чувствовал, что для меня это естественно, органично, просто.
Что во мне от предка хана? Хан живёт войной. И я всю жизнь воевал, хотя род занятий не вынуждал меня к этому. Я воевал при помощи того, что попалось под руку, а это была авторучка. Что ни говори, а во мне всегда жило желание изменить степь вокруг себя. И я это делал, как умел.
Иногда я встречал в истории имена, которые буквально били меня по душе. Например, Луций Сергий Катилина – древнеримский смутьян. Мало того, что Катилина, так ещё и Сергий. Неплохо бы разобраться, а у него-то в прозвище откуда корень «кат»? Но Катилина – герой не моего романа, и я не стал разбираться.
Ещё я был поражён тем, что японское буквенное письмо называется «КАТАКАНА» – чуть ли не точное совпадение с моей фамилией. Есть, кстати, версия, что Чингиз-хан на самом деле родом из Японии. И в названии японского меча – «катана» звучит всё тот же корень «кат». Всё это сильно волнует, но боюсь, что никуда не ведёт.
Однажды, один мой знакомый краевед сказал мне, что встретил в дореволюционной церковной книге Междуреченского района упомянутого в качестве крестного отца крестьянина Аполлона Катканова. Меня это заинтересовало. Он говорит:
– Если ещё встречу вашу фамилию, сделать для вас выписку?
– Да, конечно.
– Может быть, мне и удастся внести свой вклад в каткановедение.
К сожалению, этот человек вскоре умер и «каткановедение» остаётся слабо разработанной отраслью науки.
Детство отца
Мой отец, Катканов Юрий Владимирович, родился и вырос в деревне Марковская Авксентьевского сельсовета Усть-Кубенского района Вологодской области. Это не столь уж далеко от Вологды, но из-за отсутствия дорог, деревня была самым настоящим медвежьим углом со всеми вытекающими последствиями.
Он родился в 1938 году, а в 1941 году его отец, мой дед ушёл на фронт. Тогда же, в 1941-м, семья получила похоронку. Не столь давно я нашёл имя деда в «Книге памяти» Вологодской области. Там сказано, что он умер от болезни в Череповецком госпитале. Не факт, что дед вообще успел добраться до фронта. Может быть, призвали уже больного. Или всё-таки успел повоевать месяц-другой? Теперь уже никто не расскажет.
Я вообще ничего не знаю про своего деда. Я даже отчества его не знал. Когда отец умер, для его подзахоронения рядом с могилой матери, потребовали справку о родителях. Я пошёл в архив и только тогда узнал, что моего деда звали Владимир Николаевич. А отец не знал отчества собственного отца. Ему не было и 3-х лет, когда его отец навсегда покинул дом. Он мог что-то расспросить у мамы, но она умерла, когда ему было 23 года. Молодёжь редко интересуется историей своей семьи, когда же начинает интересоваться, и расспросить бывает уже некого.
Итак, я вообще ничего не знаю про своего деда, Катканова Владимира Николаевича. Не сохранилось даже ни одной фотографии. Такая уж была деревня Марковская – там не фотографировались. Говорят, была одна-единственная фотография – «три на четыре», с какого-то документа. С неё мой отец, когда ещё был молодым, заказал увеличенный портрет, но ему очень не понравилось, как его сделали. Ретушь слишком грубая, да ещё зачем-то галстук дорисовали, а дед в жизни никогда не носил и не имел галстуков.
Я помню, как отец рассказывал мне про этот неудачный фотопортрет моего деда. И сейчас я совершенно не могу понять, почему я тогда не попросил отца показать мне этот портрет. Да будь этот портрет хоть трижды неудачным, но хоть какие-то черты лица на нём можно было всё-таки рассмотреть. Лишь недавно, то есть много лет спустя после смерти отца, я спросил у мамы об этом портрете. Она сказала, что дома у нас его нет, куда-то пропал, а куда – неизвестно. Но сама она его раньше видела и сказала, что у моего деда были тонкие черты лица. Откуда у крестьянина из убогой нищей деревни тонкие черты лица? А вот из того самого неисповедимого прошлого, когда некий КАТ-ХАН, аристократ степей, дал начало русской фамилии Катканов.
Отец рассказывал, что его мама, моя бабушка Парасковия Никифоровна Катканова (в девичестве – Соколова) не умела ни читать, ни писать. До какой же степени дикой была та деревня, в которой она родилась и выросла, если она за свою жизнь и года не ходила в школу? Отец научил её писать свою собственную фамилию в последние годыеё жизни, но букв она так и не выучила, просто зрительно запомнила, как выглядят те закорючки, которые означают её фамилию. Этот факт до сих пор с трудом укладывается у меня в голове. Моя родная бабушка (1903-1962) не умела читать. Тогда получается, что и дед вряд ли умел читать. Родной дед.
Отец иногда рассказывал мне о своём детстве. Мне эти рассказы всегда было интересно слушать, и когда я уже был журналистом, как-то предложил ему: «Давай напишу о твоём детстве». Отец неожиданно жёстко отрезал: «Не надо. Это теперь никому не интересно. Это даже мне теперь не интересно». Если отец вот так жёстко отказывал, уговаривать его было бесполезно. И всё-таки я теперь считаю, что сдался тогда слишком легко. Можно было через некоторое время подойти к этой теме с другого бока, можно было схитрить – просто расспрашивать его без записи, а сразу же после встречи всё записывать. Но я не проявил настойчивости, о чём сейчас очень жалею.
Потом, уже после смерти отца, я много раз спрашивал себя: почему он не захотел, чтобы я написал о его детстве? Из скромности? Ну, может быть, отчасти. Но по тому, как решительно он отказал, было заметно, что главное тут в другом. Он считал, что незначительные судьбы маленьких людей никому не могут быть интересны, и это просто скучно? Наверное, но опять лишь отчасти. Вообще-то отец никогда не отказывался давать интервью для ведомственной газеты, и было похоже, что ему это даже нравится. Но там речь шла о его работе, а вот о детстве он под запись говорить не хотел. Почему?
Только сейчас, когда я решил набросать эти автобиографические заметки, я понял отца. Прикидывая, о чём можно бы написать, я почувствовал, что некоторые фрагменты своей жизни не соглашусь расписывать ни при каких обстоятельствах. Я уже настроился на максимальную искренность, и на безжалостную по отношению к себе откровенность, потому что я ни перед кем не хочу выглядеть лучше, чем я есть, и перед самим собой – в первую очередь. Но я почувствовал, что любая откровенность должна иметь свой предел, за которым начинается бесстыдство, основанное, как правило, на бесчувственности. В жизни каждого человека есть такие ситуации, а то и целые периоды жизни, которые так сильно травмировали его психику, что и десятилетия спустя он не хочет о них вспоминать, во всяком случае – публично. Это, как правило, ситуации, связанные с крайним унижением.
Вот именно поэтому отец не хотел, чтобы я записывал его детские воспоминания. Крайняя нищета, когда человек постоянно испытывает голод, сводящий его с ума, это унизительно до такой степени, это настолько сильно травмирует психику, что выставлять на всеобщее обозрение сведения об этом, кажется чем-то неловким и болезненно неприятным. Не случайно ведь отец сказал: «Это теперь даже мне не интересно». Ему неприятно было об этом вспоминать, старое унижение вспыхивало в душе с новой силой. С сыном на кухне можно порою и разоткровенничаться, но так, чтобы о этом узнали все…
Кто-то из персонажей Достоевского, рассуждая о том, что бедность не порок, сказал, что бедность – действительно не порок, а вот нищета – уже порок. Не удивительно, что тот период жизни, когда человек балансировал на грани голодной смерти, он не то чтобы хочет совсем забыть, но предпочитает отодвинуть на периферию сознания, как то, за что крайне неловко.
В итоге рассказы отца о детстве были случайны, отрывочны, и основную их часть я просто позабыл, потому что в моём сознании они не сложились ни в какую систему. Но то, что я всё-таки запомнил – уже никогда не смогу забыть.
В семье отца было четверо детей, он – младший. После войны в деревнях царил страшный голод. Моя бабушка, вдова солдата, работала, как проклятая, в колхозе, но не имела чем кормить детей. Старший сын, Павел, дотянул до 18 лет и умер от голода. Потом умерла от голода старшая дочь, Нина, ей было 10 лет. Вторая сестра отца, Антонина, когда ей было 11 лет, пошла работать на лесозаготовки. До сих пор не могу представить, как это могло быть – маленькая голодная девочка, работающая на лесоповале. Но это было. Каждый день она приносила домой хлеб, который давали только тем, кто работал в лесу. Мой отец и его мать выжили только благодаря этому хлебушку, хотя перемолотой еловой коры в нём было больше, чем муки. Отец говорил, что впервые попробовал настоящий хлеб, когда ему было 18 лет.
Тот послевоенный голод иногда объясняют неурожаем, но ведь в городах никто не голодал. Хоть там и бедно жили, но от голода не умирали. И в деревнях тоже голодали далеко не все, советские начальники жили очень даже неплохо. Отец рассказывал, что у них в деревне сосед был – председатель сельсовета, так его семья вполне прилично питалась.Один раз моя бабушка зашла к ним по делу, а у них стол был пшеничными булочками завален, видимо, только из печки их достали. Нам сейчас трудно представить, какими глазам смотрела на пшеничные булочки мать, дети которой даже ржаной хлеб пополам с еловой корой считали за праздник. Бабушка не удержалась и сунула одну булку себе под фартук. Хозяева это заметили и долго её стыдили. Воровать, мол, не хорошо. А ведь они знали, что у неё дети от голода умирают. Бабушка прибежала домой вся в слезах, её опозорили, выставили воровкой.
Я потом много лет думал о том, что это были за люди – председатель сельсовета и его жена? Оставалось ли в них хоть что-то человеческое? Это были классические представители советской власти – высокомерные и безжалостные. Для них ничего не значило то, что рядом умирают от голода дети. А ведь они могли спасти их, хотя бы время от времени подкармливая. Но чего это ради? Не для того человек пролезал в председатели, чтобы потом подкармливать всякую голытьбу. Эти нелюди – и есть советская власть.
Я не осуждаю этих людей. Осудить человека может только Бог. Я их обвиняю. И перед престолом Божьим я их обвиню. Отец имел право их простить. У меня такого права нет.
Кстати, отец дружил с их сыном, и они за это своего сына очень ругали, дескать, путаешься с этим голодранцем Юркой, наберёшься от него всяких пакостей. Юрка был для них мелким представителем колхозного быдла, ничтожных холопов, жизнь и смерть которых ничего не значит. Если мальчик голодает, значит это плохой мальчик и дружить с ним не следует. Не удивительно, что и отец смотрел на них, как на людей особенных, к которым он и приближаться права не имеет – ведь они же едят до сыта. И дружбой с их сыном очень дорожил.
Как ни странно, их дружба продолжалась ещё много десятилетий после того, как они оба навсегда покинули деревню Марковскую. Жили в разных городах, но переписывались и каждый год встречались. Друг отца вышел в люди, стал прокурором, но потом как-то разом всё потерял – и прокурорские петлицы, и семью. Жизнь свою закончил, если не ошибаюсь, оператором газовой котельной. По простому говоря – кочегаром. Он не состоялся, как личность. Отец вышел на пенсию, как заслуженный профессионал, всеми уважаемый на своём предприятии. Он состоялся.
Кстати, в 70-е годы тот председатель сельсовета с женой тоже перебрались в Вологду и жили на одной лестничной площадке с сестрой отца, которая для меня была тётей Тоней. И с отцом они время от времени виделись. Не знаю, как отец к ним тогда относился. Может он их за всё простил, а может и не чувствовал необходимости прощать, наоборот, радовался тому, что его простили за то, что он когда-то голодал. Может, он был рад тому, что сумел встать на ноги и теперь эти особенные люди, которые никогда не голодали, разговаривают с ним на равных.
Однажды председатель пригласил отца на свой юбилей. Я тогда был подростком. Отец в шутку спросил меня:
– Серёга, мы на юбилей идём, как думаешь, что подарить?
– А сколько лет юбиляру?
– 70.
– Тогда подарите ему могильный венок.
Отец так жизнерадостно и долго смеялся моей шутке, что я даже удивился. Потом он ещё несколько раз вспоминал эту шутку и каждый раз смеялся. А я тогда ничего не знал про человека, к которому родители пойдут на юбилей, с моей стороны это был просто чёрный подростковый юмор. Но для отца в моей шутке, видимо, был свой смысл. Он ничего не забыл. Он был, конечно, рад тому, что вот эти люди, которые думали, что из Юрки ничего путного не вырастет, теперь приглашали его за свой стол, как уважаемого человека. Но он всё помнил.
***
Про ужасы крепостного права у нас до сих пор знают больше, чем про кошмары изуверского колхозного рабства. Если в деревнях люди подыхали от голода, вкалывая от зари до зари фактически бесплатно, так они разумеется разбежались бы по городам, где никакого голода не было, но колхозники были лишены такой возможности. У них не было даже паспортов, они не могли сбежать. И вот отец, закончив 8 классов, решил всё-таки податься в город вопреки всему и не смотря ни на что. К сожалению, я забыл подробности того, как они с мамой выправляли все необходимые для этого справки, помню только, что это было нечто невообразимое и на первый взгляд совершенно невозможное. Несколько раз подряд им должно было крупно повезти, на что трудно было надеяться. Но повезло. Господь благословил.
Он поступил в ремесленное училище, что по тем временам считалось немалой честью. В училище было 3 отделения: столяры, плотники, бондари. Столяры считались элитой, учится на бондаря было наименее почётно. Отца приняли на плотника. И он закончил училище с 5-м разрядом. У плотников всего было 6 разрядов. Имеющие 6-й разряд – это виртуозы ремесла. Почти все выпускники училища получили 3-й разряд, лишь несколько человек – 4-й. Отцу, единственному из выпускников, дали 5-й разряд. Этот факт из биографии отца всегда приводил меня в восхищение.
Кстати, на топор я с детских лет смотрел, как на оружие чести. Помню, отец рассказывал, как в общаге училища процветала дедовщина – после отбоя в комнату приходили парни со старших курсов, у всех всё отбирала, недовольных – били. Однажды они рассказали об этом мастеру, а мастер только усмехнулся: «Первый раз слышу, что плотников обижают. Ведь плотники – ребята с топорами». Парни всё поняли, после работы они не сдали топоры, как положено, а взяли к себе в комнату, положив под матрасы. Когда после отбоя к ним опять пришли их обидчики, десять пацанов вскочили на ноги, выхватив топоры. «Деды» ретировались и больше не приходили.
А сейчас вот вспомнил случай из своего детства. Когда мне было 12 лет, родители «взяли дачу», то есть 4 сотки болотины без плодородного слоя. Землю мы с отцом наносили на носилках из ближайшего леса. Потом стали делать забор, для которого нужны были жерди. Отец тем временем строил дом, и ему было не до того, чтобы заниматься вырубкой жердей, это он доверял мне. И вот я ходил в лес с топором вырубать жерди. А в лесу уже тоже кое-какие участки нарезали, к ним я, конечно, не подходил, вырубая только бесхозный лес. Но владельцы одного из участков услышали стук топора и подумали, что это их лес рубят. И вот тащу я две жердины, а навстречу мне – два крепких сорокалетних мужика, а мне было тогда лет 14. Мужики, ни в чём не пытаясь разобраться, по всякому меня обматерили, один из них, приближаясь ко мне уже злобно крикнул: «Я те щас задам». А я перекинул топор с руки на руку и очень холодно ему сказал: «Попробуй». Мужик встал на месте, как вкопанный. Он так и не решился ко мне приблизиться. А я тем временем получил возможность объяснить им, что не приближался к их участкам. Когда я пересказал отцу эту ситуацию, он удовлетворённо хмыкнул.
Но это я отвлёкся, а отец тогда недолго проработал плотником, почему-то решив сменить дерево на железо, и устроился на речной флот. Ему было 19 лет, когда он работал рулевым-мотористом на «Ангаре». Однажды он почувствовал в области желудка сильную боль. Боль была такой страшной, что он катался по палубе, обхватив руками живот. А судно тогда подходило к Кириллову. В порт по рации вызвали «скорую» и оттуда его сразу привезли на операционный стол районной больницы. Это была прободная язва желудка. Оперировали под местным наркозом, отец рассказывал, что он всю операцию с хирургом разговаривал. Во время операции в больнице неожиданно погас свет. Хирург крикнул, чтобы со всей больницы несли керосиновые лампы. Ламп в больнице хватало, потому что свет вырубало часто. Вот так его и штопали при тусклом свете керосиновых коптилок.
Потом хирург сказал отцу, что если бы его привезли в больницу на полчаса позже, операция уже не потребовалась бы, ограничились бы вскрытием.А ведь то, что судно на момент прободения оказалось так близко к райцентру – чистая случайность, если, конечно, у Бога есть случайности. Тогда на волоске повисла не только жизнь отца, но и моя жизнь тоже – я бы не родился, если бы «Ангара» шла чуть дальше от Кириллова.
После той операции отец прожил ещё сорок лет, и все эти годы он страдал от язвенной болезни желудка, ежегодно ложился в больницу. Под конец жизни огромные язвы в желудке уже почти не заживали. Такую цену он заплатил за послевоенный голод. Ребёнок выжил, питаясь всякой дрянью, но бесследно такие вещи не проходят. Я в детстве питался не плохо, но у меня язвенная болезнь уже наследственная. И сейчас, когда во время обострения кусок не лезет мне в горло, я вспоминаю тот послевоенный голод, косивший людей задолго до моего рождения. У моего сына язвенная болезнь тоже наследственная, впрочем, у него она протекает мягче, чем у меня.
Отец вышел на пенсию по льготному речному стажу в 55 лет, продолжал работать, но не долго, вскоре свалился с инфарктом и оказался уже на инвалидности, а в 59 лет он умер.
Отец завещал похоронить его рядом с его мамой, и только на его похоронах я впервые обратил внимание на даты жизни бабушки – она тоже умерла в 59 лет, как и он. А его сестра, та самая, которая ещё в детстве работала на лесоповале, умерла в 54 года. К тому времени она уже несколько лет была на инвалидности. Они пережили тот голод, но он всё равно достал их и убил.
***
Из рассказов отца о детстве я помню ещё 2 случая. Однажды ему доверили пасти стадо колхозных свиней. И вот ему понравилось ездить верхом на самом здоровом и упитанном хряке. Голодавший ребёнок весил, как пушинка, а хряк, питавшийся куда лучше этого ребёнка, был здоров и упитан. Но потом ему крепко досталось от мамы, когда она об этом узнала. Она объяснила ему чуть не со слезами: «Юра, если бы ты сломал спину колхозному хряку, нам бы век не рассчитаться».
Отец говорил, что мама воспитывала его в основном коромыслом поперёк спины. Несчастной вдове солдата, оставшейся с четырьмя детьми на руках, было не до педагогических тонкостей. Впрочем, она была добрым мягким человеком, и отец её очень любил. Он говорил: «Когда мама умерла, я две недели в себя придти не мог».
И ещё был случай в его детстве. Они с товарищем заметили, что в заброшенный дом на краю деревни постоянно залетают и вылетают дикие пчёлы. Решили, что пчёлы устроили там улей, то есть можно полакомиться мёдом. А ведь они сладкого тогда вообще не ели, о существовании сахара знали лишь по наслышке, то есть мёд для них был куда соблазнительнее, чем был бы сейчас для нас. Однако, было страшно, они понимали, что пчёлы без боя мёд не отдадут. Всё-таки они решились: накинули рубахи на головы и ринулись в дом. Пчёлы их сильно покусали, но они вернулись с великолепным трофеем – большим восковым комком, внутри которого был мёд. Так Бог спасал голодных мальчишек, время от времени подбрасывая им то, что могло поддержать организм.
Отец говорил, что выжил только потому, что был самым младшим, его жалели и старались подкармливать. Если у них было что-нибудь такое, что делить не имело смысла, морковка какая-нибудь, это отдавали ему.
***
Когда отец уже работал на флоте, он поступил в 9-й класс вечерней школы, как это тогда называли – школа рабочей молодёжи. Учились, видимо, в холодное время года, когда не было навигации, и они работали на заводе. Смена заканчивалась в 17 часов, а в 18 – начинались занятия и шли до 21 часа. Такой режим обучения всегда казался мне подвигом и я искренне недоумевал – неужели человек может выдерживать такой режим в течение двух лет? Причём, прогуливать много не приходилось, потому что знания спрашивали очень серьёзно и троек просто так не ставили.
Когда я учился в старших классах обычной школы, мы знали, что тройку по любому предмету поставят просто так, работать надо было только для того, чтобы получить оценки выше тройки. А когда сам работал учителем в деревне и некоторое время вёл занятия в вечерней школе, это уже было откровенное глумление над здравым смыслом. Парни могли ходить на занятия, а могли и не ходить, это не имело никакого значения. Они приходили в школу лишь иногда, от скуки, что-либо узнать вообще не пытались, и что-либо спрашивать с них никому в голову не приходило. Они только числились в школе, и аттестаты им выдавали просто так.
Тогда, в начале 60-х, ученика, который не показывал по всем предметам удовлетворительных знаний, просто отчисляли из школы, и отец занимался по-настоящему. В его аттестате половина оценок – четвёрки. Особенно меня заворожила его четвёрка по тригонометрии. Я сей премудрости не превозмог и синуса от тангенса не отличал, сколько со мной не бились.
Я считаю, что отец совершил подвиг, вырвавшись из такой дикой среды, которую нам сейчас и представить невозможно. Сын матери, которая даже читать не умела, он превозмог все трудности и получил нормальное по тем временам образование. Он стал культурным человеком, любил читать художественную литературу, и это позволило мне дальше продвигаться по путям книжной мудрости. В области гуманитарной культуры я довольно быстро обогнал отца, и он по этому поводу немного комплексовал, но ведь я смог достичь своего уровня только благодаря его суперпрыжку из дикости в цивилизацию.
Когда он уже сошёл на берег и работал простым слесарем на судоремонтом заводе, его считали очень хорошим профессионалом. В этом деле есть очень узкая специализация – дефектовка. Это измерение бесчисленного количества зазоров в дизеле, которые составляют сотые доли миллиметра. Для этого требуются сложные приборы, но простого знания о том, как они приборы работают, оказывается недостаточно, там необходимо какое-то особого рода чутьё, которое мало у кого есть. Дефектовщик на заводе был только один, он не мог никого обучить своему делу – ни у кого не получалось. Отец пошёл к нему в обучение и овладел этой премудростью. Вскоре он уже был единственным дефектовщиком на заводе.
У него было множество приборов, под которые ему выделили особый кабинет. Иногда коллеги шутили в его адрес: «Слесарь с личным кабинетом». Он был первым, лучшим. Стремился ли он к этому когда-нибудь? Думаю, что нет. Он всего лишь был самим собой.
Мы с отцом были довольно разными людьми, и я только с годами начал понимать, как много во мне от него, как много он мне дал. Помню, он говорил: «Знаешь, Серёга, как в жизни бывает? Одни делают ремонт, а другие стоят за спиной и ключи подают. Так вот я ключи никогда не подавал, мне их подавали».
Потом, когда я стал журналистом, он любил слушать мои рассказы о работе. Как-то я рассказывал ему про одну тему, которую мне удалось раскопать. Он говорит: «Серёж, ты бы не лез в это дело, а то неприятностей не оберёшься». Я ему ответил: «Папа, я никогда не стоял за спиной у других и ключей не подавал». Он молча улыбнулся и кивнул.
В журналистике я сделал по тем временам карьеру головокружительную – за 6 лет прошёл путь от корреспондента районной газеты до заместителя главного редактора крупнейшей областной газеты. Отца моя карьера восхищала, и я был очень рад тому, что мне удалось стать профессионалом в своём деле, так же, как и ему в своём. Были направления, в которых я был первым, лучшим. Стремился ли я когда-нибудь к тому, чтобы быть первым? Нет, никогда. Но я всегда хотел реализовать себя по максимуму. Это во мне от отца.