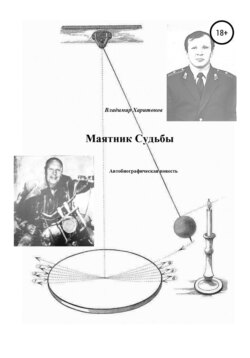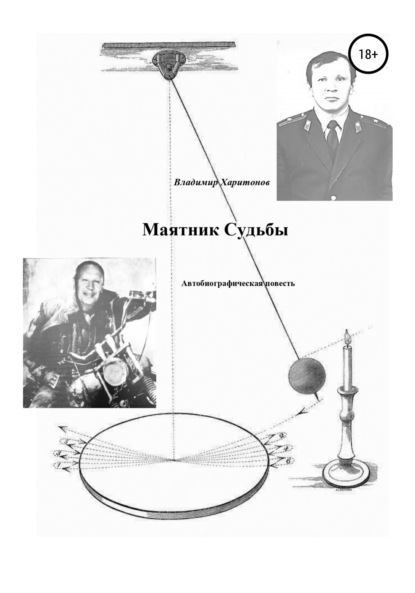Эти записи сделаны в карцере СИЗО города Иваново о реальных случаях из моей очень интересной жизни… При дальнейшем редактировании, уже на воле, добавлялись новые сюжеты, «расширялись» старые.
Пролог
Холодный карцер СИЗО №1 города Иваново. На каменных толстых стенах всюду видны капли конденсата. Словно сам камень льет слезы по своим пленникам день и ночь, независимо от времени года. Большая часть камеры находится под землей по самые окна; они вместо стекла закрыты полупрозрачным целлофаном. Вечное царство холода и сырости, в которое так неожиданно забросила меня судьба. Я старался обогреть его, цепляясь своей памятью за то далекое, невозвратное, но такое теплое прошлое. Сидел на деревянном настиле, заменяющем кровать, на коленях – новая общая тетрадь, в правой руке ручка. Хотел описать свою жизнь и не знал, с чего начать. Мысль летала от одного фрагмента памяти к другому и не могла ни за что зацепиться. Оказалось не так просто выбрать событие, связанное невидимой нитью со всеми другими эпизодами, все равно, что начать жизнь с чистого листа.
Свой день рождения в далеком тысяча девятьсот пятьдесят пятом году тридцатого июня я не помню, как и абсолютное большинство людей, живущих на Земле. Хотя, оказывается, есть и такие уникумы, чья память начинается прямо с момента появления на свет – читал о них в интернете. Итак, с чего начать свой рассказ? Пожалуй, начну с середины, с исповеди батюшке Владиславу в храме села Горки, расположенном километрах в десяти от родного города Кинешмы.
Главной достопримечательностью этого храма, безусловно, является икона Божией Матери «Всех скорбящих радость». История ее появления здесь просто поражает воображение. Она до Великой Отечественной войны, находилась в церкви села Велизанец Кинешемского района, и была очень почитаема местными жителями. Но перед самым началом всемирной бойни храм загорелся, как знак приближающейся большой беды. Откуда-то появился очень смелый подросток четырнадцати лет по имени Валентин.
При нем оказался топор, и он через церковное окно проник вовнутрь, так как сама дверь была объята пламенем. Всенародную любимицу подросток разрубил на три части и вытащил их через то же оконце. Следом вылез сам. Взрослые не решились на то, что сделал, по сути ребенок! Икону, после этого решили везти на телеге с запряженной лошадью в храм села Горки, примерно за десять километров. Однако кобыла шла почему-то очень неохотно. На мосту повозка встала, и как ни погонял извозчик свою «тягловую силу», она не реагировала. Священник, передвигаясь на коленях по земле к мосту, умолял икону войти к нему в храм. Вдруг лошадь без понуканий тронулась, и «Всех скорбящих радость» обрела новое место «жительства»…
Батюшка Владислав примерно моих лет, а мне тогда было где – то сорок пять. Да, да, именно в этом возрасте я исповедался впервые. Хорошо помню, как дорогой в машине, сидя за рулем, пытался вспомнить свои грехи и не мог сделать это – одни «заслуги» и «благодеяния» перед Богом и людьми, приходили на ум. У подножия храма возникла крамольная мысль: «удивлю сейчас батюшку своей «святостью»; таких честных, принципиальных и добрых людей он, наверное, еще не встречал».
Кстати сказать, само желание прикоснуться к этому таинству возникло у меня, только ради того, чтобы потом причаститься. Батюшка был строг, и все ритуалы соблюдал так, как предписывали правила богослужения. На службу, которая проходила в этот день с утра, я немного опоздал, но отстоял ее до конца, как и потом небольшую очередь на исповедь.
– Ну, сын мой, начинай рассказывать о грехах своих, – обратился священник ко мне. А я… не знал, с чего и начать. Образовалась неловкая заминка, и батюшка стал подсказывать, перебирая обычные наши пороки, на которые мы в обыденной жизни и внимания то не обращаем; «…каверзные помышления, объядение, пьянство, сквернословие…». На ум пришли подобные примеры из моей жизни и, наконец, я начал говорить. Грехи вспоминались и вспоминались, и казалось, им не будет конца …
Возникло ощущение загубленной души, из глаз обильно полились слезы сожаления и раскаяния, говорить становилось все тяжелее и тяжелее… Всхлипывая, я обратился к отцу Владиславу:
– Сегодня не могу исповедоваться, давайте, приду к вам потом, в другой день.
Однако батюшка заверил, что именно так и должно происходить покаяние и потребовал продолжать. Короче, причащать в этот день он меня отказался, и, выйдя из храма, я почувствовал не облегчение, как обычно говорят в таких случаях прихожане, а наоборот, огромную тяжесть на душе; я словно ощущал – хуже меня в этом мире человека просто не существовало. Думаю, исповедь не списывает с человека его грехи, а заставляет их увидеть…
Забегая вперед, могу подобное сказать и о своих карцерных записях: имел намерение описать геройские подвиги почти сверхчеловека. А когда в дальнейшем перечитывал и редактировал написанное, понял что геройского ничего я и не сделал. Тысячу раз можно оказывается поступить иначе, но изменить уже ничего нельзя, и в своем повествовании буду максимально придерживаться пусть горькой, но исповедальной правды…
Иногда я задумывался, почему, когда размышляешь о своей жизни в прошлом, вспоминаются именно эти моменты, а не другие, порой более яркие и интересные. И именно в этой последовательности, а не в хронологическом порядке. Мне кажется, что каждое событие сегодняшнего дня связано невидимой ниточкой через нас с конкретным событием в прошлом, поэтому память так избирательна. Попробую провести некие параллели между свежими событиями и далекими в своих рассказах о студенческих и детских годах…
Глава 1. Эх, детство – время золотое
Мой отец, Юрий Логинович, трудился с пятнадцати лет. Шла война, и он как мог, помогал своим родителям. Семья у них была большая, более десяти человек, но в те времена это считалось обычным явлением. Правда, лично я знал только свою бабушку Орину, мать моего отца, и его сестру Екатерину. Она жила с мужем Анатолием и сыном Владимиром – моим погодком, в поселке Нерль. Наша семья переехала сюда из деревни Бушарихи, расположенной в десяти километрах, когда мне исполнилось три года.
Рабочий поселок состоял из частных в основном деревянных одноэтажных домов. Правда, ближе к центру стояли и несколько «казенных» двухэтажных каменных зданий. «Казенными» их называли потому, что они принадлежали толи ткацким фабрикам, коих имелось целых две, толи государству. Всего проживало около двух тысяч человек, в основном рабочих фабрик или МТС. Последняя аббревиатура обозначает машинно – тракторную станцию, которая обслуживала техникой местные колхозы. В центре находился промтоварный магазин, где можно купить товары для дома и хозяйства. Продовольственные лавки с нехитрыми продуктами разбросаны по разным частям Нерли для удобства проживающих здесь людей. Такое название селения имеет явно мордовские корни. А в трех километрах от поселка протекает одноименная речка. Со всех сторон поселок окружен смешанными лесами, в коих прячутся и небольшие деревеньки. Обычная российская глубинка…
Бабушка Орина меня не любила и, надо признать, для этого имелись существенные причины… Некоторое время она жила с нами в доме, построенном лично отцом в неоднократно упоминаемом и любимом мною поселке. Человеком она была верующим: хорошо помню, как по утрам и вечерам она читала молитвы под иконами. При этом стояла с очень строгим и сосредоточенным взглядом, обращенным в молитвенник. Родительский дом, рубленный из добротных бревен, имел всего одну комнату, она же являлась и спальней. Правда, имелась еще маленькая кухонька, основную площадь которой занимала большая печь с лежаком. На нем любила спать бабушка. Вот на кухне в углу и стояли эти иконки под самым потолком на специальной деревянной полочке…
Имелся, конечно, и большой не отапливаемый двор, пристроенный к дому сзади, в котором жили куры. А справа к дому примыкала терраса, в которой тоже не отапливалось, зато стоял большой старинный сундук. В нем хранилось «ненужное барахло», которое жалко выбрасывать. Вдруг когда-нибудь для каких-то целей и понадобится. Однако любил я в нем порыться – старинные платья, мужские пальто, непонятные предметы, назначение которых я не понимал, старые фотографии в рамках под стеклом…
Вместе с другими одноклассниками в третьем классе меня приняли в пионеры. В советских школах данное значимое событие происходило при достижении девяти-десяти лет. И неокрепшим детским душам открыто и навязчиво прививался атеизм. Только за это с высоты прожитых лет я имею право не очень любить советскую идеологию. Придя домой из школы по зиме, и, видя, что никого нет дома, я забрал все иконы бабушки, шесть или семь штук. Как помню, они небольшого размера, на вид довольно старые. Я вынес их на улицу и положил в снег на большак, как тогда называли проселочные дороги. Проезжающий гусеничный трактор раздавил иконки на мелкие кусочки. Кстати сказать, водитель трактора их, наверное, не видел, ведь сверху я иконки присыпал снежком. Самое обидное для матери отца оказалось то, что меня за это не наказали, вообще никак, сам не знаю почему…
Удивительно, но в настоящее время я сам стал реально верующим человеком. Часто приходилось слышать вопрос, что же подвигло меня к вере в Бога. А как не уверовать в тех условиях, ставшим образом жизни, когда ты один в четырех каменных стенах, без крошки пищи в желудке? В карцерах я принципиально не кушал, только пил воду из крана. Если не верить органам чувств и зрения, а просто знать, что рядом находится невидимый Ангел-хранитель и даже… сам Господь, то все невзгоды переносятся значительно легче. Вера помогает принять и очевидную несправедливость обвинения. Беззаконие не кажется таким обидным и незаслуженным. Конечно, можно взывать к Небесам: «За что Ты со мной так, я же не виноват?», тогда злоба реально наполнит сердце. Вся суть, мне кажется, в правильной постановке вопроса, тогда получишь и правильный ответ. Если спросить: «Ради чего мне посылаются такие скорби? Какое благодеяние через них ты уготовил мне, Господи?». Тогда ответ придет сам собой – «Ради того, чтобы уверовал и не потерял то, что для тебя назначено Отцом Небесным». Впрочем, веру в Бога навязывать никому нельзя, это дело каждого – верить, не верить…
Как все рабочие люди отец любил выпить, в свободное от работы время. Но маме это все равно не нравилось, как любой женщине и он, не желая ее обижать лишний раз и выслушивать упреки, искал «нестандартные» пути удовлетворения своей жажды. За десять километров от поселка, в небольшой деревушке Бушариха, где я и родился, проживала моя бабушка по линии матери Прасковья Павловна – женщина пожилая, но с трезвым мышлением и хорошим чувством юмора. Кстати сказать, с этой бабушкой мне реально повезло – она любила меня так, как только может любить бабушка и никто другой.
Как то под Новый год глава нашего семейства предложил мне съездить с ним на лыжах в лес за елкой. Я, не понимая коварного замысла, конечно, согласился. Надо сказать, что этот праздник для меня являлся самым главным. Нарядная елка дома, обязательные подарки для детей придавали этому событию особенную значимость. Прекрасное настроение появлялось уже в преддверии праздника. А мой день рождения, например, никогда вроде и не отмечали. Даже вообще забывали порой, все члены семьи, включая и меня самого.
В тот зимний, морозный день мы долго бродили по волшебному лесу. Огромные березы, сосны и ели стояли украшенные снеговыми шапками в какой-то чарующей тишине, присущей только глухой чащобе. Через кроны деревьев еле пробивался свет, тем более что день выдался пасмурным. Снега в те времена выпадало много, а в лесу он казался довольно глубоким и рыхлым. Поэтому и я, и отец передвигались на лыжах, привязанных к валенкам веревками. Тогда многие даже и не знали о существовании лыж с ботинками и специальными креплениями.
По ходу движения мы почему-то неизменно приближались к Бушарихе, хотя лес там не хуже и не лучше, чем прямо за поселком. Даже когда нашли подходящую елочку, то рубить ее сразу не стали, мол, заберем ее на обратной дороге, заверил родитель, а попали… прямо к родной Прасковье Павловне. Естественно, мы оба замерзли, в те времена зимы бывали всегда морозными, не то, что сейчас. Само собой разумеется, что Юрий Логинович попросил у своей тещи «напитку для согреву», зная, что у бабки самогон всегда водился.
Жила она одна – дров привезти, наколоть, приходилось просить мужиков, а они брали плату только «напитком». Как «правильная» теща, немного поворчав для порядка, но без особого сопротивления она сдалась и принесла бутылку первача. Отец, выпив залпом сто пятьдесят – двести граммов, подобрел. Много шутил, смеялся, а затем вышел на улицу покурить. Бабка, зачем-то ушла на минутку в комнату, и я на кухне оказался один. Между тем, в отцовском стакане осталось немного самогона, и я глотнул крепкого первача, полагая что «никто не узнает и не заметит». Так впервые мой неокрепший организм попробовал алкоголь…
Глава семейства к подобному «действу» подходил очень строго, и своим детям внушал не прикасаться к крепким напиткам вообще никогда, называя их ядом. Кстати, при таком воспитании до двадцати пяти лет я выпивал очень и очень редко, отдавая предпочтение спорту. А в тот день, для моих одиннадцати лет глоток бабкиного зелья оказался перебором. Когда шли на лыжах домой, я – позади отца, помню, как искрился и скрипел под лыжами предновогодний снег, видел спину отца и какие – то круги перед глазами, которые приближались, множились и вертелись вокруг меня. Голова кружилась вместе с ними, и, в конце концов, я упал, воткнувшись в глубокий снег. Освободить ноги от лыж не смог, кричать – тоже, да и руки совсем не слушались. Хорошо, что отец обернулся, увидел меня «в позе напуганного страуса», вытащил из сугроба и водрузил, словно кулек с песком, себе на спину вместе с лыжами. В общем, за елкой он съездил на следующий день и без меня. И я так и не понял – заметил родитель причину моей «чрезмерной усталости» или нет, но наказания и даже разговора на эту тему не последовало…
…Как порой не хватало мне в тюрьме, для снятия стресса глотка бабкиного чудного лекарства! Однако не могу сказать, что я вел там абсолютно трезвый образ жизни, время от времени алкоголь у нас появлялся. Тюремные специалисты умудрялись за одни сутки из черных хлебных корок и сахара приготовить сорокаградусный напиток хорошего качества. Но случалось это не так часто, как хотелось. А сейчас пока сижу на деревянном настиле вместо кровати, голодный в холодном каменном мешке и надеюсь на то, что рано или поздно наступят лучшие времена. Без веры в эти самые «лучшие времена» в тюрьме можно сойти с ума…
Надо прямо сказать, что рос я, как тогда говорили, большим баловником. Хорошо помню, как однажды по весне, мы – мальчишки от семи до двенадцати лет, решили покататься на льдинах по любимой нами речке Нерль. Когда наступал ледоход, обломки льда разного размера не спеша плыли по течению; некоторые – близко к берегу, на них можно без труда запрыгнуть. Для управления природными плотами служили сломанные сухие и не очень толстые деревья, стоявшие вдоль реки. Нас оказалось тогда шесть друзей, со мной как всегда средний брат Виктор. Снег в основном уже сошел, но свежая трава еще не проросла, и деревья стояли «голые». Впрочем, весеннее солнышко прогрело воздух до пятнадцати градусов тепла и все оделись довольно легко.
Катались весело, но как это обычно бывает, оказались «по самые уши» в ледяной воде. Опыт выхода из экстремальных ситуаций у всех имелся: разожгли костер на Воробьевых горах и стали греться и сушить одежду. Крепили ее на палках и держали над огнем. При этом стояли в одних «семейных» трусах, приближаясь к костру на максимально возможное расстояние. В общем, не холодно, да и подобные приключения подростков во все времена привлекали возможностью ощутить независимость от взрослых.
В детских компаниях всегда находился кто-то, считавший себя старшим и почти взрослым. У нас им являлся Мишка Саватеев. У него всегда имелись сигареты и спички – главный признак «взрослости». Пацанам, признающим его старшинство, Мишка внушал, что родители проявляют лояльность к его табачным увлечениям. И мы почему-то ему верили. Возле костра сигарета пошла по кругу и вскоре дошла до Вовки Снагина, самого младшего из нас. Вдруг его глаза округлились от ужаса, а сигарета, которую он почему-то пытался выплюнуть, намертво прилипла к выделениям из носа. Все непроизвольно поглядели туда, куда и он… А там стоял отец с велосипедом и, как мне показалось, хитро и мстительно улыбался. Однако он спокойно приказал мне и брату: «Домой!».
И мы пошли, опустив головы, понимая неизбежность кары. По «сидячему месту» заранее бежали мурашки, и когда они достигли моего детского мозга, то в нем созрел план, и появилась надежда. Я с детства рос «мастером» различных тактических хитростей. Тихонько чтобы не слышал отец, шепнул восьмилетнему брату:
– Как подойдем к дому, ты беги, а я один потерплю эту порку. Чай, не первый раз.
Брат, оценив мое «благородство», согласился и, подойдя к дому, быстро побежал, а я остался на месте будущей «казни». Но, как и надеялся, сработал «охотничий инстинкт» отца, и он на велосипеде, показательно не спеша поехал за неразумной жертвой. Стоя у калитки, я видел, что страх добавил брату скорости, и он закончил первый круг по двум соседним улицам лидером возникшей гонки. А я использовал запрещенный прием – крикнул, что отец догоняет, и брат рванул на второй круг с еще большим усердием. Но не зря кто-то изобрел колесо, подарив человечеству скорость, и незадачливый беглец был вынужден сдаться. Когда отец за шиворот, словно щенка, притащил Виктора к дому, он на правах «маленького» сразу «сдал» меня назвав инициатором побега. Отец все понял, долго в результате смеялся, зато наказания в этот раз нам удалось избежать.
…Не случайно, думаю, этот случай вспомнился в следственном изоляторе. Он как то ассоциировался с моей жизнью в девяностых годах, после увольнения из милиции. Обдумывая свое положение и причины, которые привели меня сюда, я понял – мой образ жизни представлял собой такое же ненадежное плавание, которое в детстве закончилось падением в воду, а теперь тюрьмой. И так же, по большому счету, удалось избежать серьезного наказания. Само нахождение в казематах на улице Болотной таковым по закону не является – это ожидание кары, пусть и несправедливой, как показало время…
Хорошо помню еще один случай из детства. Русский язык и литературу в нашей школе преподавала прекрасная учительница – Кукушкина Лидия Павловна. Ученики иногда бывали у нее дома в гостях. Она охотно знакомила с домашней библиотекой, угощала яблоками из своего сада. Однако оказалась у нее неизлечимая болезнь – рак крови или, как в народе говорили, белокровие. Конечно, она об этом никогда своим ученикам не рассказывала и в одночасье тихо умерла. Все воспитанники пришли провожать ее в последний путь. А я где-то прочитал, что по истечению сорока дней из могилы начинает выделяться фосфор, и в темное время суток видно свечение. Столь обширными познаниями я поделился с друзьями, и мы решили на сороковой день ночью навестить любимую учительницу. Решились на столь безумный поступок пять-шесть пацанов в возрасте одиннадцати – тринадцати лет. Кладбище находилось в трех километрах от поселка Нерль, в лесу возле деревни Пырьевка. Возможно, Лидия Павловна там ранее жила.
И вот около полуночи мы по железной дороге, точнее по шпалам, под которые приходилось приспосабливать шаг, подошли к деревянной ограде кладбища. Надо сказать, что справа и слева от нашего движения, плотной стеной стоял смешанный лес. В это время суток он выглядел довольно мрачно. Середина лета, на улице достаточно тепло, соответственно, и одеты все в легкую одежку. Калитку искать не стали, перемахнули через деревянный невысокий забор. Конечно, с собой у нас оказалось несколько фонариков. Долго ходили меж могил, стараясь найти заветный холмик, и наконец, поиск увенчался успехом. Однако никакого свечения над местом захоронения не оказалось, и мы разочарованные поплелись обратно.
Я знал несколько «страшных» рассказов, суть которых сводилась к тому, что в конце страшилки необходимо перейти на шепот, и внезапным для слушателей криком, озвучить концовку. Обычно слушатели непроизвольно вздрагивают, иногда даже вскрикивают. Рассказывать подобные истории я любил и умел. Пока мы шли по мрачному месту к заборчику, я начал очередную байку. С нами увязался самый младший по возрасту и маленький по росту Витя Шенягин, который сам решил всех напугать. Не дожидаясь финала моего рассказа, он внезапно, что есть мочи заорал. На моей голове красовалась настоящая солдатская пилотка – тогда для ребят моего возраста это был самый модный головной убор. Как и где мы их доставали – отдельный разговор. Никогда бы не подумал, что волосы обладают своими «мышцами», и когда человек пугается, способны поднять головной убор сантиметра на два. Но оказалось именно так.
Все рванули в сторону поселка, забора даже не заметили, просто перелетели. Только Шенягин преодолеть препятствие смог с большим трудом, порвав при этом одежду. Три километра вдоль железнодорожных путей пробежали со скоростью локомотива, и оказались на окраине поселка в безопасности,… а Виктора-то нет! Пошли назад, ему навстречу. Примерно на половине пути увидели «явление народу». Оно еле двигалось по шпалам в порванных штанишках, испуганное и зареванное. «Прежде, чем пугать других, не напугаться бы самому», – подумал я…
…Сидя в карцере и вспоминая эту детскую историю, почему-то пришло на ум странное совпадение. Следователь Костина тоже пугала нас огромными сроками и предлагала «пойти на сделку со следствием», чтобы его уменьшить. Пугала, пугала, а в итоге напугалась сама, когда нас полностью оправдал областной суд. Ведь она рисковала потерять все, в том числе и свободу. Но кто – то нажал на нужные кнопки, и следачка отделалась «легким испугом»…
Атеизм, который нам прививали в школе, зачастую порождает вседозволенность, особенно тогда, когда «никто не видит, и никто не узнает». Прямо напротив нашего дома № 36 по улице Октябрьской находился искусственный пруд. Его в целях пожарной безопасности вырыли экскаватором рядом с детским садиком. Иногда мы в нем купались, несмотря на мутную воду. А зимой для нас это и каток и хоккейная площадка одновременно. Как то летом я увидел на берегу водоема стаю воробьев, весело чирикающих и играющих между собой в густой и достаточно высокой траве. Всего около тридцати летающих озорников, которые, впрочем, никому они не мешали. На улице лето, прекрасная солнечная погода, которая очевидно радовала не только людей.
А во мне проснулся охотничий азарт. Тихонько пробравшись под обрывом берега, я поднял попавший под руку камень и кинул его в самую середину воробьиной стаи. При этом явно допускал, что могу покалечить или даже убить одного, а то и двух летающих непосед. Странно, но я в душе даже желал этого… Птички с шумом улетели, но не все – один оказался подбитым. Он беспомощно бился на земле и не мог взлететь. Я подошел, взял его на руки и… заревел, видя результат своего неразумного поступка. В свои одиннадцать-двенадцать лет, и я никак не мог понять, почему и зачем искалечил живое существо, которое плохого мне ничего не сделало. Ведь я любил всех животных, ну, кроме змей, к которым всегда питал неприязнь и даже испытывал ужас при их виде. Серого подранка принес домой, положил перед ним хлеб и воду, надеясь что он выживет и я таким образом искуплю свою вину. Но к вечеру птичка умерла…
…Тогда я не задумывался о том, что зло причиненное другим рано или поздно возвращается «по закону бумеранга». И все про это вроде бы знают… Как правило, оно вспоминается тогда, когда сам начинаешь страдать от него или, когда есть время для размышлений, как в моем случае. Ведь вспомнил про этот постыдный для меня поступок не где-нибудь, а в карцере тюрьмы. И думается мне – это опять же не случайно…
Почему-то всплыла в памяти именно здесь и первая настоящая физическая боль, которую мне пришлось испытать. Исполнилось мне тогда лет двенадцать – тринадцать, а может и меньше. Прямо напротив моего дома, за дорогой и рядом с прудом, машинно-тракторная станция (МТС) строила для своих рабочих целый микрорайон двухэтажных кирпичных домиков, каждый на два подъезда, для двенадцати семей. По воскресеньям строители отдыхали, и для нас, подростков, недостроенные дома являлись своеобразным полигоном для детских шалостей. И в прятки там играли, и в войну – одни защищали «крепость», другие атаковали ее. Причем применяли как «огнестрельное» оружие, так и холодное – деревянные мечи.
Для подъема кирпичей на второй этаж строители использовали электрический подъемник. И вот один умелец, мой друг и погодок Колька Петухов, умудрился изготовить ключ из проволоки для включения лебедки, как мы называли это приспособление. Можно ухватиться за крюк на тросе и подняться прямо на второй этаж, а при обратном включении – вернуться на землю. Почти полет с помощью электрической тяги. Присутствовал еще один друг и ровесник, Вовка Сизов, который и управлял включением и реверсом подъемника. Но что-то пошло не так в то время, когда я довольно быстро начал подниматься к небесам…
Подъемная машина вовремя не выключилась, трос оборвался и я стремительно, без парашюта, приземлился на кучу новых белых кирпичей. При этом непонятным образом моя левая рука оказалась под задним местом и приняла на себя всю силу удара. Неимоверная боль пронзила тело, а когда я посмотрел на свою конечность, увидел самый настоящий перелом. Рука выглядела неестественно кривой. Произошло сие событие около шестнадцати часов дня в воскресенье. Прибежал домой, мама сразу потащила меня в поселковую больницу, где трудился единственный хирург по фамилии Коломин. Странное совпадение, но именно в его дочку в школьные годы я оказался по-детски влюблен. Свой законный выходной врач проводил на рыбалке, значит, придется терпеть невероятную для ребенка боль до понедельника.
А родителям утром в пять часов необходимо идти на работу, на ткацкую фабрику в селе Кибердино, расположенном в двух-трех километрах от нашего дома. Весь вечер и ночь я просидел на кухне за обеденным столом при включенном свете и при этом тихо стонал. Отец пытался спать, а мать каждый час вставала и проверяла мое самочувствие. А оно практически отсутствовало… Боль реально сильная, казалось, что от руки она расползалась по всему телу, заполняла все его органы, включая голову, ни на минуту не давая возможности забыться. Шину наложить никто не догадался, хотя она могла бы облегчить страдания, и я терпел, как мог, что называется из последних сил. Впервые в жизни появилась спасительная мысль, что рано или поздно это все закончится…
Она, кстати, помогала мне и позже, когда становилось нестерпимо тяжело или больно. Практически не поспав, Юрий Логинович на работу все-таки ушел – в те времена нарушители наказывались очень строго, а мать решилась на прогул. В восемь часов утра мы уже сидели в больнице, ждали, когда проспится мой несостоявшийся тесть. Он оказался высоким и широкоплечим мужчиной с доброй улыбкой, а белый халат добавлял ему доверия с моей стороны. Привязав за плечо полотенцем пострадавшую конечность к ручке двери медицинского кабинета, хирург неожиданно для меня с силой дернул за кисть. Что-то хрустнуло, боль пронзила насквозь все тело, но зато рука приобрела более естественный внешний вид. До сих пор помню, что при падении случился перелом лучевой кости. Доктор наложил временную шину и повел в рентгеновский кабинет – проверить результат своего труда. Однако он ему, видимо не понравился. Ничего мне не объясняя, он снял шину, и попросил опереться больной рукой о стол, и та опять стала совсем кривой со всеми сопутствующими ощущениями. Вторая попытка поставить кость на место оказалась более удачной. Наложили гипс, и целый месяц я гулял, как раненый боец, с подвешенной на бинтах рукой.
…Когда закончил описывать этот случай, задумался… Мысль развивалась вслед за дальнейшими размышлениями о справедливости. Не той – субъективной, человеческой, а высшей, порой для нас непонятной. Сделал когда – то больно другому, не возмущайся, когда и самому станет больно… Мелькнула догадка: может это наказание небес за загубленного воробья? Или за иконы? Или за какой-то другой неблаговидный поступок, который и в голову-то пока не приходит? Но ведь все люди, за редким исключением, совершают иногда явные нарушения десяти библейских заповедей. Получается, что человечество постоянно терпит наказание от Бога? И в чем тогда смысл, что он создал нас такими? Дал нам свободу выбора в поступках, а теперь наказывает? Уснул я с мыслью, что, по-видимому, методом «кнута и пряника» Он делает нас лучше, спасает от самих себя…
…Однако наша детская банда не только хулиганила, а и занималась иногда общественно полезным трудом. В возрасте двенадцати-тринадцати лет я в поселковой библиотеке, а посещал я ее регулярно, взял почитать книгу «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Прочитал сам, дал почитать друзьям,…и решили мы, кроме меня Мишка Снагин, Колька Петухов и мой брат Виктор, продолжить инициативу главного героя. По весне ночью вскопали землю на огородах пожилых людей. Правда, участки отобрали только те, что находились перед домом, а не за забором. Одна неблагодарная старенькая женщина, не поняв благородства нашего поступка, написала заявление поселковому участковому. Мол, «незнакомые граждане пытаются отнять у меня участок земли и уже вспахали его»… Тогда я впервые понял, что добро почти всегда наказуемо. Тимуровская команда прекратила существование…
И я, и все мои друзья любили животных, а лошадей так просто обожали. Прокатиться на спине одной из них являлось мечтой любого подростка. У меня появилась идея, озвучил я ее всем бывшим «тимуровцам»:
– Пацаны, давайте на летние каникулы устроимся работать в колхоз на конюшню. И денег заработаем и на лошадях покатаемся досыта.
Идея понравилось, никому и в голову не пришло, что в таком возрасте на работу никто не возьмет. Однако выбрали колхоз поближе к поселку и явились к председателю. Его кабинет нам показался большим, а сам он очень важным. Дрожащим голосом я заявил:
–Дяденька председатель, возьмите нас на работу, на конюшню не пожалеете…
– Ну, взять вас официально я не могу, малы больно. Да и конюх у меня есть. Но я могу его попросить, чтобы разрешил вам помогать ему. Будет от вас польза немного и денег дам. Приходите завтра часикам в восьми утра прямо на конюшню.