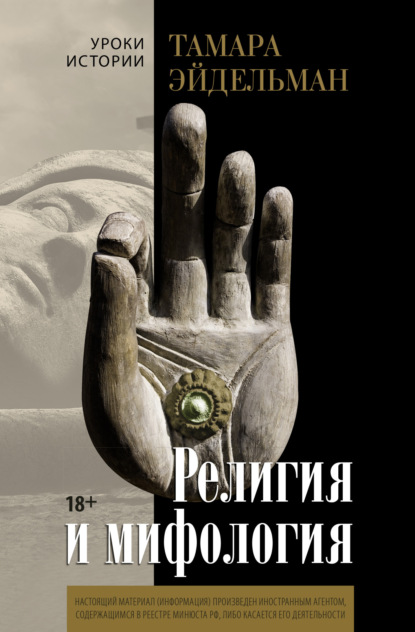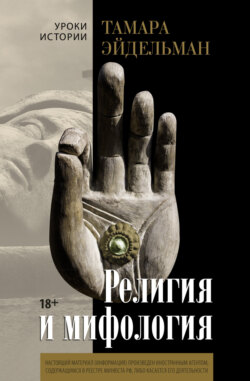
000
ОтложитьЧитал

Волшебные времена года: Йоль, Самайн, Белтан. Викканский календарь солнцестояния

Л. Питч. «Бог Фрейр верхом на кабане Гуллинбраше». 1865 г.
В древней Скандинавии, в древнегерманских землях Йоль тоже был связан с особым поленом, которое поджигали или долго хранили. С огнями, которых надо было зажечь как можно больше. Со сладостями и большим-большим пиром. Это можно объяснить вполне рационально: зима, витаминов не хватает, темнота, холод, – надо есть больше жирного, сладкого. Естественно, крестьяне в деревнях все время себе это позволить не могут, зато уж в праздник надо наесться до отвала, причем именно такой еды, которая поможет пережить зиму. И в этом, наверное, есть резон. Но, с другой стороны, здесь определенно заметен и магический смысл. Поедая все жирное и сладкое, люди как будто наколдовывают себе, – а мы еще выясним, почему именно в это время, – что весь год будет таким жирным, сладким.
Мы и сами на Новый год обжираемся не просто так, а исполняем древний обряд, приговаривая «как Новый год встретишь, так его и проведешь». В самых разных странах, начиная с древнего Рима и до русских деревень, было принято на Новый год есть свинину. А на Йоль любили есть ветчину, то есть тоже обработанную свинину. Почему? Есть очевидная связь: кабан был ездовым животным Фрейра – скандинавского бога плодородия, мира, процветания и мужской силы. Но под этой связью лежат древнейшие представления о свинье как о божестве, об очень мощном тотеме, символе плодовитости (вон сколько у свиньи поросят!), это тоже знак будущего плодородия. Пожирание жертвы всегда, с древнейших времен, – это как бы причащение к ней, приобщение к ее силе, соединение с ней: вот и у нас тоже так все будет, как у свиней. В хорошем смысле! Будет много всего – будет много жирного, сладкого, еды, богатства, потомков. Будет много света! – заклинают люди свое будущее, зажигая как можно больше огней.
Сатурналии
Другой древний праздник, чьи традиции очень хорошо прослеживаются до сегодняшнего дня, – это знаменитые римские Сатурналии, которые как раз происходили в середине – второй половине декабря. Прежде всего известно, что в Сатурналиях происходило выворачивание мира наизнанку. Рабов сажали за стол – они пировали, как господа, господа же переодевались в рабскую одежду и им прислуживали. Иногда это объясняли как попытку уменьшить эксплуатацию, но в действительности перед нами, конечно, вовсе не праздник борьбы с эксплуатацией раз в году, а все тот же карнавал, который происходит весной и зимой, когда люди из века в век истово переворачивают все наизнанку, с ног на голову, разрушают иерархии, ломают границы между земным и потусторонним[15].
В этом особом вывернутом мире карнавала, как в подземном Египте, куда отправляется Ра, контакт с предками особенно легок. Люди, переодеваясь, как будто бы изображают из себя предков. Или оказывают уважение предкам, напоминают им о родстве. Они такие же, как те великие и могучие силы, наблюдающие за ними из загробного мира.
Поэтому переодевание господ в рабов во время римских Сатурналий было, конечно, не случайно, а связано с типичным ритуалом переворачивания мира, когда происходит встреча с духами, с предками. Кстати, Сатурн – божество земледелия. Что делает земледелец? Он бросает зерна в землю, они там умирают, уходят в подземный мир и выходят оттуда снова. За это вечное обновление, круговращение жизни и смерти отвечает Сатурн. За вечное возрождение, за вечное повторяющееся плодородие. И поэтому малопристойные шутки, которые были вполне возможны в Сатурналии, – это тоже заклинание плодородия, обращение к творящим силам природы. И то, что в Каталонии рождественское бревно занимается каким-то странным делом и все время извергает фекалии в виде подарков – это воспоминание о древних верованиях и культах плодородия, изобилия. То, что великий филолог и философ Михаил Михайлович Бахтин назвал бы обращением к материально-телесному низу, то, что кажется нам таким неприличным, в рамках карнавальной культуры – это заклинание плодородия[16].
Что еще происходило в Сатурналии? Зажигали множество светильников. Понятно, что в Риме декабрь не такой холодный, как в Германии или России, но и здесь тоже освещали ночь. Пировали, ели сладкое и жирное, конечно же. Так же, как и у скандинавов – свинину. Дарили друг другу подарки. То есть делали вещи, удивительно похожие на те, что делаем мы. Разве что мы не переодеваемся, нет у нас господ и рабов. Сегодня реликты карнавальной культуры можно обнаружить в детских развлечениях, и когда детки в садиках или школах изображают снежинок, одеваются зайчиками, медвежатами, волками, поросятами или кем-то еще, как ни странно, конечно, это воспоминание о древних переодеваниях.

Э. Бионди. «Сатурналии».Скульптура в ботаническом саду Карлоса Тайса, Аргентина
Святки
На Руси зимним праздником были Святки. Как пишет Н. И. Толстой, Святки – это тот кусочек годового круга, который выпадает из общего плавного движения, нарушает законы повседневности. Это кусочек зимних праздников, когда выходят все, кого позже назвали нечистью. Все эти духи вылезают на поверхность, и они невероятно сильны. Само время тут идет по-другому, мир становится иным. В этот опасный и зыбкий период зимней тьмы, чтобы восстановить желанный порядок, приблизить наступление света, надо есть определенную еду, надо одеваться, изображая из себя предков, надо объедаться, зажигать фонарики, и таким образом как бы колдовать, чтобы мир продолжился.
И на самом деле в русских деревнях были обряды, очень похожие на те, что мы видим в Сатурналиях или Йоле, только с российской спецификой.
На Святки в былые времена любили одеваться медведем. Кто такой медведь? Это древний тотем, хозяин леса. Или козлом. А кто такой козел? Это божество плодородия (вспомним греческого Пана, вспомним бога Диониса, которому служили козлоногие сатиры). Могли и просто вывернуть шубу – и уже так идти колядовать, изображая предка, тотем, мифического основателя рода.
Разжигали большие костры, и это называлось «греть предков» или «греть дедов» – ведь земля-то холодная зимой. Предполагается, что духи предков, которые в это время гуляют по земле, стоят невидимыми рядом с костром, греются и радуются, что их так уважают. А еще предкам на ночь оставляли ритуальную еду. И эта еда была очень похожа на ту, которую едят на поминках: белая кутья с яркими ягодами, а позже уже с изюмом – светлая, солнечная. Разжигая костры, мы также помогаем Солнцу набрать силу, оно же сейчас совсем слабенькое, день самый короткий.
Что еще происходит? На Святки (а позже на Рождество или Новый год) любят гадать. Мы все слыхали, как в балладе Жуковского гадала Светлана: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». Это тоже зимнее гадание: кто подберет башмачок, будет носить имя грядущего суженого. Кто такой суженый? Это будущий муж, тот, с кем девушка продолжит род. Понятно, что в XIX веке все это уже немножко смешно. Так слегка иронически выглядит гадание пушкинской Татьяны в «Евгении Онегине»: «Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон». Конечно, вероятность того, что суженого Татьяны будут звать Агафон, не так уж велика. Но все эти многочисленные гадания, – когда под песни вытаскивают кольца, когда смотрят в зеркало, что всегда кажется очень страшным при свете свечей, – почему они происходят именно в это время? Да потому что духи предков, приходящие к людям в это время, – вполне благодетельные. Они уже удовлетворены угощением, заботой, ряжеными, которые их изображают. И теперь, с одной стороны, можно попросить у них процветания, богатства, чтобы столько еды, как сейчас, было у нас всегда, и чтобы подарки нам дарили; а с другой стороны, можно попробовать с их помощью заглянуть в будущее: в тот момент, когда щелочка между мирами открыта, тут можно очень много всего узнать.
Но важными также являются ритуалы выпроваживания духов во время праздников. Их уже накормили на Рождество – а теперь, когда вы уже поели, ступайте к себе, возвращайтесь в свой мир.

Святочные гадания. Рождественская открытка. До 1917 г.
Дерево
На сезонные праздники, которые идут с древнейших времен, конечно, затем наложились более поздние христианские представления. И то, что Рождество отмечается именно в эти зимние дни, в этот переломный момент, естественно, не случайно. И в какие-то очень давние времена – нам трудно себе представить, насколько это было давно – такие праздники оказались связанными с деревьями. Деревья всегда были окружены почитанием и считались живыми существами: у дерева есть душа, в деревьях обитают духи. Это могут быть греческие дриады, это может быть леший, который обитает где-то среди деревьев. Это может быть просто дух дерева, и поэтому, срубая дерево, перед ним очень часто извиняются. Это так просто делать нельзя. А с другой стороны, деревья – это источник огня. Того самого огня, который горит на Рождество, во время Сатурналий или празднования Йоля. Это и рождественское полено. Опять же, все это – и душа дерева, и источник огня.
Но в то же время дерево – это не только огонь и живое существо, – это вертикаль, ось ординат мироздания. Это то, что специалисты по мифам и фольклору называют мировым древом, или древом жизни[17].
Подобных представлений было очень и очень много. Есть огромное количество сказок, где дерево – а иногда, скажем, какой-нибудь незатейливый горошек, – вдруг вырастает до самого неба. Это тоже волшебное дерево, по которому можно подняться и попасть в волшебные места.
И проявляется это в мировой культуре в самых разных воплощениях. Древо познания добра и зла, райское древо. Мы привыкли, что плод с Дерева познания – это яблоко (такое понимание, скорее всего, произошло на основании схожести латинских слов malum («зло») и mālum («яблоко»). В изобразительном искусстве есть бесчисленные изображения Евы, которая протягивает Адаму или уговаривает его съесть яблоко. Однако нигде не написано, что это был за плод. Споры об этом не прекращаются, по этому поводу были самые разные представления, на роль этого растения предлагали пшеницу, виноград, цитрон, инжир. Но было в раю и второе дерево – дерево жизни. Про него и вовсе ничего не понятно, но очень часто символом этого дерева считали ель. Разумеется, неслучайно у Толкина появились энты – могучие, хоть и медленно соображающие живые деревья, – естественно, у дерева другой ход времени, совсем другие представления о том, что быстро, а что нет. И, конечно, эти деревья выступают на стороне живых, на стороне добра. Потому что это дерево, это жизнь. Такие представления были очень-очень давно.
Мы не знаем, украшали ли ель на свои зимние праздники древние германцы или скандинавы. Но вполне можно предположить, что что-то в этом роде происходило. Во всяком случае, поклонение деревьям было везде. Но мы понимаем, что где-то в Средние века возникает представление о том, что можно украсить дерево. Если мы говорим о Европе, то это, прежде всего, ель как вечнозеленое растение, как символ бессмертия и вечной жизни. К тому же ель высокая, уходящая куда-то в небо, – типичное представление о Древе жизни. Кстати, перекликающееся с изображениями в самых разных культурах, даже далеко не христианских – например, восточных – креста, который превращается в растущее, расцветающее дерево. Или креста, который пускает корни. И в изображениях креста на Голгофе он как будто бы иногда стоит на ножках, – на самом деле, конечно, это корни, которые он пускает. А есть замечательные изображения креста на Русском Севере – покрытого цветами, ветвями. Так показывается ожившее дерево – символ возрождения.
Есть замечательная дата, которую условно можно считать началом украшения рождественской елки, хотя ясно, что на самом деле это не начало. Сохранился документ, который был написан в 1521 году в эльзасском городе Селеста, где имеется запись с распоряжением выплатить 4 шиллинга леснику за заботу о елках, начиная со дня Св. Томаса (21 декабря). Понятно, что это не подлинная дата рождения традиции. Очевидно, что она уже существовала и раньше, но перед нами – первое упоминание о ней. Мы понимаем, что в то время в германских землях елки уже украшали.
Есть также легенда, которая гласит, что Мартин Лютер – а он как раз жил в это время – первым придумал украшать елку огоньками. Что таким образом он хотел показать величие божьего творения. Что он увидел звездное небо и решил: пусть огонечки на елке всегда напоминают христианам о величии Бога, создавшего этот прекрасный мир, и небо со звездами. Может быть, и так, но документально это не подтверждено. Во всяком случае, сам Лютер, наверное, рассердился бы, если бы услышал, что воспроизводит древние языческие обычаи зажигания многочисленных огней в зимние праздники. Он не был любителем языческих развлечений. Но он, конечно, действительно переосмыслил древний обряд (если это и впрямь его рук дело), и елочки стали украшать свечками. Так же, как и сегодня мы украшаем огоньками вечнозеленые деревья.

Рождественская ёлка
В первую очередь этот обычай прижился в протестантских странах, отчасти как противопоставление смиренного деревца роскошному убранству католических церквей с их огромным количеством украшений.

Е. М. Бём. Новогодняя дореволюционная открытка. Начало XX в.
Примерно до середины XIX века рождественская елка оставалась преимущественно немецким обычаем, распространяясь постепенно по другим странам, где оказывалось много немецких поселенцев – как, скажем, в Санкт-Петербурге, где с XVIII века было достаточно много немцев. При этом в России в послепетровскую эпоху символическое значение ели было амбивалентно и еловые ветки использовались в двух вариантах. Один вариант делал елочку новогодним праздничным деревом, а второй связан с другими очень древними представлениями (хотя ясно, что об этом не помнили): еловые ветви могли класть на гроб или устилать ими дорогу, по которой несли гроб. И это, конечно, тоже воспоминание о том, что ель вроде как не умирает – она вечнозеленая. И отсюда удивительные на сегодняшний взгляд выражения, связанные с елками: «смотреть под елку» означало вовсе не поиск подарочков под елкой (да их там пока и не было), а тяжелую болезнь и ожидание скорой кончины. Это же значение видно в выражении «угодить под елку». Так елки выполняли свою функцию мирового древа, связывающего земное и потустороннее, смерть и возрождение, вечное обращение и обновление годового цикла.
Вертепы
Параллельно с украшением елок распространялась другая традиция, которая получила огромное, поразительное развитие прежде всего в католических странах, а потом уже и за пределами католического мира. Это традиция рождественских вертепов, которые могли представлять собой кукольные композиции: фигурки, изображающие Деву Марию, Иосифа, младенца Христа, животных – быка, осла, которые смотрят на лежащего в яслях родившегося ребенка; волхвов, принесших дары. Эти вертепы в разных странах могут достигать невероятных размеров и редкостного совершенства, а могут быть совсем маленькими и бесхитростными. Многие, наверное, видели на Рождество и сегодня в католических церквях монументальные инсталляции невероятной красоты.
В Польше, Чехии есть традиция создания не обязательно огромных, но очень красивых архитектурных изображений. Считается, что это город Вифлеем, где произошло Рождество, и в композицию включали готические соборы или местные интересные здания. А на юге Франции, в Провансе, – такие композиции назывались и называются сантоны, «маленькие святые», – здесь делали фигурочки святых. А потом стали делать и прочих обитателей деревни – рыбака, крестьянина, ремесленника, пастуха, и все это народное искусство условно объединяется темой Рождества.
Несколько лет назад во французском городе Каркассон проходила выставка рождественских вертепов, на которую привезли вертепы из Перу, Боливии, Африки, из европейских стран. Они были из самых разных материалов, совершенно разные обличья придавались и святому семейству, и животным вокруг – потрясающее собрание похожих вещей со всего мира, лишний раз напоминающее о единстве человечества.
А об руку с традицией игрушечных вертепов – маленьких, больших или огромных – идет традиция живых вертепов. И считается, что первый живой вертеп – то, что мы назвали бы сегодня живой картиной или пантомимой, – осуществил ни много ни мало как сам святой Франциск Ассизский в XIII веке. Мы знаем, что святой Франциск Ассизский проповедовал птицам, убеждал волка, что тому нужно себя хорошо вести; и вообще, свою любовь к божьему творению не ограничивал людьми, но изливал на животный мир тоже. И вот он обратился к людям и животным и поручил им воспроизвести картину Рождества Христова, чтобы все верующие это видели и тоже радовались.
И с тех пор это очень часто делали и продолжают делать в разных местах. Где-то это была просто живая картина на сельской площади, где-то существовала традиция шествий, когда люди, изображавшие Марию, Иосифа и младенца Христа, шли по деревне, как будто бы по Вифлеему. И просили, чтоб их пустили переночевать, воспроизводя таким образом библейский сюжет бездомности Святого семейства. И вот они идут по деревне, просят. Им говорят: у нас нет мест, идите дальше-дальше-дальше. Они доходят до церкви, и тут уже установлены хлев и ясли, в которых явился на свет Спаситель.

Рождение Иисуса. Дева Мария, Иосиф и младенец Христос
И эти замечательные традиции удивительным образом живут. Несколько лет назад произошел страшный скандал, когда в Лондонском музее восковых фигур мадам Тюссо был сделан вертеп. Там фигуры знаменитостей Дэвида и Виктории Бэкхем изображали Марию и Иосифа (что вызвало особое возмущение), певица Кайли Миноуг была ангелом; были волхвы в виде тогдашнего премьер-министра Тони Блэра, президента Джорджа Буша и герцога Эдинбургского, мужа королевы. Пастухи, тоже явившиеся поклониться младенцу, были в виде английского актера Хью Гранта, Сэмюэла Л. Джексона – они же пришли из разных стран – и знаменитого ведущего комедийного шоу Грэма Нортона. Был большой скандал, представители разных христианских конфессий заявили, что это дурная шутка. Музей извинялся, администрация говорила, что они не хотели никого обидеть. И я уверена, это действительно так. Более того – за столь странными рождественскими играми и шутками тоже стоит длинная-длинная традиция.
Рождество
Что такое празднование Рождества примерно с XIX века и до наших дней[18]? С одной стороны, все примерно одно и то же: горят огни, обязательны обильные угощения и подарки, которые в христианской традиции напоминают о дарах волхвов. А в то же время это, конечно, воспоминания о многочисленных подарках, которые дарились в разных культурах с архаических времен, символизируя и заклиная изобилием.
Рождество все больше воспринимается как семейный и детский праздник. Хороводы вокруг елки, игры, пляски. На елке, кстати, как на Древе жизни, висят яблоки, орехи, конфеты или их изображения. Здесь есть игрушки, свечки, огонечки, а есть и что-то съедобное, сладкое. Где-то иногда позволяли срывать игрушки с елки (это называлось ощипывание елки), остатки елки уносят – где-то буквально на следующий день, где-то, осыпавшиеся и засохшие, недели спустя. Все. В целом это очень напоминает жертвоприношение и языческое пиршество вокруг этой елки[19].
В XIX веке вокруг рождественских елок возникает своя мифология. Например, связанная с Гофманом и его повестью «Щелкунчик и Мышиный король». На самом деле Гофман блистательно придумывает, но не на пустом месте. Рождество – это время, когда оживают разные волшебные существа. Они могут быть злыми или добрыми; идет борьба с хтоническими силами, битва света и тьмы, добро, конечно, побеждает, но добру надо помочь. И «Щелкунчик», собственно, об этом.
Еще один мотив, который возникает в XIX веке, а в XX заметно усиливается, – это животный мир вокруг елки, всякие милые зверушки. Да, там обязательно будет скакать «трусишка зайка серенький», ежик, медвежонок или большой медведь, лисичка. Потом уже начнут делать елочные игрушки в виде этих зверушек. В западной традиции Дед Мороз / Санта Клаус будет приезжать на оленях. Иногда этот зверинец приобретает невероятно слащавые формы. А между тем, конечно, это тоже реликт древних представлений о волшебных существах – мощных и грозных тотемах, волшебных предках, выходивших из леса. Трудно себе представить, глядя на мальчика-зайчика в детском саду, что это воспоминания о древних языческих верованиях. Но, как ни странно, это так.
Параллельно развивается идея о том, что Рождество – это время, когда надо делать добро. В какой-то мере ее творцом можно назвать Чарльза Диккенса, который 19 декабря 1843 года опубликовал повесть «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями». Он рассказал историю об ужасном скряге по имени Эбенизер Скрудж, который совершенно не хочет праздновать Рождество, беспощаден к своему работнику, безразличен к родным. И вот ему является сначала призрак его бывшего компаньона в цепях и сообщает, что Скрудж теперь обречен на наказание именно потому, что никогда не праздновал Рождество, а всегда думал только о деньгах. Ему являются призраки былого Рождества, его молодости, которую он загубил ради денег, когда отказался от любви и радости. Он видит призрак сегодняшнего Рождества и призрак Рождества будущего, где хоронят какого-то мерзкого, никому не нужного скрягу, которого никто не оплакивает, – его самого.
И в результате, как теперь известно читателям на всех языках, Эбенизер Скрудж совершенно преображается: уже на следующий день он становится добрым, щедрым, веселым – в общем, переживает вполне рождественское чудо нового рождения.
Сокрушительное воздействие на многие поколения людей окажет сказка Андерсена «Девочка со спичками» о маленькой несчастной продавщице спичек, которая становится жертвой человеческой холодности, замерзая в рождественскую ночь. Следом был «Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского, а дальше пошла просто череда несчастных мальчиков и девочек – замерзающих, голодающих, тоскующих, рыдающих, обделенных дарами Рождества. И, конечно, этот образ довольно сильно обесценился за счет невероятного количества подражателей. Но сама идея о том, что во время праздника – тем более такого праздника жизни, возрождения, радости и света, – не должно быть страдающих людей, наверное, не может быть обесценена.
Так или иначе, с памятью о древних корнях или полным забвением их, празднование Рождества и Нового года в условно западной культуре остается одним из важнейших объединяющих ритуалов.
Дед Мороз
Другая часть рождественских и новогодних праздников, которая формируется в XIX веке, а невероятно расцветает в XX, – это, естественно, образ Деда Мороза. Или Санта-Клауса, или Пер-Ноэля во Франции, Йоулупукки в Финляндии, Святого Николая в Германии и многих других. Некий дедушка, который приносит подарки. С одной стороны, как мы знаем, образ Санта-Клауса восходит к христианской истории о святом Николае, епископе Мирликийском, который совершил много разных чудес и невероятно почитался и почитается сегодня во всем христианском мире. И если посмотреть на иконы, на которых изображен святой Николай, то он будет в епископском одеянии, а не в красной шубе, с красным носом. Но у него при этом будут белые седые волосы, напоминающие Санта-Клауса. Говорят, что в деревнях иногда боялись называть ребенка Николаем, потому что это слишком значимое, святое имя, – страшно, что «Никола приберет». Утверждалось даже, что якобы были крестьяне, которые считали, что Троица на самом деле – это Христос, Дева Мария и Николай Угодник. То есть Никола всегда был окружен высочайшим почитанием.
И среди многочисленных легенд о его подвигах, спасении людей, путешествующих моряков и так далее – знаменитая история о трех благочестивых девицах-сестрах, которые настолько обеднели, что уже были готовы торговать своим телом. Но Николай спас их, подбросив деньги в их чулочки, которые сушились у очага, – у бедняжек не было возможности купить лишнюю пару чулок, и они вечером стирали и вешали их. И вот он подбрасывает им кошельки с деньгами и таким образом спасает их от падения. Отсюда все те многочисленные чулки или башмаки, которые ставят у елки или у камина (иногда считается, что он подбросил свой дар в печную трубу).
А может быть, это воспоминание о волшебном огне в магическом древнем очаге. И отсюда идет Санта Клаус, Синтерклаас в Голландии и Бельгии, Николаус в Германии, где, кстати, отдельно существует очень важный детский праздник – День святого Николая, когда в ночь на шестое декабря приходит святой Николай и бросает детям из темной комнаты остроконечный пакет со сладостями и орехами. При этом – что немного пугает и шокирует людей, находящихся вне этой традиции, – очень часто в Германии и Голландии вместе с ним ходит Крампус, настоящий черт, мохнатый, с рогами и хвостом, или Черный Пит, его слуга. Помощник, который приходит к непослушным детям, может их побить и даже положить в мешок, унести с собой и съесть, – назидательная составляющая образа святого Николая, который постепенно во всем мире становится все более добрым дедушкой – покровителем детей.

Дед Мороз со Снегурочкой. Открытка
Российский Дед Мороз возник не раньше конца XVIII – начала XIX века. Так, писатель Александр Одоевский, обрабатывавший в XIX веке фольклорные сюжеты, называет свою сказку «Мороз Иванович», поскольку в народной поэтике еще нет никакого Деда Мороза, но есть некий дед, некий Мороз. Конечно, он хозяин леса, и он дед, но он вовсе не дедушка в нашем сегодняшнем значении – он дед в том смысле, какой имеет слово «дзяды», предки. Он тот же волшебный предок, который приходит нам помочь, наградить. И у него, конечно, тоже будут седые волосы и борода, и он будет воплощением леса, и ему только в XX веке предстоит претвориться в Деда Мороза. В советское время у него появилась внучка Снегурочка, которую взяли из сказки Островского. Но у Островского она была совершенно другим персонажем: дочерью Мороза и Весны, истаявшей от любви при попытке сблизиться с решительно чуждым ей племенем людей. Наша Снегурочка не тает, она просто приходит с Дедом Морозом, раздает подарки и потом куда-то исчезает. Очевидно, готовить эти подарки. Но это уже мифы советского времени. Хотя Снегурочка иногда появлялась еще в XIX веке.

Санта-Клаус. Винтажная иллюстрация
В советское время зимние праздники отменяли, возвращали, делали официальными, трансформировали, меняли их сроки, атрибутику и семантику. Вырабатывалась некая новая мифология, которая замешана на старой, но с добавлениями. Есть Дедушка Мороз, а заодно уж и Санта Клаус, есть Снегурочка, новогодний балет «Щелкунчик», есть елка в Кремле, елки в детских садах, школах, на площадях, есть сезон новогодних распродаж, есть елки дома.

В. М. Васнецов. Дед Мороз. Эскиз костюма к опере «Снегурочка». 1885 г.
Празднование начинается с католического Рождества и дальше идет к Новому году, и к православному Рождеству, и к Старому Новому году. А до этого еще есть еврейская Ханука, и Святки, и корпоративы, которые, конечно, воспроизводят ритуальное обжорство и радость дарения подарков. А если представить себе начальников, которые вдруг сидят за одним столом с подчиненными, – не напоминает ли это нам о римских Сатурналиях?
Как бы то ни было, традиция зимних праздников, слава богу, осталась. Пережила множество изменений, войн, революций, но эти праздники с нами. И это прекрасно. И мы будем продолжать в любой форме, по правилам любой религии или без всякой религии отмечать эти замечательные праздники – как победу света над тьмой и тепла над холодом, дня над ночью, победу добра над злом. И радоваться жизни, и приносить дары, и поздравлять друг друга.
- Победы и беды России
- 1917. Две революции – два проекта
- США во Второй мировой войне. Мифы и реальность
- Поражения, которых могло не быть. Эпоха мировых войн
- Хроника белого террора в России. Репрессии и самосуды (1917–1920 гг.)
- Большая игра. Британия и США против России
- Европа между Рузвельтом и Сталиным. 1941–1945 гг.
- Николай II. Святой или кровавый?
- «Черта оседлости» и русская революция
- Российское обществоведение: становление, методология, кризис
- Бунт и смута на Руси
- Тайны древних цивилизаций
- Религия и мифология